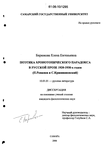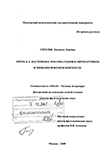Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Писательский мир и миры персонажей: лирическая поэтика малых форм . 26
1.1.Феномен отсутствия: «Неизвестный друг», «Визитные карточки», «Речной трактир» 27
1.1.1.Новелла в «письмах без ответа» как образ «мира без меня»: «Неизвестный друг» . 27
1.1.2. Сюжет писатель и Незнакомка: «Визитные карточки» 39
1.1.3. Сюжет барышня и символист: «Речной трактир» 53
1.2. Человеческое и морское: от рассказов «В ночном море» и «Бернар» к новеллам «Темных аллей» 69
1.2.1. «В ночном море»: между элегией и притчей, «за» и «против» отчуждения 71
1.2.2. «Бернар» и «Воды многие»: мопассановские герои и пейзажи у Бунина 83
1.2.3. «Свободная стихия» персонажей: «Жизнь Арсеньева», «Генрих», «Галя Ганская» . 92
Глава II. Авторское «я» в лирических формах: биографическое и поэтическое 112
2.1. «Некто Ивлев»: возвращающийся персонаж Бунина 113
2.1.1. Темпоральная пластика рассказа «Грамматики любви» 114
2.1.2. Автоперсонаж и онейрическое пространство: «Зимний сон» 73
2.1.3. Прозаическая баллада Бунина: «В некотором царстве».. 147
2.2. Бунинский тезаурус смерти (кладбищенский локус, пейзаж, контрарные мотивы, композиционные модели, исторические и биографические аллюзии) 166
2.2.1. Метафора огня и смерть: «Аглая», «Огнь пожирающий», «Богиня разума» 167
2.2.2. Из Парижа – в город мечты и воображения: «Поздний час» . 197
Глава III. Историософия Бунина в философско-теоретическом контексте начала XX века 224
3.1. Элегия в прозе: «Несрочная весна» . 225
3.1.1. «Несрочная весна» и «Путешествие в замок Сирей» Батюшкова: пасторальная гармония и руины революции . 230
3.1.2. «Несрочная весна» и «Развалины» Державина: «во славу и честь Державы Российская» . 239
3.1.3. «Несрочная весна» и «Запустение» Боратынского: «к роду отцов своих» 245
3.1.4. Элегия vs биография . 253
3.2. Между повестью и рассказом: «Чаша жизни» И.А. Бунина 257
3.2.1. Сюжетная редукция 258
3.2.2. Притча о сингуляризме и универсальности . 261
3.3. «Меняющаяся неподвижность» Бунина в связи с представлениями об истории, лирическом сюжете и времени – от А. Бергсона и С. Франка к Б. Эйхенбауму 269
Заключение . 293
Список цитируемой литературы 304
- Человеческое и морское: от рассказов «В ночном море» и «Бернар» к новеллам «Темных аллей»
- Темпоральная пластика рассказа «Грамматики любви»
- Из Парижа – в город мечты и воображения: «Поздний час»
- «Несрочная весна» и «Запустение» Боратынского: «к роду отцов своих»
Введение к работе
Диссертация посвящена исследованию лирической поэтики И.А. Бунина 1920-х гг. Ключевыми при этом оказываются тексты, созданные писателем в 1923 г., который является, по нашему мнению, важным, но до сих пор недооцененным моментом в становлении новой, постреволюционной, поэтики Бунина. Начальной вехой этого становления принято считать повесть «Митина любовь» (напечатанную в «Современных записках» за 1925 г.). Именно она дала повод критикам – таким, как П. Бицилли, Г. Брандес, Ф. Степун, надеяться, что с отъездом из России творческая биография Бунина не закончилась, а стиль писателя приобрел новые качества. В первых рассказах, написанных в Грассе, столь явно доминирует лирическое начало, что «Неизвестный друг», «В ночном море», «В некотором царстве», «Огнь пожирающий» и «Несрочная весна» представляются нам неким аналогом циклического единства, объединенным мотивами, восходящими к русской романтической поэзии, и рядом сходных художественных приемов. Поместив эти рассказы в достаточно широкий контекст как раннего, так и позднего творчества Бунина, мы показали, что этот, условно говоря, цикл не менее эталонно, чем «Митина любовь», может представлять поэтику Бунина 1920-х-начала 1930-х гг. – лиризм мы выделили в качестве ее главного свойства. В этом отношении, имея в виду и материал, и подход, наша работа является в значительной мере новаторской, однако в ней, разумеется, были учтены результаты, достигнутые исследователями малых прозаических форм.
Двигаясь в направлении, предложенном В. Шмидом (см. его книгу «Проза как поэзия», где анализируются повести и рассказы Пушкина, Чехова, Бабеля, но не Бунина), мы обратили внимание на высокую плотность поэтических средств в рассказах Приморских Альп, одновременно учитывая, что исследователи Бунина уже отметили главные особенности его прозы, сближающие ее со стихотворными лирическими формами: «отказ от линейной композиции», «символика сцен и деталей», «ассоциативный принцип композиции», «монтаж», «богатый подтекст», «разнообразие ритмического рисунка», пейзаж, соединяющий «живописно-точное пластическое изображение с синтетической многозначностью» (И.С. Альберт), «динамическое взаимодействие разнородных элементов внутри жанра», обязательный для Бунина «ассоциативный фон», т.е. «круг мотивов, образов, идей, содержащих ключ к интерпретации произведения, и жанровый контекст», «разнообразие хронотопов и их условность»; «сложные связи между предметно-событийными и ассоциативно-ритмическими планами» (М.С. Штерн). Мы использовали те же подходы, но при этом для нас особенно важна была краткость рассказов Бунина, их небольшой объем, чреватый лакунностью, сюжетной пунктирностью, семантическими провалами, поскольку лирическая концентрация коррелируется малой формой произведения.
В связи с поэтизацией и лиризацией прозаической речи чаще всего говорят о ритме, понимая его и как непосредственную ритмичность фраз в лирической прозе (Ю.Б. Орлицкий), и как композиционную основу построения произведения. Кроме того, в лирической прозе художественное единство обеспечивается не сюжетно-событийной динамикой, а эмоционально-поэтическим движением, внутренне согласовывающим все уровни текста. Через «я» словесное произведение малого объема и описательного характера получает лирическую окраску, уподобляясь живописной картине, музейному экспонату, требующему долгого внимания к каждой детали, к каждой вещи. Испытывая влияние стихотворных форм, проза XX в., в особенности лирическая, укрупняет фигуру автора и всю авторскую сферу, позволяя говорить о поэтическом мире автора, делая тему творчества доминантной и преображая почти любой сюжет в метасюжет. Все это характерно не только для Бунина, но и для В. Набокова, А. Белого и некоторых других их современников. Поэтому мы отвели довольно много места различным формам автоописания, образам писателей мотивам письма, библиотеки, чтения в рассказах Бунина (этому целиком посвящены первая глава и отдельные фрагменты второй и третьей глав).
Мы поместили рассказы 1923 года в инвариантный контекст, векторы которого направлены как к дореволюционной прозе Бунина, так и к позднему циклу «Темные аллеи». Высокая инвариантная плотность художественного мира Бунина порождена сильно выдвинутой позицией того, кто стоит в центре лирического дискурса. Один из пяти текстов – «В некотором царстве» – фамилией главного героя («Ивлев») оказался связанным с более ранними рассказами: «Грамматикой любви» (1915) и «Зимним сном» (1918). Во второй главе мы рассмотрели «ивлевский» триптих как единую конструкцию, которая проявляет основную особенность бунинского лиризма: каждый текст выходит за свои пределы, «расплывается», отражается в других, варьирует их сюжеты, мотивы и приемы. Несобранный «ивлевский» цикл образует «вертикальное сечение» к последовательной «пятерке» Приморских Альп. Подобных Ивлеву «бродячих персонажей» нет в других рассказах Приморских Альп, но и они, благодаря другим своим лирическим чертам, тоже притягивают к себе как более ранние, дореволюционные, так и более поздние, эмигрантские тексты.
Не только в описательности и метасюжетности видели исследователи основу лирической природы прозы Бунина. Тема и образы памяти, воспоминаний определяет бунинский стиль. Память – это та ментальная материя, погружение в которую укрупняет позиции авторского «я», но вместе с тем его и нивелирует, обеспечивая выход за его пределы. «Материя памяти» в прозе XX в. обычно описывается с опорой на философию А. Бергсона, изменившую представления о времени и позволившую художественный текст и его чтение воспринимать как игру проспективного и ретроспективного движения. Игра перспективного и ретроспективного исключает тождество уровней и элементов, зато заменяет его неисчерпаемой комбинаторикой соположений, а это означает, что повторяющийся инвариант, лежащий в основе художественного мира каждого писателя, парадоксальным образом неповторим, хотя, казалось бы, бесконечно возвращается в различных вариациях и узнается читателем как уже знакомый. Процесс мнемотического самоуглубления и одновременного самоотчуждения в прозе Бунина подробно рассматривался в монографических исследованиях Б.В. Аверина, И.С. Альберт, Ю.В. Мальцева, О.В. Сливицкой и других буниноведов, но мы не могли не вернуться еще раз к этому неисчерпаемому вопросу в связи с конкретными, выбранными нами из прозы Приморских Альп, примерами. «Неповторимая повторяемость» – так можно было бы определить показанную нами на примерах бунинских текстов поэтическую вариативность, обусловленную тем, что лирическому «захвату», способности лирических тем умножаться и «расплываться» соответствует другое, совершенно противоположное свойство лирической формы – концентрация.
Отмечая параллелизм, сходство отдельных бунинских тем, приемов и мотивов, мы вместе с тем старались с наибольшей подробностью остановиться на каждом примере в отдельности. Подробное аналитическое описание кажется нам аутентичной литературоведческой формой исследования лирической поэтики. Чтобы пройти на всю глубину текста, мы старались работать не только на уровне поэтики, но микропоэтики, пытаясь достичь едва ли не асемантических его (текста) пластов.
Несмотря на то, что словесный план лирической прозы, как и словесный план стихов, превосходит план сюжетный, лирический дискурс любого типа не превращается в отвлеченную абстракцию. Утрачивается референциальность, но не экзистенциальное чувство, поскольку в лирическом тексте энергетическое воздействие слова успешно конкурирует с сюжетным правдоподобием, с сюжетной иллюзией реальности. Иначе говоря, усиление парадигмаческих отношений в тексте лирического типа «остраняет» связи синтагматические. Эту мысль мы подробно развиваем в связи с известной и популярной у исследователей темой бунинского автобиографизма (в различных аспектах ею занимались Б.В. Аверин, Л.А. Иезуитова, Т.В. Краснова, М.А. Кулабухова, Ю. Мальцев, М.С. Штерн и др.).
Констатируя автобиографический наклон бунинского лиризма, мы обращаем внимание на то, что все пять рассматриваемых нами текстов имеют затекстовый топоним и дату «Приморские Альпы. 1923». Эта надпись полноправно входит в текст рассказов, углубляя их ведущие темы и открывая автобиографический ракурс, дающий возможность восстановить и дореволюционную, и эмигрантскую судьбу автора, излюбленные бунинские топонимы и т.п. Разумеется, лирическая проза позволяет реконструировать не внешнюю, а внутреннюю биографию писателя, однако на фоне лирической суггестии конкретные «живые» детали биографии писателя видятся и ярче, и значительнее. Предлагая свои аналитические описания текстов Бунина, мы сделали упор на совмещении в лирической стилистике Бунина поэтической универсальности с точным знанием реальных ландшафтно-географических подробностей, с абсолютной памятью вещей, деталей, обликов, которую неизменно ценила современная Бунину критика (П. Бицилли, В. Вейдле, Ф. Степун и мн. др.).
На основе проведенных анализов конкретных текстов мы сделали ряд теоретических обобщений, которые расширяют и обновляют представления о поэтике И.А. Бунина, а заодно и о теории лиризма, как она была разработана на русской почве современными теоретиками литературы (С.Н. Бройтман, Л.Я. Гинзбург, О.В. Зырянов, Б.О. Корман, Т.И. Сильман, Н.Д. Тамарченко, Ю.Н. Чумаков и др.). Выводы о свойствах и функциях лирических форм у Бунина также привели нас к идее еще более широкого контекста, в котором можно было бы рассмотреть его творчество. Это – философский и теоретический контекст, позволяющий выявлять не только формы, но и функции лиризма. Современные Бунину философы и теоретики литературы: С.Л. Франк, Б.М. Эйхенбаум и Ю.Н. Тынянов, размышляли о проблемах пространства и времени, истории, памяти, о вопросах поэтического языка, личности автора и лиризме.
При самом напряженном интересе к проблемам лирической природы прозаического текста (и в частности, к текстам Бунина), к мотивам и образам памяти у Бунина, к автобиографизму его прозы, можно констатировать недостаточную изученность комплексных взаимосвязей между лирической мотивикой, сюжетно-композиционным построением лирической прозы и конструированием в ней авторского «я». Эти разные уровни мы рассматриваем синхронно, устанавливаем между ними взаимосвязи и взаимозависимости методом погружения в микропоэтику пяти рассказов Приморских Альп. Комплексный подход достигается и тем, что формы и функции бунинского лиризма 1920-х гг. демонстрируются на фоне теоретических проблем лирической композиции, лирической сюжетики, авторского лица и художественного времени, в чем и состоит актуальность нашего исследования.
Новизна диссертационной работы определяется тем, что в ней впервые пять рассказов 1923 г. подвергаются комплексному анализу, результаты анализа позволяют считать эти тексты аналогом циклического единства, в полной мере отражающим главные особенности новой, лирической поэтики Бунина 1920-х гг. Эти особенности определяются общими механизмами конструирования авторской инстанции, плотным подтекстом романтической лирики, лапидарностью формы, ее насыщенностью минус-приемами, синкретизмом, проявляющимся на всех уровнях поэтики. Впервые предпринятое подробное аналитическое описание малых прозаических форм Бунина позволяет также сделать теоретические выводы о том, что лирическая природа малых прозаических форм обусловлена подвижностью границ лирического «я» и его нерасторжимой связью со всеми уровнями микроструктуры текста.
Объектом исследования являются рассказы И.А. Бунина, написанные в 1920-х гг., при этом каждый из рассказов 1920-х гг. рассматривается в инвариантном контексте эмигрантского и частично дореволюционного творчества И.А. Бунина. Инвариантный контекст определяется общностью мотивики, подтекста, а также общностью лирических приемов, в основе которых лежит синекдохическое замещение.
Предмет исследования – формы и функции лиризма в нестихотворных текстах И.А. Бунина, определяющие поэтику Бунина 1920-х гг.
Материал исследования составляют пять рассказов И.А. Бунина 1923 г. («Неизвестный друг», «В ночном море», «В некотором царстве», «Огнь пожирающий», «Несрочная весна»), рассмотренные на фоне художественной и публицистической прозы писателя («Окаянные дни», «Жизнь Арсеньева», «Чаша жизни», «Грамматика любви», «Аглая», «Зимний сон», «Воды многие», «Богиня Разума», «Речной трактир», «Визитные карточки», «Генрих», «Галя Ганская», «Бернар»).
Цель исследования – анализ микропоэтики рассказов Бунина 1920-х гг., раскрывающий лирическую природу каждого отдельного текста и лирическую природу малых форм Бунина в целом. Анализ микропоэтики рассказов Приморских Альп направлен также на то, чтобы доказать, что 1923 год в творчестве Бунина дает образцы новой лирической поэтики, характеризующейся высокой инвариантностью.
Цель определила конкретные задачи:
-
рассмотреть рассказы 1923 г. как единый конструкт, своего рода аналог цикла, позволяющий выявить ряд ключевых лирических тем и приемов лиризации в творчестве И.А. Бунина;
-
указать на лирические, а конкретнее – на элегико-балладные, подтексты рассказов Приморских Альп;
-
аналитически описать несобранный «ивлевский» цикл в аспекте лирической формы, что позволяет исследовать особенности лирической контекстуальности Бунина;
-
путем обзора лирического контекста каждого из рассказов продемонстрировать разнообразие и взаимосвязь лирических приемов, характерных для малых прозаических форм, к которым принадлежат пять рассказов 1923 г.;
-
в качестве основного метода работы над прозаическими миниатюрами лирической природы предложить анализ микропоэтики художественного текста, позволяющий достичь глубинных слоев микроструктуры;
-
рассмотреть метауровень рассказов Приморских Альп и осмыслить его роль в малых формах лирической прозы;
-
исследовать природу авторского «я» в лирической прозе Бунина;
-
представить отдельные теоретические аспекты, поясняющие природу и функции лиризма в малых прозаических формах XX в., связанные, прежде всего, с литературоведческими представлениями о художественном времени и лирическом сюжете.
Методологическая основа диссертации строится на историко-теоретической базе, она ориентирована на теоретические работы Ю.Н. Тынянова, Б.М. Эйхенбаума, О. Ханзен-Леве, Ю.Н. Чумакова, Дж. Кертиса, Я. Левченко и др., связанные с вопросами лирического сюжета, лирической природы, лирического героя, лирической композиции в теории формализма.
Образуя особый раздел, теоретические выводы нашей работы базируются на исследованиях по поэтике лирической прозы и поэтике Бунина – от критики (П. Бицилли, В. Вейдле, М. Слоним, Ф. Степун,) и до современного литературоведения (Б.В. Аверин, И.С. Альберт, Ю. Мальцев, О.В. Сливицкая, М.С. Штерн и др.), изучающего лирическую поэтику Бунина в связи с проблемами теории памяти и сознания, автобиографизма, образа автора, теории повествования, лирическими мотивами.
Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в выявлении в творчестве И.А. Бунина несобранных лирических циклов, позволяющих определить ведущие черты лирической поэтики Бунина 1920-х гг.; в обнаружении конкретных лирических приемов (таких, как минус-приемы, лирическая концентрация, сюжетный пунктир, автоперсонажность и др.) и закономерностей их сочетаемости, характерных для рассказов 1920-х гг.; в углублении общих представлений о формах и функциях лиризма, обусловленных лирической природой рассматриваемых в диссертации прозаических текстов и способами выражения в них авторского «я»; в разностороннем теоретическом осмыслении проблем лирического времени-пространства малых прозаических форм. Опираясь на конкретные аналитические описания пяти рассказов Бунина 1923-х гг., все полученные в ходе исследования выводы подразумевают обновление общетеоретических представлений о художественном лиризме.
Научно-практическая значимость исследования. Материал диссертационной работы может быть использован в учебно-педагогической практике: в вузовском преподавании при проведении занятий по курсу истории русской литературы первой половины XX в., при чтении спецкурсов по творчеству Бунина, при подготовке практических занятий, развивающих у студентов навыки самостоятельного анализа малых лирических форм.
Основная научная гипотеза, вынесенная на защиту. Являясь органичной частью процесса лиризации русской прозы начала XX в., творчество Бунина характеризуется высокой подвижностью границы между автором внутри и автором вне текста, подвижность границ авторского «я» определяет большое разнообразие лирических форм, выявляющихся в поэтике Бунина 1920-х гг.
Основные положения, выносимые на защиту:
-
Пять рассказов Приморских Альп («Неизвестный друг», «В ночном море», «В некотором царстве», «Огнь пожирающий», «Несрочная весна») – установленный нами на основе затекстового топонима и даты аналог циклического единства, позволяющий выявить основные формы лиризма в прозе И.А. Бунина 1920-х гг. Эти формы определяются лапидарностью прозаического текста, господством в нем описательного дискурса над повествовательным, насыщенностью лирическими мотивами, синкретизмом этих мотивов, а также сложной, многоаспектной инстанцией авторского «я», охватывающего все уровни структуры художественного текста и неотрывного от «я» биографического.
-
Рассказы Приморских Альп объединены элегико-балладными мотивами, источником которых является русская лирика XIX в.: элегическая поэзия Пушкина, Батюшкова, Боратынского, баллады и сказочный эпос Жуковского, общая элегическая и балладная топика. Элегико-балладный интертекст раздвигает границы текстов Бунина, аккумулируя в них стилистический опыт предшествующих эпох русской лирики, причем для Бунина в равной мере важна как «имперская» элегия XVIII в., так и романтическая элегия «домашнего круга» с ее усадебными мотивами и темой Heimkehr.
-
Центральный, наименее исследованный и наименьший по объему, из текстов 1923 г. – «В некотором царстве» изучен как часть несобранного «ивлевского цикла». Единство этого несобранного цикла устанавливается на основе имени главного героя – Ивлев, которое связывает рассказ «В нектором царстве» с «Грамматикой любви» (1915) и «Зимним сном» (1918). Ивлевский цикл – наиболее яркое проявление инвариантной сущности бунинского лиризма, дающее веское основание для исследования автоперсонажности бунинской прозы. Автоперсонаж позволяет наблюдать многогранную природу лирического героя, собирающего в себе множество состояний, в разной степени отчужденных от «я»: сон, воспоминания, мечты. В разной мере отчужденные от непосредственного «здесь и сейчас» состояния и формируют лирические художественные формы, для которых актуальна не событийность, а эмоциональная динамика.
-
Малые прозаические формы Бунина служат катализатором лирического, поскольку малая форма вынуждает к семантической концентрации, проявляющейся на всех уровнях текста. В работе доказывается, что в соответствии с увеличением семантической концентрации возрастает насыщенность текста минус-приемами. Развитая система минус-приемов обеспечивает высокий динамизм всех уровней текста, в том числе и авторского. Высокий динамический потенциал минус-поэтики уподобляет прозаический текст поэтическому, дает прозаическому тексту статус лирической формы.
-
Описание микропоэтики предлагается в работе как наиболее эффективный способ исследования малых форм лирической природы, этот способ использован при подходе к конкретным текстам. Микропоэтика способна зафиксировать и соотнести между собой большое количество симультанных признаков лирической формы, которая в отличие от эпической, не имеет линейных проекций, а одномоментно объединяет в себе разнонаправленные векторы.
-
Сюжет лирической прозы, образцы которой представлены пятью рассказами Приморских Альп, невозможен без активного смыслообразования в метаобласти, поскольку сюжетная событийность оказывается отодвинутой на второй план, а на первый план выдвигается словесная комбинаторика. Наблюдение процессов словесной комбинаторики позволяет изучать такие микродетали нестихотворного лирического текста, как заглавия, разного рода затекстовые обозначения, вставные фрагменты и цитаты, автобиографические отсылки и мн. др. Исследование метаобласти позволяет зафиксировать высокую контрастность между универсальной, поэтической символикой и документальными деталями, высокий контраст между этими противоположными областями характеризует лирические формы Бунина.
-
Функции художественного лиризма обеспечиваются онтологическим статусом лирики. В работе доказывается, что авторское лицо в лирической прозе (авторское лицо во многом аналогично лирическому герою в лирике) определяет модель отношений «я» со всем, ему внеположенным, как внутри конкретного поэтического мира, так и на уровне общекультурной ментальности, в которую включен писатель. Парадигма отношений «я» с миром формирует как темпорально-пространственную сторону поэтического мира конкретного писателя, так и историческое сознание его эпохи.
-
Историософия Бунина помещается в философско-теоретический контекст начала XX в. Концепция времени и истории формалистов, возникшая под влиянием А. Бергсона и С. Франка, соотносится с историософией Бунина в представлениях о «неподвижном» или отсутствующем времени, о «движущейся одновременности», о внутренней темпоральной динамике, передающейся через со- и взаимосоотнесенности различных составляющих художественного мира.
Апробация работы. Идеи и положения диссертационной работы излагались и обсуждались в докладах на ежегодных всероссийских научных конференциях «Сюжеты и мотивы русской литературы» (Новосибирск, Институт филологии СО РАН, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 гг.), на международном конгрессе «Русская словесность в мировом культурном контексте» (Москва, 2004 г.), на XI Международной конференции «Русский язык, литература и культура в общеевропейском пространстве ХХ века» (Познань, Польша, университет им. А. Мицкевича, 2005 г.), на всероссийской научной конференции «Нарративные традиции славянских литератур: повествовательные формы Средневековья и Нового времени» (Новосибирск, Институт филологии СО РАН, 2008 г.), на XII Международной конференции «Европейская русистика и современность», посвященной теме «Русский язык, литература и культура на рубеже веков: креативность и инновации при формировании интеркультурной компетенции в исследованиях, переводе и дидактике» (Познань, Польша, университет им. А. Мицкевича, 2009 г.), на III Международном симпозиуме «Русская словесность в мировом культурном контексте» (Москва, 2009 г.), на Международной научной конференции «От Бунина до Пастернака: русская литература в зарубежном восприятии (к юбилеям присуждения Нобелевской премии русским писателям)» (Москва, Дом Русского Зарубежья им. А. Солженицына, 2009 г.), на конференции-семинаре «Литературные герои и литературные модели поведения в литературе и в жизни» (С.-Петербург – Пушкинские Горы, 2010 г.), на II Международной конференции «Русский язык и литература в международном образовательном пространстве: современное состояние и перспективы» (К 55-летию преподавания русского языка в Испании) (Гранада, Испания, 2010 г.), на международной конференции «Иван Алексеевич Бунин (1870-1953). Жизнь и творчество. К 140-летию со дня рождения писателя» (Москва, Дом Русского Зарубежья им. А. Солженицына, 2010 г.), на конференции, организованной Американской ассоциацией преподавателей славистики и восточно-европейских языков: AATSEEL – American Association of Teachers of Slavic and East European Languages (Лос-Анджелес (Пасадина), Калифорния, США, 2011 г.), на Х Юбилейном Международном научном симпозиуме «Русский вектор в мировой литературе: Крымский контекст» (Саки, Украина, Крымский центр гуманитарных исследований, 2011 г.), на Первых московских Анциферовских чтениях (Москва, ИМЛИ, 2012), в ходе проведения творческой мастерской «Метафизика И.А. Бунина: рассказ «Чаша жизни» в контексте прозы 1909-1914-х годов» (Воронеж, Воронежский государственный университет, 2012 г.), на IV Всероссийской конференции с международным участием «Универсалии русской литературы» (Воронеж, Воронежский государственный университет, 2012 г.), на Всероссийской конференции с международным участием «Сюжетно-мотивная динамика художественного текста» (ИФЛ СО РАН, г. Новосибирск, 2013 г.), на научном семинаре, посвященном памяти профессора НГПУ Н.Е. Меднис (НГПУ, 2013), на конференции-семинаре, посвященной памяти О.Н. Михайлова и А.К. Бабореко (Москва, Дом Русского Зарубежья им. А. Солженицына, 2013 г.), на Международном конгрессе, посвященном 100-летию русской формальной школы «Русский формализм» (ВШЭ-РГГУ, Москва, 2013).
Структура работы. Диссертация состоит из Введения, трех глав, Заключения, Списка цитируемой литературы, насчитывающего более 250 наименований.
Человеческое и морское: от рассказов «В ночном море» и «Бернар» к новеллам «Темных аллей»
В эмигрантском творчестве, особенно в «Темных аллеях», описания Лазурного берега чередуются с картинами Крыма, Кавказа. Чередование «своего» и «чужого» усложняет морской локус прозы Бунина, позволяет ему возрастать в объеме. Второй из рассказов, написанных в Грассе, в тех краях, где у Бунина была возможность воочию любоваться Средиземным морем, посвящен небольшому путешествию по морю Черному: на пароходе, следующем из Одессы в Феодосию с остановкой в Евпатории53, два немолодых героя, один из которых неизлечимо болен, вспоминают пору своей молодости. Поскольку за текстом обозначены время и место написания рассказа – «Приморские Альпы. 1923», то становится понятно, что эпизод, положенный в основу повествования, остался в далеком русском прошлом.
Таким образом, текст строится в дважды прошедшем времени: в невозвратном прошлом героев и автора.
Каждый из персонажей по-своему примечателен, «очень прямой, с прямыми плечами» врач сдержан, скептичен, ироничен, писатель созерцателен и алеаторичен54, главенствует писатель: именно он уже сидит в кресле на палубе и наблюдает за происходящим, когда там только появляется «человек с прямыми плечами», именно писатель первым начинает разговор и превращает «жизненный случай», связывающий его с собеседником, в поэтическую историю о сверхвременной и сверхчеловеческой страсти, и, конечно же, на писателе лежит авторская тень.
«Господин с прямыми плечами» – счастливый соперник писателя, ради него писатель когда-то был оставлен возлюбленной, но теперь, через двадцать три года («Осенью будет ровно двадцать три. Нам с вами это легко подсчитать. Почти четверть века» [Бунин, 1966, т. 5, c. 101]), ее уже нет в живых, так что повод для соперничества исчез, а давние события пропущены сквозь средостение времени55. Герои говорят о любви в отсутствие ее объекта, разговор носит почти «теоретический», отвлеченный характер, образ мертвой возлюбленной придает тексту элегическую тональность. В середине разговора писатель цитирует Пушкина, причем не вполне точно: «Из равнодушных уст я слышал смерти весть, / И равнодушно я внимал ей…» [Там же. С. 105] – вместо пушкинского «И равнодушно ей внимал я». Микроискажения поэтических цитат характерны для Бунина: в чужих цитатах, обильно приводимых в рассказах, Бунин часто меняет не ключевые, а периферийные слова или их местоположение в стихе, и от этого, во-первых, появляется ощущение целого пласта элегической лирики, которая проходит за текстом не в точном, а в несколько «подплывающием» виде, извлеченная
из глубин поэтической культуры будто бы по памяти; во-вторых, известная цитата ближе «притягивается» к героям или автору, становится их словом, их сюжетом. В данном случае вместе с поэтической цитатой выступает не только элегический сюжет смерти возлюбленной, воспоминания, ставшего отдельным и самостоятельным, но еще и оппозиция своей/чужой страны:
Под небом голубым страны своей родной Она томилась, увядала... Увяла наконец, и верно надо мной Младая тень уже летала; Но недоступная черта меж нами есть. Напрасно чувство возбуждал я: Из равнодушных уст я слышал смерти весть, И равнодушно ей внимал я. Где муки, где любовь? Увы, в душе моей Для бедной легковерной тени, Для сладкой памяти невозвратимых дней
Не нахожу ни слез, ни пени. Как известно, элегия «Под небом голубым страны своей родной…» была написана Пушкиным под впечатлением известия о смерти Амалии Ризнич, и «голубое небо» Флоренции, родное для героини, было чужим для лирического героя, что обостряло идею отдаленности героини и идею самостоятельности страсти, ее независимости от пространства и времени.
Ни о каких чужих странах в рассказе Бунина речи не идет, два собеседника путешествуют по родной стране, но голубое флорентийское небо пушкинской элегии углубляет авторский план: не герои, а автор, находясь в Приморских Альпах, разлучен с тем миром, к которому он то и дело возвращается в своем творчестве, и авторский план проецируется на героев: мы не знаем, что предстоит им в будущем, но точно знаем, что в «жизни» ни одного из них невозможно больше такое путешествие по Крыму в первом классе, поскольку в то время, когда создается рассказ, в России уже не осталось больше тех людей, которые могли бы, сидя на палубе, спокойно беседовать о былом: о личных, а не об исторических потрясениях. Кстати, В.Н. Бунина считала, что в основу «Ночного моря» была положена беседа Бунина с А.Н. Бибиковым, состоявшаяся еще в России сразу после смерти В.В. Пащенко в 1918 г.56. Как известно, В.В. Пащенко послужила одним из главных прототипов Лики в еще не написанном, но задуманном Буниным в 1920 г. романе «Жизнь Арсеньева», следовательно, рассказ «В ночном море» может рассматриваться как один из первых подходов к роману57, как первая бунинская «репетиция» смерти Лики. Впоследствии «Лика» будет умирать не единожды: в «Арсеньеве», в «Позднем часе» и некоторых других текстах это превратится в постоянный мотив любовной утраты, трагической любви, случившейся в давние времена, на берегах далекой и уже погибшей отчизны. А в 1923 г., в Приморских Альпах, мотив «Лики» еще только зарождается, обдумывается, оттачивается.
Темпоральная пластика рассказа «Грамматики любви»
Первый из «ивлевских» текстов появляется в 1915 г., это «Грамматика любви»: «некто Ивлев» выступает в рассказе в качестве наблюдателя, почти не связанного с главными героями. В повествовательном фокусе – необыкновенная любовь помещика Хвощинского к горничной Лушке: «…он (Хвощинский – Е.К.) когда-то слыл в уезде за редкого умницу. И вдруг свалилась на него эта любовь, эта Лушка, потом неожиданная смерть ее, – и все пошло прахом, он затворился в доме и больше 20 лет просидел на ее кровати» [Бунин, 1966, т. 4, c. 300].
Основных действующих лиц, Лушку и Хвощинского, читатель увидеть не может: они уже умерли, но история их любви должна быть изложена наперекор времени, вернуться из прошлого в настоящее2. Любовь тех, кого уже нет на свете; любовь, которая могла бы быть, но не случилась; любовь, которая случилась, но неожиданно оборвалась, – подобные сюжеты, как известно, всегда владели вниманием Бунина. Ивлева здесь можно сравнить с оптическим прибором, позволяющим разглядеть ушедших из земного бытия Лушку и Хвощинского.
В первой фразе «Грамматики любви» мы застаем Ивлева на дороге. Неизвестно откуда взявшийся герой едет неизвестно куда и неизвестно зачем3, фамилию героя предваряет неопределенное местоимение: «Некто Ивлев ехал однажды в начале июня в дальний край своего уезда» [Там же. С. 298]. Эта фраза отделена от дальнейшего текста (следующее предложение начинает новый абзац), и поэтому возникает ощущение, что Ивлев просто бродит по родным местам, бродит по свету и, как мы увидим потом, по творчеству Бунина.
Через Ивлева в повествование вводятся описательные фрагменты, в них важна каждая подробность. О.В. Сливицкая осторожно, с оговорками о типологическом родстве, возводит «Грамматику любви» к «Бригадиру» Тургенева, отмечая сходство сюжетов и композиций, похожие источники (семейные предания), близость «мировоззренческих начал» двух писателей [Сливицкая, 2004, c. 190-198]4. В стилистике Бунина, особенно в ранний и средний периоды, заметны «тургеневские» черты, несмотря на то, что сам Бунин выступал против сравнений, проводимых между ним и родоначальником русской лирической прозы5. Ярко отличающиеся друг от друга, как всякие большие писатели, по манере письма Бунин и Тургенев сходны лишь в пристрастии к длинным, тяготеющим к самостоятельности описаниям, которые полны «мистических» оттенков. В 1915 г. Ивлев – это не только alter ego Бунина, его «лирического герой»6, но и повествовательная маска, отсылающая к прозе XIX в.
Русские ландшафты у Бунина, как и у Тургенева, окрашены в «Грамматике любви» сгущенными мистическими красками. В самом начале Ивлев вспоминает как бы случайную реплику о Хвощинском, брошенную кем-то из старых помещиков: «Лушкиному влиянию приписывал буквально все, что совершалось в мире: гроза заходит – это Лушка насылает грозу, объявлена война – так Лушка решила, неурожай случился – не угодили мужики Лушке» [Бунин, 1966, т. 4, c. 300]. В репликах, запечатлевших усмешки уездной молвы над Хвощинским, Лушка, казалось бы, совершенно неоправданно поставлена на высоту божества, однако чем ближе дорога подходит к имению Хвощинского, тем больше развеиваются иронические призвуки этих слов: в переменах погоды все отчетливее начинают проступать знаки лушкиного присутствия и свидетельства ее «магической» силы. Лушка как бы и вправду «насылает грозу»: пока Ивлев еще далеко от имения Хвощинского, собираются тучи, идет дождь и гремит гром («неожиданно небо над тарантасом раскололось от оглушительного удара грома» [Там же. С. 301]), но как только Ивлев входит в дом, гроза необъяснимо прекращается. По житейской логике, со смертью Хвощинского должен исчезнуть болезненный «морок» его сознания, но есть Ивлев – сторонний наблюдатель, который может воочию убедиться в том, что «безумные» мысли Хвощинского о могуществе Лушки могут иметь под собой какие-то таинственные основания7.
Мистический пейзаж, в который «вписана» Лушка, замечали многие исследователи, обращавшиеся к «Грамматике любви», но для нас важно еще раз подчеркнуть, что пейзаж связывает между собой разделенных во времени героев8. Часто впечатления переходят в лирической прозе Бунина от автора к героям, от одного героя к другому, что создает образ тонкого мира, где души одержимы общими (но при этом не внушенными друг другу) мыслями, воспоминаниями. «Композиционный фокус структуры смещен с фабульных взаимоотношений между отдельными персонажами на образующую единый континуум фактуру их внешности и окружающей среды» [Жолковский, 1994, c. 115], – пишет о новеллах И.А. Бунина А.К. Жолковский, «единый континуум» внешнего и внутреннего определяет свойства лирической структуры, лирические композиции с их множественными параллелями и совпадениями в сферах героев, героев и автора, героев, автора и всего, внеположенного им. В «Грамматике любви» через пейзаж, через перемену погоды устанавливается мистическая связь, оживляющая силу другой любви, – Лушки и Хвощинского. Ивлев становится тем персонажем, вместе с которым читатель приближается к главным событиям рассказа. Есть и еще одна сторона, где сходятся Лушка и Ивлев: если помнить об анаграммированном «Иване Алексеевиче» в «Ивлеве», то возникает соблазн и в «Лушке» прочесть простонародный, вариант имени «Гликерия»9, а значит – и Лики из написанной гораздо позже «Жизни Арсеньева», может статься, что Лика и Лушка – это два уменьшительных имени авторской музы, появляющейся в разных обличиях.
Итак, на фоне печального элегического пейзажа, в сиянии закатных лучей («В одно окно, на золоте расчищающейся за тучами зари, видна была столетняя, вся черная плакучая береза» [Бунин, 1966, т. 4, c. 303]), Ивлев, а заодно и читатель, может рассмотреть вещи, бывшие «свидетелями» любви главных героев. Не только от героя к герою, но и от пейзажа к интерьеру направлена повествовательная нить, к «плакучей березе» возвращают «два книжных шкапчика» «из карельской березы» [Там же. С. 304]10, подобные переходы от внешнего к внутреннему (от пейзажей к интерьерам, от портретов к эмоциональным состояниям) способствуют раскрытию богатого потенциала всего неодушевленного. Безмолвные вещи могут рассказать о Хвощинском и Лушке гораздо больше, чем слова, зато нехватка слов, вернее, событийных звеньев в истории любви Хвощинского и Лушки Буниным намеренно не восполняется: мы не знаем, почему умерла Лушка, как это произошло11, ее не столь уж давняя смерть уже успела обрасти легендами, и одну из них, явственно намекающую, как считает К.В. Анисимов, на «Бедную Лизу», пытается рассказать Ивлеву кучер («малый»):
«– Говорят, она тут утопилась-то, – неожиданно сказал малый.
– Ты про любовницу Хвощинского, что ли? – спросил Ивлев. – Это неправда, она и не думала топиться.
Из Парижа – в город мечты и воображения: «Поздний час»
В «Темных аллеях» тоже есть текст, поэтически синтезирующий мотивы огня, смерти, кладбища, – «Поздний час» (1938), где чрезвычайно важен пространственный контекст, в который помещены кладбищенские мотивы. Без движения в поэтическом пространстве невозможен процесс формирования лирического «я» ни в стихах, ни в лирической прозе, и у Бунина пространственные аспекты повествовательной структуры и самого повествователя проявлены весьма ощутимо. Если сравнивать «Поздний час» с «Огнем пожирающим», то можно увидеть чрезвычайно отличающиеся варианты смерти и похорон – русский и французский, однако можно заметить и какие-то общие моменты, общую нить, связывающую «Огнь…», «Аглаю» и «Поздний час».
Сюжет «Позднего часа» характерен для эмигрантской литературы: в Париже герой-повествователь представляет себе Россию, во сне или в мечтах возвращаясь к покинутым местам. В контексте бунинского творчества этот сюжет тоже далеко не уникален, в том или ином смысле почти каждая новелла «Темных аллей» – это воображаемое возвращение на родину. Между тем впервые сюжет-возвращение появился у Бунина за несколько десятилетий до эмиграции – в 1899 г. Бунин написал лирическую миниатюру «Поздней ночью»: в парижском гостиничном номере герой и его спутница переживают какую-то размолвку или момент отчуждения; «избегая глядеть» на героиню, герой отворачивается к окну, видит узкую улицу внизу и вдруг ясно вспоминает родные места: «Я мысленно покинул Париж, и на мгновение померещилась мне вся Россия, точно с возвышенности я взглянул на огромную низменность. Вот золотисто-блестящая пустынная ширь Балтийского моря. Вот – хмурые страны сосен, уходящие в сумрак к востоку, вот – редкие леса, болота и перелески, ниже которых, к югу, начинаются бесконечные поля и равнины. На сотни верст скользят по лесам рельсы железных дорог, тускло поблескивая при месяце. Сонные разноцветные огоньки мерцают вдоль путей и один за другим убегают на мою родину» [Бунин, 1966, т. 2, c. 177].
Воспоминание о родине оживляет прошлое в душе героя, и вместе с прошлым возвращается любовь к той, кого он, казалось бы, уже разлюбил. В этом тексте трудно угадать стиль позднего Бунина: внесюжетные моменты еще не развернуты и не имеют глубоких скрытых планов, однако они уже преобладают над сюжетными перипетиями.
Исследуя историю создания и публикации рассказа «Поздней ночью», Т.В. Марченко отметила, что критики усмотрели в нем «беллетризацию “семейной жизни”» автора (Бунин только что расстался с А.Н. Цакни, соответственно, рассказ прочитывался как описание ссоры с женой), и что Бунин, разумеется, отвергал этот подход, настаивая на условности изображаемого эпизода [Марченко]. В 1899 г. Бунин рисует Париж, еще ни разу не побывав в этом городе: первая его парижская поездка (1900) выпадает как раз на период между написанием и публикацией рассказа. Но и побывав в Париже, Бунин, утверждает Т.В. Марченко, не привносит в рассказ парижской конкретики [Там же]. Зато, по мнению исследовательницы, можно предположить подспудную связь этого текста с Анной Цакни, чьи ранние годы прошли во Франции [Там же]. В свою очередь, добавим: вполне может быть, что «Поздней ночью» – это поэтическая вариация на темы рассказов А.Н. Цакни (если таковые были) о Париже или поэтическая фантазия о городе, неразрывно связанном с ее жизнью. Для нас важно то, что образ Парижа создается Буниным в Москве, из чужих воспоминаний и впечатлений, и в этом воображаемом европейском городе его герой грустит о России, откуда автор рассказа вовсе и не уезжал.
Не только сюжет мысленного возвращения на родину86, придуманный и опробованный за двадцать лет до эмиграции, повторит Бунин в «Позднем часе», он обставит его теми же образами, что и в «Поздней ночи»: связью локуса и героини (своего рода женским олицетворением города, страны), мотивами ночи, месяца, печали, утраты. Только лирическая динамика и смысловая концентрация текста 1938 г. окажется гораздо выше, чем 1899-го. Через четыре десятилетия, уже во Франции, давно найденный сюжет получит «жизненные подтверждения» и значительно усложнится в поэтике.
«Поздний час» начинается, как нередко бывает у Бунина, «с середины» каких-то размышлений и воспоминаний. Две-три первых фразы позволяют понять, что герой живет не в России, но читатель еще не успевает установить местоположение героя, как Бунин перемещает его в русский уездный город, будто лишь мост через реку отделяет заграницу от России: «Ах, как давно я не был там, сказал я себе. С девятнадцати лет. Жил когда-то в России, чувствовал ее своей, имел полную свободу разъезжать куда угодно, и не велик был труд проехать каких-нибудь триста верст. А все не ехал, все откладывал. И шли и проходили годы, десятилетия. Но вот уже нельзя больше откладывать: или теперь, или никогда. Надо пользоваться единственным и последним случаем, благо час поздний и никто не встретит меня.
И я пошел по мосту через реку, далеко видя все вокруг в месячном свете июльской ночи.
Мост был такой знакомый, прежний, точно я его видел вчера: грубо-древний, горбатый и как будто даже не каменный, а какой-то окаменевший от времени до вечной несокрушимости, – гимназистом я думал, что он был еще при Батые» [Бунин, 1966, т. 7, c. 37].
Столь быстрое переключение из одного пространства в другое отмечает начало парижского сна о родине.
Затем повествование вновь возвращается через «Ярославль», «Суэцкий канал», «Нил» в Париж, с русского моста на один из мостов Сены. Любопытно, что парижский набросок с отражениями-триколорами можно найти в дневнике Бунина за 1922 г. Сравним:
«Поздней ночью» Дневник, запись от 10 апреля …В Париже ночи сырые, …Возвращался – пустые улицы темные, розовеет мглистое зарево на и переулки после дождя блестят, непроглядном небе, Сена течет под текут как реки, отражая длинные мостами черной смолой, но под ними полосы (золотистые) от огней, среди тоже висят струистые столбы которых иногда зеленые. Вдали что отражений от фонарей на мостах, то церковное – густо насыпанные только они трехцветные: белое, белого блеска огни Place Concorde. синее, красное – русские Огни на Сене – русские 200 национальные флаги национальные флаги [Там же. С. 38]. [Бунин, Бунина, 2012, т. 2, c. 85].
В контекст дневника мимолетная зарисовка площади Конкорд входит беглым воспоминанием о родной стране с ее исчезнувшими флагами, так похожими на французские. В «Позднем часе» пейзаж становится резче в красках, теряет связь с конкретным парижским местом – Place de la Concorde, в рассказе говорится сразу о нескольких мостах через Сену, о Париже и Сене вообще, город расплывается в отражениях, будто бы готовясь к преображению.
«Несрочная весна» и «Запустение» Боратынского: «к роду отцов своих»
Если подтексты из Державина и, особенно, Батюшкова в рассказе Бунина скрыты, то элегия «Запустение» (1834) дважды цитируется; поэтический неологизм Боратынского «несрочная весна» Бунин ставит в заглавие своей вещи17. «Странное» вне поэтического контекста словосочетание «несрочная весна» появляется в элегии, описывающей не весеннюю, а осеннюю прогулку по давно оставленному героем родному имению:
Я посетил тебя, пленительная сень, Не в дни веселые живительного мая… [Боратынский, 1989, c. 176]. Не стоит сомневаться в том, что «несрочная весна» означает не «природную», а элизийскую весну, длящуюся вечно, именно поэтому «несрочная весна» совместима с любым другим временем года. Словосочетание «несрочная весна» стоит у Боратынского в конце длинной лирической медитации и как будто закрепляет идею длительности, переводит реальное ощущение внушительного объема всей элегии и каждого ее
отдельного стиха (разностопный ямб с преобладанием 6-сложных строк) в идеальный план. Подбирая заглавие и цитаты из «Запустения» для своего рассказа, Бунин сосредотачивает внимание именно на окончании элегии, где кажется, что лирический герой идет уже не по тропинкам парка, а вступает на «нездешние», бесконечные луга.
«Запустение» Боратынского – это классическая элегия на тему руин, поэтому в ней наличествует весь набор мотивов, присущих этому жанру: заглохшие тропинки, высохший пруд, ветхий мостик и т.п., но важны не столько мотивы, сколько ритм и пространственные векторы элегии, подробно описанные В.Н. Топоровым [Топоров, 1994, p. 197-222]. Лирический герой элегии не просто бродит по парку, он идет очень медленно, останавливаясь от того, что неверная дорога то и дело обрывается (и ритм стиха здесь иконически изображает обвалы: «Дорожка смелая ведет меня… обвал / Вдруг поглотил ее… Я стал / И глубь нежданную измерил грустным взором») и все время спускается вниз, от чего читателю передается ощущение холода преисподней. Лишь в самом конце мрачная печаль запустения сменяется надеждой на встречу со светлой Летейской тенью, именно этот, самый загадочный отрывок, цитирует Бунин на последней странице своего рассказа:
Он убедительно пророчит мне страну,
Где я наследую несрочную весну,
Где разрушения следов я не примечу,
Где в сладостной тени невянущих дубов,
У нескудеющих ручьев,
Я тень священную мне встречу
[Боратынский, 1989, c. 176]18.
Конечно, в тексте Бунина тоже отзывается затрудненный и медленный ритм, заданный «Запустением» Боратынского. Дорога в заброшенное имение для героя Бунина полна непреодолимых препятствий, сама усадьба скрыта в глубине густых лесов («кругом – заповедные леса, глушь и тишина неописуемые» [Бунин, 1966, т. 5, c. 122]). Попав в дом, герой долго бродит по комнатам, беспрестанно останавливаясь в залах, кабинетах, покоях, надолго задерживается в библиотеке. Бунин как бы повторяет вектор движения лирического героя Боратынского – спускаясь вниз, в библиотеку, герой «Несрочной весны» оказывается будто бы в склепе: «Часто бывал я в нижних залах. Ты знаешь мою страсть к книгам, а там, в этих сводчатых залах, книгохранилище. Там прохладно и царит вечная тень, окна с железными толстыми решетками, сквозь решетки видна радостная зелень кустов, радостный солнечный день, все такой же, как сто, двести лет тому назад» [Там же. С. 126].
«Вечную тень» сводчатых библиотечных залов освещает не только свет, пробившийся сквозь железные оконные решетки, но и свет пасторального четверостишия, найденного героем на шершавой странице книги «прошлого столетия». Бунинская стилизация с играющим «во свирель» пастушком, «танцующий перелив чувств» (так характеризуется Буниным им же самим сочиненное четверостишие) – это солнечное пятно, похожее на светлую залетейскую тень, на «доступный дух» в заключительных стихах мрачной элегии Боратынского.
В связи с Боратынским нельзя не вспомнить еще один, более ранний и уже рассматривавшийся во второй главе этой работы рассказ Бунина, где цитируется другое стихотворение Боратынского, а сюжет рассказа перекликается с сюжетом «Несрочной весны». Доэмигрантский, дореволюционный вариант прозаической элегии-руины представляет собой «Грамматика любви» (1915), в центре которой – посещение угасающей дворянской усадьбы, хозяин которой уже умер. Путешествие по мертвой усадьбе, как и в «Несрочной весне», заканчивается чтением старинных книг библиотеки, а в тексте рядом с подлинными цитатами из поэзии начала XIX в. соседствуют сочиненные самим Буниным:
Тебе сердца любивших скажут:
«В преданьях сладостных живи!»
И внукам, правнукам покажут
Сию Грамматику Любви [Бунин, 1966, т. 4, c. 307]. Пасторальные стихи из «старинных книг» спрятаны среди реальных цитат, но они принадлежат перу Бунина, что обнажает глубинный нерв повествования: все, что видят рассказчики (Ивлев в «Грамматике любви», анонимный рассказчик в «Несрочной весне»), не может существовать в реальном мире. Старинные усадьбы, а не только стихи из старинных книг, кажутся «танцующим переливом чувств» рассказчиков и их автора. Необитаемые усадьбы с парками, садами, комнатами и вещами в этих комнатах, – это и есть сны и наваждения, сочиненные «путешественниками в неведомый край», извлеченные не только из известного всем литературного, элегического мира, а напрямую, без цитат, из небытия.
Из небытия является и «священная тень» в стихотворении Боратынского, именно поэтому она привлекла Бунина, именно поэтому она особенно притягательна для читателей и комментаторов «Запустения». За этой тенью скрыта некоторая тайна, отгадку которой текст провоцирует искать в биографии Боратынского. Многим комментаторам кажется, что в «Запустении» речь идет не просто об абстрактной тени: не переставая быть поэтической формулой, «священная тень» благодаря наличию датива «мне» и инверсии («Я тень священную мне встречу»), будто бы скрывает кого-то, неизвестного читателю, но хорошо знакомого лирическому герою, который чувствует, чья именно тень «священна» ему. Поскольку элегия «Запустение» написана о родовом имении Боратынских, то «священную тень» связывают то с архитектором, спланировавшим усадьбу, то с наставником поэта («дядькой-итальянцем» Жьянчинто Боргезе), то с его отцом, в 1804 г. основавшем новый дом в урочище Мара19. Как бы то ни было, тема теней предков в варианте Боратынского звучит не абстрактно, а интимно, обостряя «семейные», «родовые» ассоциации20, которые переходят и в семантический ореол «Несрочной весны» Бунина.