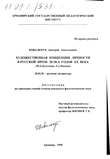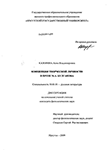Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА ПЕРВАЯ. Лирическая стихия матери и судьба поэта
1. Биография матери. Общие принципы изображения родителей 35
2. Судьба матери: лирический «гений рода» 47
3. Детское пратворческое восприятие матери 53
4. Урок высокой музыкальной игры 60
5. «Чёрно-белый» Пушкин в судьбе ребёнка-поэта 68
ГЛАВА ВТОРАЯ. Воспитание. прорастание творческого начала
1. Воспитательный «потоп» 83
2. Водоразделы в семье и препятствия материнскому «потопу» 95
3. Мать и дочь: любовь-борьба 103
4. «Тайный жар» Чёрта 113
5. Любовь- тоска (Надя Иловайская. «Евгений Онегин» в детском восприятии) 128
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. От музыки к слову
1. Первые ступени восхождения: от звука к смыслу . 144
2. Музыка и слово в мире вещей 152
3. Музыкально-поэтическое восприятие слова 161
4. Встреча с песней. Триединство Музыки, Слова, Души 171
5. От Рояля к Столу 178
6. Лирика - стихия стиха («К Морю» А.С.Пушкина)... 187
Заключение 228
Библиография 233
- Биография матери. Общие принципы изображения родителей
- Урок высокой музыкальной игры
- Водоразделы в семье и препятствия материнскому «потопу»
- Первые ступени восхождения: от звука к смыслу
Введение к работе
М.И.Цветаева (1892-1941) писала прозу на протяжении всей творческой жизни: воспоминания о современниках и своём детстве, статьи, дневники, записные книжки, письма. Всю свою прозу она называла «автобиографической» (5;6)!.
По М.Бахтину, для автобиографии характерны особый тип биографического времени и «специфически построенный образ человека, проходящего свой жизненный путь»2. Современный литературовед со ссылкой на французского исследователя Ф.Лежена предлагает следующее, наиболее приемлемое для нашей темы определение: «Автобиография является повествовательным текстом с ретроспективной установкой, посредством которого реальная личность рассказывает о собственном бытии, причём делает ударение именно на своей личной жизни, особенно истории становления своей личности»3.
К автобиографической прозе о своём детстве, исследуемой в нашей диссертации, Цветаева обратилась в 1930-е годы, когда в её поэтическом творчестве происходило усиление эпического начала, укрупнение жанровых форм (циклы, поэмы, драмы). Выход из поэзии в прозу, в новые творческие сферы обозначены Цветаевой как «расширение голоса» и в то же время как результат складывающихся жизненных обстоятельств. В эти годы почти не печатали её стихов, влияли оторванность от России, мучительность выбора - уехать в СССР или остаться за границей, усилившееся чувство одиночества, непонимание, сложности в семье, смерть сводного брата Андрея. Созданию автобиографических воспоминаний способствовало желание воскресить прошлое, обнажить корни, осмыслить собственную судьбу как судьбу поэта.
Цветаева намеревалась создать широкую картину семейной хроники, подобно книге С.Т.Аксакова, но замысел не был осуществлён до конца.
Автобиографическая проза Цветаевой о детстве по содержанию и принципам повествования неоднородна. В одних текстах ребёнок -свидетель событий, в центре же другое лицо семейного круга: «Музей Александра Ш», «Лавровый венок», «Открытие Музея», «Отец и его Музей» посвящены деятельности отца, Ивана Владимировича
т,
Цветаева, основателя музея изобразительных искусств в Москве; в «Доме у Старого Пимена» создан образ историка Д.И.Иловайского, отца первой жены И.В.Цветаева; в «Женихе» изображён знакомый семьи Цветаевых А.К.Виноградов, ставший впоследствии писателем. В других произведениях ребёнок - главное действующее лицо, в них рассказывается о времени раннего детства и отрочества Цветаевой: «Мать и Музыка», «Сказка матери», «Чёрт», «Хлыстовки», «То, что было», «Башня в плюще», «Мой Пушкин». Особо отметим: в прозе «Открытие Музея», «Отец и его Музей» и «Мать и Музыка» слова «Музей», «Музыка» самой Цветаевой пишутся с прописной буквы (5;8. 7;265,274,276,286. См. также: ПНГ;814), тогда как в Собрании сочинений и соответственно во всех статьях о творчестве Цветаевой они даны строчными буквами. В диссертации мы придерживаемся цветаевского написания.
В исследовательской литературе предпринимались попытки жанровой классификации автобиографической прозы Цветаевой, но все они весьма спорны, противоречивы. Так, И.Кудрова все произведения Цветаевой о детстве и воспоминания о писателях-современниках («Пленный дух», «История одного посвящения», «Герой труда» и др.) относила к очеркам5. Со ссылкой на И.Кудрову то же утверждала Н.Н.Вольская6. Позднее И.Кудрова уточнила свои определения. В книге 1997 г. сказано: «Жанр «Пленного духа», «Моего Пушкина» или «Живого о живом» трудно обозначить, и только условно, для удобства речи, я называю их здесь очерками. Не очерк, не рассказ, не мемуары - для всего этого слишком значительное место занимают в тексте открытые авторские размышления. Эссе? Но этот жанр, кажется, не предполагает такого обилия живых сцен, эпизодов, диалогов...» . Очерками называет автобиографические тексты Цветаевой о детстве А.Саакянц, жанрово отделяя их от воспоминаний. В то же время А.Саакянц пишет о «сплаве жанров» . В своей последней книге она называет «Чёрта» повестью9. У Л.Фейлер «Мать и Музыка» и «Чёрт» - очерки, а «Сказка матери», «Хлыстовки», «Мой Пушкин» -автобиографические эссе10. Для В.Швейцер «Мой Пушкин» - эссе-воспоминание11, Для А. Смит - очерк12. На очерковый характер текста «Мать и Музыка» и других произведений указывает М.В.Серова13. В представлениях З.Мациевского «Чёрт» - рассказ, «Дом у Старого Пимена» - семейная
хроника . У С.Н.Буниной «Хлыстовки», «Мать и Музыка», «Чёрт», «Сказка матери», «Башня в плюще» - рассказы, «Дом у Старого Пимена», «Мой Пушкин» - повести15.
Подобное разнообразие мнений свидетельствует о сложности художественной структуры автобиографических текстов Цветаевой, сопротивляющихся традиционным жанровым делениям, что, собственно, свойственно автобиографии вообще. По утверждению зарубежного исследователя Поля де Мана, «как эмпирически, так и теоретически автобиография плохо поддаётся жанровому определению: каждый конкретный случай оказывается исключением из правил, сами произведения норовят выпасть в соседний или вовсе далёкий жанр и, что, может быть, является наиболее сильным аргументом, жанровые дискуссии, которые могут иметь такую большую эвристическую ценность в отношении трагедии или романа, остаются удручающе стерильными, когда речь заходит об автобиографии»16.
Не случайно современники М.Цветаевой, многие из которых сами были авторами автобиографической прозы, избегали жанровых терминов в оценке её произведений. Например, Б.Пастернак делал акцент на «ненасытимости анализа, жаре и энергии, вызванных
1 п
природою предмета» . У В.Ф.Ходасевича речь идёт о «кусках автобиографии», в которых «на первый план выступает <...> психологический узор» (Зпк.2;500)18. Р.Б.Гуль также видел в произведениях Цветаевой о детстве («Мать и Музыка», «Мой Пушкин», «Открытие Музея») «автобиографические отрывки»,
называя искусство ее прозы «оркестровкой» и «словесным ваянием» .
Для Фёдора Степуна эти сочинения - «этюды» , т.е. произведения жанрово неопределённые, размытые.
Цветаева не настаивала на строгой жанровой дифференциации своих сочинений о детстве, обозначая их «повестями из детства» (5;8), а чаще всего - понятием «проза». Именно так ею охарактеризованы самые крупные её вещи - «Мать и Музыка», «Мой Пушкин» (6;450. 7;161,613.ПНГ;81).
Цветаева писала Б.Пастернаку в 1925 году, возражая против «Рассказов» - названия присланного им прозаического сборника: «Проза, это страна, в ней живут, или море - черпают ладонью, это цельное. А рассказы - унизительная дребедень» (6;248). Замечание
Ю.П.Иваску (письмо от 25 января 1937 года): «У вас на живую жизнь
- дара нет <...>. Есть вещи <.. .> вне литературных теорий и названий,
явления природы» (7;406). «Лирическая» (6;406. 7;380)21, «автобиогра
фическая» проза Цветаевой о детстве и была в целом «вещью вне
литературных теорий и названий», «явлением природы», где, как она
выразилась по другому поводу в письме к Д.А.Шаховскому в 1925
году, «встала бы живая жизнь, верней - целая единая неделимая
душа»(7;31).
По всей вероятности, подход к жанровой природе произведений Цветаевой о детстве должен идти не столько от выяснения их конкретных жанровых форм, сколько от признания жанрово-родового синтеза, характерного вообще для литературы начала XX века, и своеобразие цветаевской прозы перспективнее рассматривать через её составляющие, обусловленные, прежде всего, обозначенной автором единой основой: автобиографической, лирической, прозы поэта.
Понятие «проза поэта» до сих пор остаётся в литературоведении наименее изученным. Расцвет «прозы поэта» обычно связывают с началом XX века. «Проза Брюсова, Белого, Хлебникова, Маяковского и Пастернака, - писал Р.Якобсон, - уникальная колония новой поэзии
- открывает целый веер путей, готовящих новый взлёт русской
прозы»22. Исследуя природу поэтического в прозе на материале
русской литературы Серебряного века, И.Г.Минералова убедительно
показала, что «проза и поэзия грани веков пытаются привить себе то,
что составляет основу основ другого, противоположного "крыла"
литературы», «они взаимообогащаются, "учатся" друг у друга,
пересоздавая (каждая присущими именно ей средствами) на своей
"территории" те или иные приёмы и средства» 3.
Каждый из поэтов глубоко индивидуален в своей прозе, как индивидуален он и в своих стихах. Основной лексико-семантической характеристикой прозы поэта В.М.Жирмунский называл присутствие в ней «повышенной эмоциональности, поэтической образности (метафоричности), "лиризма", по выражению Томашевского» .
Лиризм, разумеется, обнаруживал себя не только в сфере языка, но и в особом авторском видении. Например, о К.Бальмонте сказано, что его проза (роман, рассказы, очерки, эссе) - «это проза поэта, лирическая проза, не претендующая на создание широких объективированных картин; это проза с ослабленным сюжетом, повышенной
ассоциативностью, взволнованной интонацией. Главное в ней -описание впечатлений автобиографического героя», «душа здесь -особый орган восприятия явлений необычных и другим не
явленных» . Б.Пастернак «объединял поэзию и прозу как единое искусство слова» . Исследование соотношений лирического и повествовательного в его творчестве обнаруживает «совпадение сюжетных ситуаций и хронотопов» в некоторых стихотворениях и прозаических произведениях поэта27. Прозой Пастернака выявляются «не действительность как таковая и не искусство само по себе, но то напряжение, которое существует между ними, тот поток взаимодейственной энергии, который циркулирует между художником и действительностью» . В автобиографической прозе А.Белого «симфонический принцип построения текста декларируется перенесением свойств поэзии и музыки в прозу (ср. подзаголовок «Котика Летаева»: «Симфоническая повесть о детстве»), восходящим интертекстуально к прозе Ницше, а биографически - к адекватности музыки детскому опыту»29.
«В прозе поэта, - обобщает современный исследователь, характеризуя сочинения А.Белого, С. Есенина, Б.Пастернака, М.Кузмина, О.Мандельштама, М.Цветаевой, - последовательно находят своё выражение попытки <...> внести в эпическую структуру лирическое начало, <...> структурные элементы стиха в прозаическую структуру»30. Не всегда лирическая проза является прозой поэта, но проза поэта, особенно проза начала XX в., является лирической.
Основными признаками лирической прозы, обусловленными сосуществованием и взаимодействием в её поэтике свойств лирики и эпоса, принято выделять ассоциативность, прерывистость, моноцентричность повествования , откровенную, прямую непосредственность и сиюминутность изображения, бессюжетность или наличие своеобразного лирического сюжета , складывающегося из передачи размышлений, чувств, ассоциаций, воспоминаний героя, максимально сближенного с автором , усложнённую образность
художественного языка .
По своей природе лирическая проза близка к автобиографическим произведениям. «Литература воспоминаний, автобиографий, исповедей и "мыслей", - отмечала Л.Гинзбург, -ведёт прямой разговор о человеке. Она подобна поэзии открытым и
настойчивым присутствием автора» . Применительно к автобиографической прозе М.Цветаевой критики писали о «лирических образах-переживаниях, в которых Цветаева видит своё прошлое» , о типе повествования «с его открыто обнажённой лирической основой и широкими полномочиями авторского начала», о раскованности, свободной манере изложения, эмоциональности, перенесении в прозаическое творчество «(в том числе и в статьи, рецензии) "исповедности" и экстатичности своей поэзии»37.
Цветаева оставила немало замечаний, содержащихся в её статьях, письмах, записных книжках и касающихся характеристики её прозы -лирической, прозы поэта.
Свои произведения в прозе она относила к работе поэта. «Я не философ. Я поэт, умеющий и думать (писать прозу)», - сказала она однажды в 1925 году (письмо к Д.А.Шаховскому) (7;31). В середине 1930-х годов увлечённая своими автобиографическими сочинениями, она, комментируя слова В.А.А. (лицо неустановленное) «прозу люблю почти так же, как и стихи, и отнюдь не придаю ей оскорбительного общепринятого значения»38, дала понять своему корреспонденту, что различение стихов и прозы на этом уровне мало что объясняет. Всё письмо Цветаевой посвящено размышлениям о том, что она понимает под работой поэта, работой прозаика и работой поэта, пишущего прозу. Поэт - «определённый духовный строй, осуществляющийся только в слове» (7;556). Работа же прозаика «протекает, главным образом, в мысли, а не в слове, в замысле, а не в слове - мысль переводится в слово - у поэта мысль и слово рождаются одновременно», «прозу отношу более к сознанию, стихи к бессознанию (осознанному!)». Главным истоком поэтического или прозаического дарования Цветаева называет «чару» - «не как прикрасу, а как основу, как одну из первозданных сил, силу природы»: Пушкин как поэт, Гоголь и Л.Толстой как прозаики. Но -проза поэта - отличная проза, стихи прозаика - дрянные стихи <...> Проза Пушкина - проза поэта. Стихи Гоголя - стихи прозаика». Дело в том, разъясняет Цветаева, что «у поэта, приступающего к прозе, та школа стихотворного абсолюта, которой нет у прозаика, приступающего к стихам» (5;557). И речь, таким образом, может идти не о противопоставлении поэзии прозе, которая, словами адресата Цветаевой, имеет «оскорбительное общепринятое значение», а о
попытке уяснения природы художественного явления, именуемого «прозой поэта». «Проза поэта, - писала Цветаева В.В.Рудневу в 1933 году, - другая работа, чем проза прозаика, в ней единица усилия (усердия) ~ не фраза, а слово, и даже часто слог <...>. Не могу разбивать художественного и живого единства, как не могла бы, из внешних соображений, приписать по окончании, ни одной лишней строки» (7;448,449).
О «собственно поэтической технологии» в прозе Цветаевой точно сказал И.Бродский: «Проза была для Цветаевой лишь продолжением поэзии, но только другими средствами», «фраза строится у Цветаевой за счёт <...> звуковой аллегории, корневой рифмы, семантического enjambement, etc. То есть читатель всё время имеет дело не с линейным (аналитическим) развитием, но с кристаллообразным (синтетическим) ростом мысли». Бродский проницательно писал также о приёме «драматической аритмии, чаще всего осуществляемой вкраплением назывных предложений в массу сложноподчинённых» («в этом одном уже видны элементы заимствования у поэзии»), о «внесюжетности, ретроспективности, языковой и метафорической спресованности», о «чисто лингвистической перенасыщенности, воспринимаемой как перенасыщенность эмоциональная»39.
Языковые особенности цветаевских произведений исследовали лингвисты О.Г.Ревзина, Л.В.Зубова, С.Ю.Лаврова, Н.Н.Вольская, А.В.Горелкина, Н.А.Козина, С.А.Ахмадеева, М.В.Ляпон, И.М.Лисенкова и др.40
Своеобразие повествования Цветаевой как прозы поэта отмечали уже критики-современники. Ф.Степун: «Её проза, в сущности, то же художественное и даже поэтическое Слово-Творчество, те же стихи»; В.Вейдле: «И как в жизни, а не только в стихах, была она прежде всего и всегда поэт, так остаётся она поэтом и в каждой строчке своей прозы»; Д.Данин: «"Мой Пушкин" - это проза необычная: проза поэта. И необычайная - проза о поэзии»
Цветаева делила мир на два лагеря: «поэты и все остальные». В её понимании не каждый стихотворец, писатель может быть назван поэтом. А историк Октав Обри - поэт, лирик. «Вы , - поясняет она ему в письме 1935 года, - пишете судьбы, души. Вы - настоящий поэт. Поэт во всём, вплоть до удивительной смелости языка», «Вас увлекают, ведут за собой ритм, интонация» (5;554).
Себя Цветаева также относила к «лирической породе» (5;553), в её прозе лирика «организует» и содержание, и форму произведения. В пору, когда Цветаева обратилась к прозе, в её записной книжке под 30 декабря 1932 года появилась характерная запись:
«Лирика требует куда больший костяк, чем эпос. Эпос - сам костяк. В лирике твоя душа (река) должна стать костяком. - Оттого и лег кость» (Зпк.2;350).
Здесь показательна цветаевская образность в определении различий лирики и эпоса: лирика - река, текучее, неуловимое, сиюминутное, бессознательное, стихийное, субъективное; эпос -берег реки, русло души, земное, вещественное, событийное, объективное. Лирика - чувство, эпос - мысль. Вот почему эпос -«костяк», а «лирика требует куда больший костяк». Эпос тяжеловесен даже в словесном выражении. Лирика - песня, воспарение, её костяк -крылья, и в этом смысле она легка. Лирика - полёт и самосожжение -оттого и умереть, лечь костьми: «лег кость».
Лирика всезаполняющим содержанием автобиографической прозы Цветаевой создаёт целую неделимую жизнь души, которая становится и предметом изображения, и объектом её собственного исследования. Суть своей лирики Цветаева помещает в пространство образа - лирика-тоска. « <...> Лирика, - то, чего всегда мало, -определяет Цветаева в прозе «Мать и Музыка»,- дважды мало: как мало голодному всего в мире хлеба, и в мире мало - как радия, то, что само есть - недохват всего, сам недохват, только потому и хватающий звёзды! - то, чего не может быть слишком, потому что оно само -слишком, весь излишек тоски и силы, излишек силы, идущий в тоску, горами двигающую» (5; 14). Тоска как «устремление, нет: СТРЕМНИНА!», как «основной двигатель» её поэзии и прозы (ПНГ;125). Лирика-тоска - это:
высшее чувство гармонии, поэтическое «знание» абсолюта, поиск созвучия в «разъединённом мире» (2;236);
жизнь души, её самобытие и событие, «ибо с душой ничего не бывает <...> кроме неё самой, которая есть: чистая страсть тоски» (7;574) и «тайный жар» любви-преображения (5;511);
бетховенское «через страдание к радости», «по жилам как по струнам» - извлекает песню (Свт;100)42;
- тоска по утраченному, небывшему, невозможному,
несбывшемуся.
Адресатом, «лицом» тоски может быть человек, дерево, вещь, прошлое.
Характеризуя свою лирическую сущность, Цветаева писала о себе как о «живущей только мечтой и памятью» (4;391). В единой лирической основе, таким образом, она намечает две линии, обусловливающие некоторые закономерности её творчества, существенные для её автобиографической лирической прозы:
образ «память»: ретроспективность. «Оборот назад - вот закон моей жизни» (6;439). Объяснение фактической основы этой формулы находим в письме Цветаевой к А.С.Штейгеру 1936 года: «<...>Суббота (мой любимый день и день моего рождения: с субботы на воскресение: в полночь. Мать выбр<ала> субботу, т.е. назад, этим определив мою сущность и судьбу» (7;609)43;
образ «мечта»: характер художественного преображения, так как вещь могла и долженствовала быть (5;521).
Образ-«память» и образ-«мечта» соотносимы с системой «факт -вымысел», во многом определявшей авторскую позицию Цветаевой-прозаика.
Восприятие факта в высказываниях Цветаевой представлено в сложном единстве его достоверности, лирического и мифологического преображения. Поддерживая В.Н.Бунину в её работе над автобиографической вещью, Цветаева, одновременно говоря и о своих сочинениях, писала: «И то и другое - записи, живое, ЖИВЬЁ, т.е. по мне тысячу раз ценнее художественного произведения, где всё переиначено, пригнано, неузнаваемо, искалечено <...>. Преображать (поэт) - одно, "использовать" -другое» (7;247). Писатель обязан тщательно, скрупулёзно собирать факты, знать их по возможности все. «Мне, чтобы написать хотя бы очень мало, нужен огромный материал, весь о данной (какой угодно!) вещи, сознание - всезнания, а там - хоть десять строк» (7;250) - путь познания через «сживанье с вещью, терпение от неё, претерпевания, проникновения ею» (7;465). «Я за жизнь, за то, что было. Что было -жизнь, как было - автор. Я за этот союз», - писала Цветаева в 1925 году А.В.Черновой, поделившейся замыслом создать воспоминания о пребывании ребёнком в советской колонии (6;674). О праве автора на
поэтическое преображение факта она писала той же В.Н.Буниной: «Я, конечно, многое, ВСЁ, по природе своей, иносказую, но думаю - и это жизнь. Фактов я не трогаю никогда, я их только - толкую. Так я писала все свои большие вещи» (7;247). «Не трогать фактов» означало не искажать достоверности, которой Цветаева очень дорожила. Работая над «Домом у Старого Пимена», она досадует на мелкие неточности, обнаружившиеся в сравнении с описаниями у В.Н.Буниной: когда Д.И.Иловайский вставал утром, что ел на завтрак и т.д. «Обожаю легенду, ненавижу неточность», - писала ей Цветаева (7246).
Словами «иносказую», «толкую» Цветаева утверждает право на собственное поэтическое видение факта, прозревание факта. «Будучи точным в фактах, - писала она одобрительно историку эпохи Наполеона Октаву Обри, - Вы безграничны во взглядах <выводах\мнениях>, в способности видеть. И тем самым вырастаете до настоящего поэта. Ибо поэт, милый Октав Обри, это прежде всего точность, безошибочность видения. Он никогда не искажает естество факта, он воссоздаёт его истинную природу» (7; 5 54-5 5 5). Поэтическое «видение» в том и заключается, чтобы «ВОСКРЕСИТЬ. Увидеть самой и дать увидеть другим. Я вижу дом у Старого Пимена, в котором, кстати, была только раз» (7;247).
В лирической прозе Цветаевой творческое преображение факта обусловлено особой памятью автора, памятью души, поскольку «область поэта - душа. Вся душа» (7;556). Объясняя своё желание в «Доме у Старого Пимена» «воскресить весь тот мир - чтобы все они не даром жили - и чтобы я' не даром жила!», Цветаева просила В.Н.Бунину ответить по возможности на каждый вопрос («важны факты»), хотя бы конспективно - «пробелы заполню любовью» (7;241). Вскользь брошенная фраза выявила лирическую суть этой её «душевной», «эмоциональной» памяти.
Воссоздавая «истинную природу факта», поэт переносит на него свойства собственной лирической души: «Протокол - их. Костёр -мой» (5;285), «свое отношение к предмету мы делаем его качеством» (5;248). Для Цветаевой самоценностью обладает субъективное восприятие: «как я это вижу» (7;258). «Единственное полное и верное» познание через «я» происходит, по Цветаевой, «под веками, не глядя, всё внутри» (7;465).
і?
При этом Цветаева, отвечая на упрёки в исключительной сосредоточенности на «я», говорит о «вместительности ego», «величины (ёмкости) центра» лирического поэта, которое, чем глубже, тем менее личное, включающее чужую боль, точнее -неразличающее (7;392), а на последнем уровне глубины уже и «не людское», а природное, стихийное, всеслиянное, всеединое (5;415). Это даёт возможность вживания в предмет, человека - изнутри себя и другого, изнутри вещи - и глубже: «изнутри корней» (7;243).
Размышляя в письме к Октаву Обри о сущности такого рода поэтического «преображения» она поясняет: «Вся история - игра с участием всего нескольких персонажей; они всегда одни и те же, и они больше, чем принципы, - они стихийные силы <...>. И я нашла наконец слово: Вы пишете миф"» (7;554). Здесь действуют не люди, а души, не законы истории, а судьбы. Поэтический взгляд -«тайновидчество», которое есть «очевидчество: внутренним оком -всех времён» (4; 195).
Цветаевой утверждалась универсальность принципа мифотворчества. Её заявление - «и так как всё - миф, так как не-мифа
- нет, вне-мифа - нет, так как миф предвосхитил и раз навсегда изваял
- всё» (5; 111) - свидетельствовало о мифологизированности её
мироощущения. Мифотворчеством она называла отношение к людям
поэта М.Волошина: « <...> То есть извлечение из человека основы и
выведение её на свет. Усиление основы за счёт "условий",
сужденности за счёт случайности, судьбы за счёт жизни» (4;205).
Принцип поэтической памяти подобен мифотворчеству, отметается всё пришлое, случайное: «Что не насущно - лишне. Так и получаются боги и герои» (4;206). Погружаясь в глубины «я», поэт опускается в «лоно», «недра», где образы «память» и «мечта» тождественны. Воспоминания о людях, их «воскрешение» сродни «легенде», «мечте». Это и есть «очистительная работа поэзии», через которую поэту даётся «единственное верное знание о предмете» (5;519).
В статье «Пушкин и Пугачёв» Цветаева говорит о близости взгляда поэта, любящего, к народному, который в любви, потребности Веры и Добра забывает «низкие истины» истории и переводит их в песню, в единственно необходимое: «высокие истины» - «Чисто. И эта чистота есть - поэт» (5;521).
В этой связи возникает проблема связей художественного и документального, которая в работах о творчестве Цветаевой рассматривается неоднозначно.
Сопоставляя «Воспоминания» Анастасии Ивановны Цветаевой с автобиографической прозой М.И.Цветаевой, И.Кудрова в своей статье 1976 года отметила, что М.Цветаеву, в отличие от сестры, «ни разу не соблазнило искушение воссоздать сладкие мгновения детской беспечности, детской радости», старшую сестру «прошлое не завораживает». С опорой на автобиографическую прозу М.Цветаевой сделан вывод об отсутствии в её детстве «безоблачного счастья», о её «одиночестве в семье», о «поразительной глухоте» родителей к необычному ребёнку44.
Такая характеристика отношений в семье вызвала протест А.И.Цветаевой, высказавшей в статье 1979 года главный упрёк критику в «смешении творчества с былью»45. По сути, возражение верное, поскольку говорить об объективно существовавших фактах, исходя только из художественной прозы поэта, нельзя. Но и сама А.И.Цветаева впадает в крайность: весьма спорно интерпретируя образы у М.Цветаевой (об этом подробнее в первой главе диссертации), сопоставляя их с тем, что видела, помнила сама, мемуаристка природу художественного преображения в произведениях М.Цветаевой о детстве зачастую толкует как «искажение», «гротеск», «односторонность», «вымысел», к которым автор прозы обращалась с целью «дать одиночество поэта среди непоэтов»46. По верному замечанию В.Швейцер, А.И.Цветаева излишне увлечена «близнецовостью» с сестрой: «у каждой была своя правда». Одиночество поэта среди не-поэтов М.Цветаева «не живописала задним числом; она его действительно пережила». В своих художественных воспоминаниях М.Цветаева, пишет В.Швейцер, вовсе не искажает представления о семье, родных, делая их фоном, контрастом, она «воскрешает» прошлое, передаёт «сущность пережитого»47. Но вопросы, как воплощена эта «сущность пережитого» и, таким образом, что понимать под цветаевским словом «воскрешение», каков его характер - остаются недостаточно объяснёнными. В Швейцер толкует «воскрешение» через цветаевское же слово «восстановление» и выдвигает на первый план М.Цветаеву как исследователя. И если, по В.Швейцер, бытописание
действительно не характерно для Цветаевой в её восприятии факта, то, скажем, выключение мифотворчества из этого ряда более чем спорно. Неприемлемой представляется абсолютизация понимания мифотворчества Цветаевой как сознательной ориентации на «отказ от личной биографии» и создания «биографии заданной»48. В том же русле ведёт свой анализ А.Смит49. О единстве в прозе Цветаевой двух неразрывно связанных понятий «поэзии и правды» справедливо пишет А.Саакянц: основой её произведений «никогда не бывает вымысел», но полагаться на её прозу как на мемуарный источник -«большая ошибка», «факты жизни, правда фактов подвергаются <.. .> творческому переосмыслению и становятся поэзией», «здесь властвует мифотворчество поэта», а реальные имена придают повествованию «магически двойственный оттенок вымысла-реальности»50.
Данная констатация однако не проясняет соотношение «реальность - вымысел» в прозе Цветаевой, и в этой связи И.Кудрова закономерно ставит вопрос: как согласуется «преображённая правда поэта» с «образом, созданным фантазией»? Именно И.Кудрова в своей работе 1982 года более глубоко проникает в характер вымысла у Цветаевой, в тайну творческой переплавки факта и «вымысла». «Преображение - явление совсем другой природы, - пишет она, уточняя выводы А.Саакянц: - выявление истинного, внутреннего, скрытого под случайностью внешнего». Если Цветаева порой «пренебрегает верностью частностям», «нарушает хронологию мелочей» - это «вещи одного ряда. И совсем другое - искажение сути характера, сути отношений <... >. Тогда это действительно фантазия, не имеющая ничего общего с "былью", и говорить о преображённой правде уже не приходится». «Не привлечение вольной фантазии в угоду "художественности", а рассмотрение фактов перед лицом правды - высшей, чем эмпирической», - справедливо заключает И.Кудрова, подобно другим исследователям утверждая мифологический характер творчества Цветаевой: «В мифе её притягивает его живая многозначность»51. В своих воспоминаниях о детстве она, по словам Ю.Иваска, поэта, критика, адресата цветаевских писем, «на свой лад "творит" мифы семейные - об отце, о матери, об историке Иловайском <...>. Герои её литературных
мифов - "дух земли" - Волошин, "пленный дух" - Белый, герой "нездешнего вечера" - Кузмин, Пастернак - "световой ливень" .
О мифотворчестве как основе цветаевского «преображения» писали К.Грельц, С.Ельницкая, И.Кудрова, Е.Лаврова, Ю.Малкова, З.Мациевский, Н.Осипова, А.Саакянц, М.Серова, Л.В.Тышковская Е.Фарыно и др. В своей содержательной работе «Возвышающий обман» С.Ельницкая размышляет о мифотворчестве, его приёмах и функциях как особой форме миротворчества, она верно указывает на одну из основ связи лирики Цветаевой (тоски по невозможному в реальном мире) с «жизнеутверждающей силой художественного вымысла»: «Этот безмерный лирический заряд, разряжающийся в мифотворчестве»53.
Данное замечание и суждения других исследователей о мифологической природе творчества Цветаевой необходимо связать (это сделано нами выше) с представлением о лиризме как особом цветаевском видении факта, определившем своеобразие её произведений о своём детстве и обусловившем особое место этих произведений в отечественной литературе.
Изображение детства в русской автобиографической прозе имеет давнюю традицию.
В XIX в. наиболее значительными произведениями в этом жанре были «Детство» Л.Н.Толстого (1852), «Детские годы Багрова-внука» С.Т.Аксакова (1858), «Детство Темы» Н.Г.Гарина-Михайловского (1892).
Л.Толстой и С.Аксаков «положили начало глубокому художественному исследованию мира детства, психологическому анализу развития личности»54. Раскрываемая Л.Толстым «диалектика души» (Н.Г.Чернышевский) направлена на передачу свойственной ребёнку внутренней подвижности чувства, становления детской души, совершающегося в противоречивом сочетании изначально присущей ему нравственной чистоты и одновременно ложного самолюбия. Внимание автора «Детства» сосредоточено в основном на художественном исследовании связей ребёнка с его ближайшим окружением, средой, активно воздействующей на него как положительно (безграничная любовь матери, доброта людей из народа), так и отрицательно (влияние отца и лиц, живущих по жёстким эгоистическим законам светского общества) . С.Аксаков же
преимущественно изображает взаимоотношения героя с обживаемым миром природы, книг и вещей, процесс возникновения у ребёнка чувства родины, природных родовых корней, связи с предками, землёй, почвой, домом, делая центром повествования «предание семейное, шире - народное»56.
Н.Г.Гарина-Михайловского в большей степени, чем его предшественников, волнует проблема взаимоотношений ребёнка и взрослых не только в рамках семьи, но и общества в целом, той уродующей личность среды, с которой мальчик, столкнувшись с казённой системой гимназического воспитания и образования, сам справиться не в силах5 .
«Ключевой» называют исследователи тему детства в творчестве Ф.М.Достоевского58. Впервые в русской литературе писатель-реалист показал, как вместе с добротой, правдой, красотой уживается в ребёнке гордыня, уязвлённое самолюбие, порою жестокость. Он изображал жизнь дитяти в неблагополучной семье, детство искажённое, не-детство, обнажил болевые точки задумавшегося, страдающего ребёнка59, продолжая верить, что дети с их инстинктивной тягой к истине символизируют новую жизнь, будущее России, и нужно подходить с уважением «к их лику ангельскому <...> к их невинности даже и при порочной какой-нибудь в них привычке, к их безответности и трогательной их беззащитности»60.
Решающую роль среде в её влиянии на сознание ребёнка отводили писатели-демократы Н.Г.Помяловский («Очерки бурсы», 1860), Н.Г.Чернышевский («Автобиография», 1863; критические статьи 1853-1862 гг.), Е.Н.Водовозова («История одного детства», «На заре жизни», 1911), изображавшие детство с точки зрения проблемы идейного формирования разночинной интеллигенции61.
Признание самоценности детства, сосредоточенность авторов на внутреннем мире ребёнка заложили основу изображения процесса формирования личности писателями первой трети XX века. В развитии детской темы отразились трагические события эпохи, связанные с войной и революцией, оторвавшие многих из них от родины. В этой связи известное влияние оказывали исследования русских философов К.Н.Леонтьева, В.В.Розанова, В.С.Соловьёва, И.А.Ильина, разрабатывавших проблему личности ребёнка в
контексте общей проблемы русской духовной национальной культуры, её преемственности .
В автобиографических повествованиях Б.Пастернака, А.Белого, В.Брюсова, К.Бальмонта, А.Толстого, И.Шмелёва, Б.Зайцева, О.Мандельштама, М.Пришвина. И.Бунина, В.Короленко, М.Горького так или иначе получили развитие основные линии изображения детства, намеченные Л.Толстым, С.Аксаковым, Ф.Достоевским, писателями-разночинцами. Вместе с тем, сравнительно с предшествующей литературой в автобиографической прозе XX века существенно меняется сама художественная концепция детства. По заключению исследователей, «детство из конкретной темы литературы всё более превращается во всеобщий угол зрения <...>. Писатели стали исходить из детства как из ближайшей и естественнейшей предпосылки творчества»63.
Для целей диссертации представляется необходимым хотя бы в общих чертах обозначить различные подходы в изображении формирования творческой личности ребёнка писателями -современниками и в известной степени предшественниками М.Цветаевой.
Внутреннюю динамику душевного созревания героя, формирования в нём православного сознания изображал И.С.Шмелёв. В его романе «Лето Господне» (1933-1948) семилетний Ваня приобщается к православию, озаряющему его маленькую жизнь светом добра и любви. Формирование чувств и нравственных понятий будущего писателя протекает в обстановке родного Замоскворечья, в ощущении всеединства людей, «соборного "мы", преодолевающего
расчлененность мира и человека» , родства с миром природы и
миром вещей - «сакральное обытовлено, а быт одухотворён»65.
Общность со шмелёвским решением темы формирования духовного,
православного сознания ребёнка обнаруживает автобиографическая
тетралогия Б.К.Зайцева «Путешествие Глеба» (1934-1953). Однако
путь самосовершенствования героя осложнён «сомнениями
религиозными». И, словами автора («О себе»), «покаянный мотив в известной степени проходит через всё»66.
В собственном детстве находят становление своей писательской индивидуальности К.Д.Бальмонт, И.А.Бунин, М.М.Пришвин. Формирование творческой личности в романе К.Д.Бальмонта «Под
новым серпом» (1923) происходит не столько под влиянием религиозных верований, как у Шмелёва, сколько под воздействием природы и любящих близких. Подобно аксаковским описаниям, тёплые семейные взаимоотношения в единстве с миром родной природы, любовь создают атмосферу лирического переживания, рождающего поэтическое слово. Раскрывая детство как «сложную красивую тайну», автор передаёт процесс созревания в Горике Гирееве энергии «поэтического впечатления», когда возникает потребность «обнять всю полноту знания и чувства. Охватить своею входящею мыслью весь мир, находящийся в беспрерывном творчестве»67. Называя свой роман «Жизнь Арсеньева» (1927-1939) «автобиографией вымышленного лица», И.Бунин тем не менее весьма автобиографичен, последовательно изображая, подобно Л.Толстому, этапы духовного роста героя от детства к юности. Но у писателя отношения мальчика с окружающими запечатлены в меньшей степени, «внутренняя реакция Арсеньева, чаще недоуменная, вопросительная, так непохожа на
/та
"диалектику души" толстовского героя» . Осуществлён замысел «написать жизнь поэта»69. Художественность натуры ребёнка проявляется уже в осознании себя частицей природного бытия, несущего в себе показанную в духе аксаковской традиции память о предках, «память нации, народа о своих корнях» . «Образователями души» явились «дионисийские» начала отца и «высокое напряжение» души матери, чтение Пушкина и Лермонтова, болевое переживание первой смерти, встречи во время путешествий, любовь. Как творческое состояние переданы острое чувство тоски-мечты, одиночество, звучание вольной песни о далёком, неведомом. Истоками духовности стала также национально обозначенная, трогающая любовью и нежностью, природа, поэтическая и нравственная сторона православия, вся обстановка усадебной дворянской жизни и культуры, истории России. Рано ощутил в себе творческое начало и герой романа М.М.Пришвина «Кащеева цепь» (1928, 1956), когда ребёнок, называя себя Лермонтовым, наивно меняет в известном стихотворении строчку «Скажи мне, веточка малины». Однако сделано это было из честолюбивого желания выделиться из Пришвиных, утвердить «своё собственное имя». Самообман породил «стыд к писательству», и только тридцать лет спустя он «решился попробовать писать прозой» - урок в пору
«начала сознания своей личности». Юный герой постепенно проникается глубинной кровной связью «с родом своим и племенем»71, именно здесь заложены истоки творчества. Процесс самоопределения личности будущего писателя и обусловил содержание автобиографического романа о его детстве.
Увлечён художественной задачей воспроизведения детского мироощущения Б.Пастернак в «Детстве Люверс» (1918). Перевоплотившись «каким-то чудом», как выразился В.Каверин, в тринадцатилетнюю девочку, автор, изображая поток детских чувственных впечатлений, показал «мучительный рост детского сознания», пересечения в нём «внутри» и «над», впоследствии ставшее, «мне кажется, - писал В.Каверин, - характерной чертой Пастернака»72.
Теме «священных корней» противопоставлена проза о детстве О.Э.Мандельштама в «Шуме времени» (1925), сознательно полемичном по отношению к «автобиографическим» традициям Л.Толстого и С.Аксакова : «Разночинцу не нужна память, ему достаточно рассказать о книгах, которые он прочёл, - и биография готова»74. Подобное литературное укоренение сознания героя рождает
соответствующий образ - «книжный шкап раннего детства» ,
составивший важное звено в духовном взрослении будущего поэта.
«Книжность» биографии обусловила особую стилистику
повествования: это «отрывочный, пунктирный рассказ о
формировании поэта», насыщенный экспрессивной
метафоричностью , когда, по выражению критика 1920-х годов А.Лежнева, «фраза сгибается под тяжестью литературной культуры и традиции»77. Воинствующее желание автора «говорить не о себе, а следить за веком, за шумом и прорастанием времени»78 определило автобиографический вектор книги - в основном изобразить «становление личности как порождение времени и среды» 9.
Противостоит идиллическому детскому тексту Л.Толстого и С.Аксакова «Детство» М.Горького (1913), тяготеющее к разночинно-демократической традиции. Главной художественной установкой явился здесь показ трудной, полной испытаний и невзгод жизни одарённого мальчика, принуждённого к ранней необходимости самостоятельно преодолевать неблагоприятные обстоятельства.
В XX веке символизм с его поиском новых путей совершенствования человека, духовного и физического преображения, с основными идеями синтеза искусств, жизнетворчества, мифотворчества, мистического прорыва в тайны бытия во многом определил особенности постижения и изображения детства в творчестве Вяч.Иванова, Ф.Сологуба, А.Белого, А.Блока и
ДР-
Так, в «Котике Летаеве» А.Белый (1922) решается на изображение детства, начиная с состояния пребывания ребёнка в материнском лоне. Тем самым в глубинах его памяти зафиксировано чувство слитности с миром природных стихий, «пребывания души в Вечности», ощущения «связи с Космосом» («Надо вспомнить в себе»)80. Его путь к самосознанию и «интуитивному познанию» идёт через триединство: слово, жест, музыка. Пророчески предчувствуя катастрофы русской жизни, автор предрекает своему герою крестные муки. Его будущее представляется восхождением «по лестнице» к вершинам бытия с «деревянным и плечи ломающим крестом» -символы жертвы, мучений, но и спасения, возрождения: «Во Христе умираем, чтобы в Духе воскреснуть»8'.Итогом развития, по А.Белому, обобщает в своей диссертации М.А.Самарина, является «соединение человека с Христом, то есть превращение его в Духочеловека, или Богочеловека, а средством на пути к этому превращению оказывается выросшая из Мудрости Любовь»82.
В разрабатываемой Цветаевой художественной концепции детства, несомненно, так или иначе учитывались сложившиеся в отечественной и зарубежной литературе традиции и опыты современников. К сожалению, её отзывы о текстах предшественников известны далеко не в полном объёме. Так, она особо отмечала произведения С.Т.Аксакова, которого называла «одним из любимых» русских прозаиков (4;622). «Из русских книг больше всего люблю Семейную хронику и Соборян», - писала она Ю.П.Иваску в 1934 г., имея в виду С.Аксакова и Н.Лескова (7;388). О «Семейной хронике» «мечтает» написать статью (Св.т.;161). Неоднократно по разным поводам упоминались ею «Детские годы Багрова-внука» (5;74,119,120,324). Одной из причин её резкой критики «Шума времени» О.Мандельштама в 1925 г. послужили, нужно думать, слова автора, выписанные ею отдельно среди других, вызвавших неприятие,
7.1
его высказываний: «Никогда я не мог понять Толстых и Аксаковых Багровых-внуков, влюблённых в семейственные архивы с эпическими домашними воспоминаниями» (5;312). Цветаева упрекает Мандельштама за отсутствие «человечности» в отношении к прошлому России и собственному детству, за изображения «без сердцевины, без сердца, без крови». Из такого ребёнка, которого Мандельштам «выдаёт за себя», утверждает Цветаева, «ничего не могло выйти для поэзии» (5;311, 315). И напротив, «глубочайшая человечность», чувство ответственности, ощущение преемственности, глубокое почтение к корням и детству в воспоминаниях С.М.Волконского вызывает у Цветаевой благодарный и восхищённый отклик в виде статьи-«апологии», которой она дала ёмкое название «Кедр»: «Корни - рост - вершина, всё налицо, - и какое цветение» (5;247).
Цветаева высоко ставила «Неточку Незванову» и «Подростка» Ф.М.Достоевского - «вещь, по-моему, глубокая, продуманная» (6;20). «Детство Люверс» Б.Пастернака называла «гениальной повестью», несмотря на то, что о героине повести «всё дано, кроме данной девочки, цельной девочки, то есть дано всё пастернаковское прозрение (и присвоение) всего, что есть душа... Девочка, данная сквозь Бориса Пастернака: Борис Пастернак, если был бы девочкой, то есть сам Пастернак, весь Пастернак, которым четырнадцатилетняя девочка быть не может» (5;381).
В «детских» сочинениях Цветаевой, в её статьях, письмах и записных книжках содержатся следующие, оставшиеся не развёрнутыми упоминания о русских и зарубежных художественных текстах о детстве: «Детство» Л.Н.Толстого, «Сергей Бор-Раменский, или Семейство Шалонских» Е.Тур, «Слепой музыкант» В.Г.Короленко, «История маленькой девочки» Е.А.Сысоевой, «Девочки. Воспоминания из институтской жизни» Н.А.Лухмановой, «Дети Солнцевых» и «Юность Кати и Вари Солнцевых» Е.Н.Кондрашовой, «Очерки детства» С.С.Юшкевича, «Чорт» Л.Д.Зиновьевой-Аннибал, «Годы учения Вильгельма Мейстера» И.Гёте, «Приключения Оливера Твиста» Ч.Диккенса, «Жан Кристоф» Р.Роллана, «Без семьи» Г.Мало, «Том Сойер» М.Твена, «Годы учений и странствий Хайди» И.Спири, «Маленький лорд Фаунтлерой»
?.?.
Ф.Бернет, «Переписка Гёте с ребёнком» Б.Брентано, «В поисках утраченного времени» М.Пруста.
Все эти упоминания и характеристики свидетельствуют с несомненностью о глубоком интересе Цветаевой к теме детства, которая в её творчестве представлена своеобразным художественным, психологически зорким исполнением. Не случайно «Мой Пушкин» назван В.Ходасевичем «этюдом по детской психологии, основанным на личных воспоминаниях автора»83. «Мой Пушкин», «Мать и Музыка», по замечанию Ю.Терапиано, «посвящены детским переживаниям. В этих главах Цветаева как бы вновь становится ребёнком, смотрит на мир с детской точки зрения, в отличие от большинства других воспоминаний, в которых так скучны именно вспоминающие своё детство взрослые» . «Рассказ подкупает удивительно тонким, глубоким проникновением в детскую психологию, в богатую прихотливую детскую фантазию» (В.Орлов); «Это проза-воспоминание и проза-прозрение. Проза-исповедь и проза-проповедь. А сверх всего проза-исследование, психологическое
исследование» (Д.Данин)
Понятие «детство поэта» в автобиографическом повествовании и высказываниях Цветаевой получило своё особенное наполнение и художественное решение.
Её детский возраст, по собственному определению, это, прежде всего, «младенчество», «раннее детство». «Я его, - писала она В.Н.Буниной о деде А.Д.Мейне, - отлично помню, как, впрочем, всё и всех - с двух лет» (5;240). Период «раннего детства» длился до семи лет - тогда в её жизнь вошло «и осталось» слово «Вожатый»: «Душа была взята: отдана» (5;498). После семи детство продолжалось, вероятно, до тринадцати, когда она потеряла мать.
Первым семи годам, называя их «своей огромной семилетней жизнью» (5;498), Цветаева придавала решающее значение. «Как бы я написала своё детство (досемилетие), если бы мне - дали» (6;423), -делилась она с А.А.Тесковой в 1935 году, хотя уже были созданы почти все «главные» тексты её автобиографической прозы. Пять лет спустя с настойчивой категоричностью заявлено: «Всё, что любила, -любила до семи лет, и больше не полюбила ничего» (5,6). «Тоска по своему семилетию» (Свт;152) сопровождала её постоянно. В «Автобиографии» 1940 года Цветаева написала: «Сорока семи лет от
?л
роду скажу, что всё, что мне суждено было узнать, - узнала до семи лет, а все последующие сорок - осознавала» (5;6).
«Осознаванием» была и проза Цветаевой о своём детстве, в котором она видела истоки творческой личности. «Страна, где понималось всё», - писала она В.Н.Буниной о времени своего детства, изображение которого - «целый спуск в шахту или на дно морское - и ещё глубже». «Бывшее сильней сущего, а наиболее из бывшего бывшее: детство сильней всего. Корни. Тот «ковш душевной глуби» («О детство! Ковш душевной глуби» - Б.Пастернак), который беру и возьму эпиграфом ко всему тому старопименовскому - тарусскому -трёхпрудному, что ещё изнутри корней выведу на свет» (7;241,243,244). И о талантливой художнице-современнице она написала, что «вся Гончарова в колыбели: сила природы в ней и тяга ремесла» (4;76). Объясняя своему редактору неуместность произведённых им сокращений в посланной рукописи о М.Волошине, Цветаева заметила: «Выбросив детство Макса и юность его матери, Вы урезали образ поэта на всю его колыбель» (7;449).
Тема детства и её художественное воплощение в автобиографической прозе Цветаевой затрагивалась в ранее упомянутых нами работах А.Саакянц, И.Кудровой, В.Швейцер, Л.Фейлер. Воспоминания Цветаевой о детстве в этих исследованиях использованы преимущественно для создания биографии поэта. То же можно сказать о монографиях С.Карлинского86, Д.Таубман87.
И.Кудрова одной из первых отметила, что «неизменная тема Марины Цветаевой в любом отрывке, посвященном детству, -формирование, становление личности»88. В отношениях ребёнка-поэта с матерью И.Кудрова видит «зёрна, позже проросшие и разросшиеся в трагическое мироощущение человека, отъединённого от времени и общества» . С этим выводом не согласилась В.Швейцер. Возражая против самих названий статей И.Кудровой и А.Цветаевой «Корни и листья», «Корни и плоды», она замечает: «Корней - не было. Были - истоки, нет, один исток - Поэзия - подхвативший вот эту неповоротливую, некрасивую, упрямую, злую девочку Марину Цветаеву и заставивший её стать Поэтом <...> Поэтом рождаются». По мнению В.Швейцер, Цветаеву «не интересует вообще "детство", ни даже "становление личности". Она исследует феномен воплощения Поэта в ребёнке»90.
9.4
Обе точки зрения нуждаются в корректировке. И.Кудрова указывает на формирование, становление личности вопреки материнскому влиянию, что не совсем верно и недостаточно полно освещает процесс воспитания и формирования, который шёл под влиянием родителей. Но отмечено верно: истоки трагического мироощущения заложены не только в Поэзии - понятии абстрактном, даже если его воспринимать как миф о Поэте. И зёрна, заложенные свыше, прорастают, формируя личность, основные черты которой выявляются в детстве, преимущественно в первое семилетие. В.Швейцер, отвергая «корни», под которыми она понимает формирование, по существу, исключает влияние родителей и особенно матери. К тому же корни - не только формирование, это ещё и генетические истоки творчества, повторяемость судеб, унаследованность склада души, воспитание. Цветаева: «Корни -нерушимость, в корнях - всё» (7; 245).
Выявление в художественной индивидуальности Цветаевой черт «поэта с историей» и «поэта без истории» свидетельствует о сложности формирования, становления творческой личности как исследовательской проблемы, в которой для нас определяющим было то, что себя Цветаева относила к «лирической породе» (7;553-554).
В связи с исследованием категории трагического в творчестве Цветаевой Р.С.Переславцева рассматривает проблему взросления героини на материале ранней лирики, дневников, «Чёрта» и «Хлыстовок». В своей прозе Цветаева, по справедливому утверждению, делает акцент не столько на детстве, сколько на детстве поэта, изображая становление поэтического сознания ребёнка: «Детское для Цветаевой, уже знающей, что она - поэт, становится
93 y-w
синонимом пратворческого» . Однако вызывает возражение утверждение, что ребёнка-поэта формирует поэзия, воплощением которой является Чёрт. Вне пределов творческих влияний остаются мать, отец, Пушкин.
Недооценка роли отца в творческом росте ребёнка характерна для в целом содержательной книги Д.Таубман94. В монографии о творческом пути М.Цветаевой, рассматриваемом в контексте эпохи модернизма, И.Д.Шевеленко, говоря о «силах, складывающих творческую личность», в самом общем виде и весьма спорно делит влияние на «человеческое» (мать), «не-человеческое» (чёрт) и
7.S
«традицию» (Пушкин). Роль матери сводится только к «чужой человеческой воле»95. В нашем исследовании и мать, и Чёрт, и Пушкин являются Вожатыми в формировании творческой личности.
Вожатый - один из ключевых образов в творчестве Цветаевой. О двух типах образов - «Вожатый» и «ведомый» в фольклорных поэмах Цветаевой - писали Е.Фарыно и Е.Б.Коркина. В работе Е.Б.Коркиной Вожатый (Царь-Девица, Всадник, Чернокнижница, Молодец-упырь) -высшая демоническая сила, к союзу с которой стремится герой, что приводит его либо к смерти, либо к перерождению96. Согласно Е.Фарыно, в архетипе «вожатый» диапазон амбивалентности варьируется от Ангела-хранителя до демона-губителя97. Вожатый как архетипическая фигура «водителя души», психопомп, изоморфный юнговским «Аниме» и «старому мудрецу» в значении Просветлённого Мастера, учителя, бессмертного духа, творца, приобщающего к идеальному миру ценой жертв и потерь, исследуется Г.Петковой на материале фольклорных поэм Цветаевой и творчества Данте. Г.Петкова в перспективе распространяет архетипический образ «вожатого» на всё творчество Цветаевой98.
Два типа персонажей: «героя-подорожнього и проводирив» (героя-путешественника и проводника, ведомого и ведущего) в прозе Цветаевой выделяет С.Н.Бунина. Изучение жанровой природы прозы Цветаевой о детстве привело С.Н.Бунину к заключению, что структуру текстов составляет процесс открытия девочкой мира и самой себя. Последнее квалифицируется очень широко, как «вечное самоопределение личности ребёнка перед ликом Творца»99. Справедливо подчёркивая роль матери в приобщении ребёнка к лирике через музыку, С.Н.Бунина не указывает, однако, на более скрытое в текстах, но не менее значимое, в том числе и в «Мать и Музыке», отцовское влияние в становлении поэта. В рассматриваемой диссертации незаслуженно принижен тематический подход к текстам за счёт их жанровой принадлежности. При этом автор сосредоточен на мифологическом аспекте, который неправомерно становится главным в жанровом разграничении «рассказов» и «повестей» в прозе Цветаевой.
Содержательное исследование мифологической структуры на всех уровнях произведений Цветаевой о детстве (сюжета, мотивировки событий, идейного содержания, языка) предложено
З.Мациевским. Детские воспоминания Цветаевой он возводит к двум топосам семейных мифов: мотив «зачатия не по любви» и как результат рождение нежеланного ребёнка и мотив противопоставления друг другу сестёр. В рассуждениях о влиянии матери с излишней категоричностью заявлено о полном подчинении ей старшей дочери из чувства долга. Спорна мысль о преднамеренно предпочтительном отношении матери к младшей дочери100.
Прослеживая самоопределение лирического сознания поэта в лирическом цикле «Стол» и автобиографической прозе «Мать и Музыка» и «Отец и его Музей», М.В.Серова рассматривает образы родителей Цветаевой как «варианты стола», как основные символы космогонического мифа101.
Как видим, для большинства исследователей характерно внимание к мифологической основе текстов. Сам процесс формирования, становления творческой личности не являлся предметом специального изучения.
Освоением этой малоизученной темы обусловлена актуальность
предлагаемого нами диссертационного исследования.
Объект изучения - автобиографическая проза М.И.Цветаевой. Предметом исследования является образная система
автобиографической прозы М.И.Цветаевой о своём детстве,
отражающая процесс формирования творческой личности поэта.
Материалом изучения послужили художественные тексты М.И.Цветаевой: «Дом у Старого Пимена», «Башня в плюще», «Музей Александра III», «Жених» (1933), «Мать и Музыка», «Сказка матери», «Хлыстовки», «Открытие Музея» (1934), «Чёрт» (1935), «Отец и его Музей» (1936), «Мой Пушкин» (1937). В соответствии с концепцией диссертации особое внимание в анализе уделено «Мать и Музыке», «Чёрту» и «Моему Пушкину».
Мы обращаемся также к её стихам, поэмам, письмам, дневникам, записным книжкам, воспоминаниям, статьям. К исследованию привлечены архивные материалы, хранящиеся в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ): дневник матери - М.А.Мейн-Цветаевой и воспоминания сводной сестры -В.И.Цветаевой.
Цель работы - исследовать образное воплощение процесса формирования творческой личности в автобиографической прозе М.И.Цветаевой о детстве поэта.
7.1
Задачами исследования диссертант полагает:
- выявить общие принципы изображения автором своих родителей, исследовать «главенствующее влияние» (М.И.Цветаева) матери;
- раскрыть образы Матери, Чёрта, Пушкина как Вожатых в
формировании творческой личности героини автобиографической
прозы М.И.Цветаевой;
- исследовать составляющие «строя души» ребёнка-поэта
(«тайный жар», «любовь-тоска»), становление поэтического сознания
в движении от Музыки к Слову.
Научная новизна исследования определяется его главной целью и самим обращением к теме, которая до сего времени не была предметом специального изучения.
Методологическая основа диссертации представляет собой синтез историко-литературного, целостного анализа с использованием сравнительно-типологического и биографического подходов, разработанных в трудах В.М.Жирмунского, Д.С.Лихачёва, Ю.М.Лотмана, А.П.Скафтымова, Б.В.Томашевского. Значение имели теоретические труды по литературе (М.М.Бахтин, В.В.Виноградов, Б.А.Успенский, В.Е.Хализев, Л.В.Чернец и др.), психологии (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже, З.Фрейд и др.), философии (Н.А.Бердяев, С.С.Зеньковский, Ф.Ницше, В.В.Розанов, В.С.Соловьёв, Й.Хейзинга, и др.).
В ходе изучения образной системы автобиографической прозы о детстве поэта мы опирались на мифопоэтический метод и результаты изучения художественных символов, представленные в исследованиях А.Н.Афанасьева, М.Л.Гаспарова, Вяч.В.Иванова, А.Ф.Лосева, Д.Е.Максимова, Е.М.Мелетинского, В.Н.Топорова, О.М.Фрейденберг.
В осмыслении автобиографической прозы писателей Серебряного века содействие оказали диссертации и монографии Л.И.Бронской, Л.Я.Гинзбург, Г.П.Козубовской, Л.А.Колобаевой, Т.М.Колядич, Д.Л.Магомедовой, И.Г.Минераловой, Н.А.Николиной, Г.В.Орловой, Н.Е.Тропкиной, А.Ханзен-Лёве и др.
Методологическое значение имели концептуальные изложения биографии и творчества М.И.Цветаевой в публикациях Т.М.Геворкян, С.И.Ельницкой, Л.В.Зубовой, С.Карлинского, Е.Б.Коркиной, И.В.Ку-дровой, Е.Л.Лавровой, В.Лосской, М.В.Масловой, Л.А.Мнухина,
?8
Н.О.Осиповой, О.Г.Ревзиной, А.А.Саакянц, М.В.Серовой, А.Смит, З.Мациевского, Е.Фарыно, В.А.Швейцер, И.Д.Шевеленко и др.
Теоретическое значение осуществлённого исследования состоит в систематизации различных взглядов на автобиографическое повествование, в обосновании понятия «проза поэта», в выявлении механизма сложения художественного феномена автобиографического нарратива о детстве поэта.
Практическая значимость работы подтверждается включением материалов диссертации в занятия автора со студентами по курсам «История русской литературы XIX века», «История русской литературы XX века», в процессе подготовки курсовых и дипломных работ. Результаты исследования могут быть использованы в спецкурсах, спецсеминарах, а также в школьном изучении русской литературы. Возможно применение наблюдений диссертанта в научно-комментаторской работе при издании автобиографической прозы М.И.Цветаевой и её писем.
Апробация исследования осуществлялась в выступлениях с научными докладами на Международных Цветаевских чтениях (Москва, 2000-2003; Елабуга, 2002), Региональных конференциях литературоведческих кафедр университетов и педагогических институтов Поволжья (Саратов, 2000; Ярославль, 2002), межвузовских (Череповец, 2000; Таруса, 2001) и внутривузовских конференциях (Саратов, 1999-2003). Основные положения и выводы диссертации отражены в десяти опубликованных и двух подготовленных к печати статьях.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 В скобках здесь и в дальнейшем указываются том и страницы издания:
Цветаева Марина. Собр.соч.: В 7 т. М.: Эллис Лак, 1994-1995. В цитатах слова,
набранные курсивом, выделены Цветаевой, подчёркнутые слова или буквы
выделены нами.
2 Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе // Вопросы литературы
и эстетики. М, 1975. С.281.См. также: Литературная энциклопедия терминов и
понятий / Гл. ред. и сост. А.Н.Николюкин. М.: НІЖ «Интелвалк», 2001. Стб. 15.
Николина Н.А. Поэтика русской автобиографической прозы: Учеб. пособ. М: Флинта: Наука, 2002. С. 13.
4 Здесь и далее следует сокращённое написание (ПНГ) с указанием страниц
издания: Цветаева Марина. Письма к Наталье Гайдукевич. М: Русский путь,
2002.
5 КудроваИ. Листья и корни // Звезда. 1976. № 4. С. 189.
7.Q
Вольская Н.Н. Поэтика автобиографических очерков М.И.Цветаевой (повтор как ведущая черта идиостиля автора): Дис. ... канд. филол. наук. М., 1999. С.9.
7 Кудрова Ирма. После России. О поэзии и прозе Марины Цветаевой. М.,
1997. СИЗ.
8 Саакящ А. Проза поэта // Цветаева Марина. Собр.соч.: В 7 т. Т.4.
С.630,634.
9 Саакящ А. Твой миг, твой день, твой век: Жизнь Марины Цветаевой. М.:
Аграф, 2002. С.328.
10 Фейлер Л. Марина Цветаева / Пер. с англ. Ростов-на-Дону: Изд-во
«Феникс», 1998. С.37-46.
11 Швейцер Виктория. Быт и бытие Марины Цветаевой. М.: Молодая
гвардия, 2002. С.359.
12 Смит Александра. Песнь пересмешника: Пушкин в творчестве Марины
Цветаевой/Пер. с англ. М.: ДМЦ. 1998. С. 127.
13 Серова М.В. Автобиографическая проза в общем контексте поэтического
самоопределения М.Цветаевой («Мать и музыка», «Отец и его музей», «Стол») //
Вестник Удмуртского университета. 1999. № 9. С.20.
14 Мацеевский 3. Приём мифизации персоналий и его функция в
автобиографической прозе М.Цветаевой // Марина Цветаева: Труды 1-го
Междунар. симпозиума / Под ред. Р.Кэмбалла в сотр. с Е.Г.Эткиндом и
Л.М.Геллером. Bern - Berlin - Frankfurt / m - New-York - Paris - Wien. С133.
15 Буніна C.H. Автобіографична проза М.І.Цвзтазвоі: Поетика, жанрова
своєрідність, світосприйняття: Автореф. ... канд.філол.наук. Харьків, 2000. С.13.
16 De Man Paul. Autobiography as de-Facement II De Man Paul. The Rhetoric of
Romanticism. New-York: Columbia University Press, 1984. P.67-68. Цит. no:
Маликова М.Э. Автобиографический дискурс в творчестве В.Набокова (Сирина):
Дис. ... канд.филол.наук. СПб., 2001. С.9.
17 Письмо к М.Цветаевой от 13 октября 1935 г. // Переписка Бориса
Пастернака. М.: Худож.литерат., 1990. С.405.
1 Цит. по кн: ЦветаеваМ. Неизданное. Записные книжки: В 2 т. М.: Эллис Лак, 2000-2001. Т.2. В тексте диссертации ссылки даются сокращённо (Зпк) с указанием тома и страниц этого издания.
19 Гуль Р.Б. Цветаева и её проза // Русское зарубежье: Сб. М.: «Роман-
газета», 1993. С.222,223.
20 Степун Фёдор. Предисловие // Проза Марины Цветаевой.Соругі1ії, 1953.
С.13.
21 См.: ЛавроваЕ.Л. Поэтическое миросозерцание М.И.Цветаевой. Горловка:
ПТТИИЯ, 1994. С.34.
22 Якобсон Р. Работы по поэтике / Вступ, статья Вяч.Вс.Иванова и общ ред.
М.С.Гаспарова. М.: Прогресс, 1987. С.325.
23 Минералова Ирина. Русская литература Серебряного века (поэтика
символизма). М.: Изд-во Литер.ин-та им. А..М.Горького, 1999. С. 149.
24 Жирмунский В. Теория стиха. Л.: Сов писатель, 1975. С.576. Имелась в
виду работа Б.В.Томашевского «Ритм прозы (по «Пиковой даме»)», включённой в
его книгу «О стихе» (Л., 1929. С.318).
25 Шапошникова В.В. «Пространство души» в прозе К.Бальмонта //
Константин Бальмонт, Марина Цветаева и художественные искания XX в.:
Межвуз. сб. науч. тр. Иваново: Изд-во ИГУ, 1999. Вып.4. С.93,94.
6 Лихачёв Д. Поэтическая проза Б.Пастернака // Лихачёв Д. Литература -реальность - литература. Л., 1984. С. 168.
Магомедова Д. Соотношение лирического и повествовательного в творчестве Пастернака // Изв.АН СССР Сер.лит. и яз. М.,1990. Т.49. № 5. С. 414-419.
28 Белая Г. «...Образ мира в слове явленный...» // Вопросы литературы. 1984. №4. С.219.
Малинова М.Э. Автобиографический дискурс в творчестве В.Набокова (Сирина): Дис. ... канд.филол.наук. СПб., 2001. С.60.
Орлщкий Ю.Б. Стих и проза в русской литературе: Очерки истории и теории. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1991. С.55.
Орехова Л.А, Современная лирическая проза (проблемы стиля и жанра): Автореф. дис. ...канд.филол.наук. М., 1983. С. 17.
32 Муравьёв Д. Лирическая проза// Словарь литературоведческих терминов /Ред.-сост. Л.И.Тимофеев и С.В.Тураев. М.: Просвещение, 1974. С. 176.
См.: Корман Б.О. Опыт описания литературных родов в терминах теории автора (субъектный уровень) // Проблема автора в художественной литературе. Ижевск: Изд-во ИЛИ, 1974. Вып.1. С.7.
34 См.: Соболевская О.В. Лирическая проза // Литературная энциклопедия терминов и понятий. М.,2001. Стб.450,451-452.
Гинзбург Лидия. О психологической прозе. Л.: Худож.литер., 1977. С.133.
36 Терапиано Ю. Перечитывая Цветаеву // Марина Цветаева в критике
современников: В 2 ч. ЧИ. 1942-1987 годы. Обречённость на время. М.: Аграф,
2003. С.32.
37 Кудрова И. Лирическая проза Марины Цветаевой // Знамя. 1982. № 10.
С.172-173.
Между тем, эти слова повсеместно принято считать цветаевскими. Напр., см.: ЦветаеваМ.И. Об искусстве. М.: Искусство, 1991. С. 7.
39 Бродский о Цветаевой: интервью, эссе. М.: «Независимая газета», 1997.
С. 59,62,66.
40 См.: Ревзина О.Г. Горизонты Марины Цветаевой // Здесь и теперь. 1992.
№ 2. С.98-116; Ревзина О.Г. Марина Цветаева // Очерки истории языка русской
поэзии XX века: опыты описания идиостилей. М., 1995. С.314-331; Ревзина О.Г.
Системно-функциональный подход в лингвистической поэтике к проблеме
описания поэтического идиолекта: Дис... докт. филол. наук. М.: МГУ, 1999. -
286 с; Зубова Л.В. Поэзия Марины Цветаевой: Лингвистический аспект. Л.: Изд-
во Ленингр. ун-та, 1989. - 264 с; Зубова Л.В. Язык поэзии Марины Цветаевой
(Фонетика, словообразование, фразеология). СПб.: Изд-во С.-Петербурге, ун-та,
1999. - 232 с; Лаврова СЮ. Формулы в текстовой парадигме (на материале
идиостиля М.Цветаевой): Монография. М.: Прометей, 1998. - 194 с; Лаврова
СЮ. Художественно-лингвистическая парадигма идиостиля М.Цветаевой:
Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 2000. - 47 с; Горелкина А.В.
Словообразовательные окказионализмы в мемуарных прозаических
произведениях М.Цветаевой и А.Белого: Автореф. дис. ... канд.филол.наук. М.,
1999. - 24 с; Лисенкова И.М. Опыт описания структуры семантического поля в
художественном тексте: (На материале очерка М.Цветаевой «Мать и музыка») //
Педагогика, филология, журналистика: Опыт и перспективы: Сб. науч. тр.
Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 1996. С. 179-181; Вольская Н.Н. Стилистические
функции звукового и морфологического повтора в автобиографической прозе
М.И.Цветаевой // Филологические науки. М., 1999. № 2. С.45-53; Козина Н.А.
Стиль очерка М.Цветаевой «Мой Пушкин»: (Синтаксический уровень) // Вопросы
стилистики. Сб.статей. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1999. Вып.20. С. 122-134;
Ахмадеева С.А. Аппликативная метафора в актуализирующей прозе («Мой
Пушкин») М.Цветаевой // А.С.Пушкин - М.И.Цветаева: 7-я цветаевская межд. научно-практич. конф.: Сб.докл. М.:ДМЦ, 2000. С.59-74; Ляпон М.В. Семантика парадокса: (М.Цветаева: проза, дневники, письма) // Марина Цветаева: личные и творческие встречи, переводы её сочинений: 8-я цветаевская междунар. науч.-тем. конф.: Сб. докл. М.: ДМЦ, 2001. С.255-263.
41 Марина Цветаева в критике современников: В 2 ч. М., 2003. Ч.П. С.
17,75,391.
42 Здесь и далее следует сокращённое написание (Свт) с указанием страниц
издания: Цветаева Марина. Неизданное. Сводные тетради / Подг.текста, предисл.
и примеч. Е.Б.Коркиной и И.Д.Шевеленко. М.: Эллис Лак, 1997.
См.также: Цветаева Марина. Письма Анатолию Штейгеру. Калининград, Моск.обл. Музей М.И.Цветаевой в Болшево. Изд-во «Луч-1», 1994. С. 106.
44 КудроваИ. Листья и корни // Звезда. 1976. № 4. С. 192.
45 Цветаева А. Корни и плоды // Звезда. 1979. № 4. С.188.
46 Там же. С. 191-192.
Швейцер В. Быт и бытие Марины Цветаевой. М.: Интерпринт, 1992. С.66.
48 Там же. С.65.
49 Смит Александра. Песнь пересмешника. С. 127-179.
50 СаакянцА. Проза поэта. С.632,633.
51 Кудрова И. После России. О поэзии и прозе Марины Цветаевой.
С. 107,110,120. О мифологизме как «знаковом» факторе, определявшем
художественные искания писателей рубежа Х1Х-ХХ вв., см.: Топоров В.Н.
Неомифологизм в русской литературе начала XX века. Роман А.А.Кондратьева
«На берегах Ярыни». Trento, 1990; Козубовская Г. П. Проблема мифологизма в
русской поэзии конца Х1Х-начала XX вв. Самара-Барнаул: Изд-во Барнаульск.
гос. пед. ун-та, 1995. С. 10-11; Осипова И.О. Творчество М.И.Цветаевой в
контексте культурной мифологии Серебряного века. Киров: Изд-во Вятск. гос.
пед. ун-та. 2000. С.З. Также см.: Максимов Д.Е. Русские поэты начала века. Л.,
1986; Цивъян Т.В. Кассандра, Дидона, Федра: Античные героини - зеркала
Ахматовой // Литерат. обозр. 1989. № 5. С.29-33; Баевский B.C. Пастернак -
лирик: Основы поэтической системы. Смоленск, 1993; Максимов Д.Е. О
мифопоэтическом начале в лирике Блока : (Предварительные замечания) //
Блоковский сборник. Ш. Тарту, 1993. С.3-33; Минц З.Г. О некоторых
«неомифологических» текстах в творчестве русских символистов // Блоковский
сборник. Ш. Тарту, 1993. С.76-120.
52 Марина Цветаева в критике современников: В 2 ч. М., 2003. Ч.П. С.114.
53 Елънщкая С «Возвышающий обман»: Миротворчество и мифотворчество
Цветаевой // Марина Цветаева. 1891992: Норвичские симпозиумы по русской
литературе и культуре. Нортфилд, Вермонт, 1992. Т.П. С.48.
54 Орлова Г.В. Автобиографическая проза на рубеже двух эпох: (К вопросу о
традициях и новаторстве) // Проблемы реализма в русской литературе начала XX
века: Сб. науч. тр. М.: МОПИ, 1974. С.44.
55 См.: Чуприна И.В. Трилогия Л.Толстого «Детство», «Отрочество» и
«Юность». Саратов: Изд-во Сарат. гос. ун-та, 1961. С.84-91, 113-114.
56 Лобанов М. Т. Сергей Тимофеевич Аксаков. М.: Молодая гвардия, 1987.
С.304; см. также: Бондарь СЮ. Тема детства в автобиографических повестях
С.Аксакова и Л.Толстого // Проблемы детской литературы: Сб. науч. тр.
Петразаводск: Изд-во ПТУ, 1992. С.83.
57 См.: Савина Л.Н. Проблематика и поэтика автобиографических повестей о
детстве второй половины XIX в. (Л.Н.Толстой «Детство», С.Т.Аксаков «Детские
\7
годы Багрова-внука», Н.Г.Гарин-Михайловский «Детство Темы»). Волгоград: Перемена, 2002. С.262.
58 Пушкарёва B.C. Дети и детство в художественном мире
Ф.М.Достоевского: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1975. С.4.
59 См.: Смирнова В.В. Образ страдающего ребёнка в романе
Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы» // Изучение литературы в вузе: Учеб.
пособ. Саратов: Изд-во Сарат. пед. ин-та, 2000. Вып.З. С.30-37.
60 Достоевский Ф.М. Полн.собр.соч.: В 30 т. Л.,1972-1989. Т.22. С.69.
61 Лотман Л.М. Реализм русской литературы 60-х годов XIX века: (Истоки
и эстетическое своеобразие). Л.: Наука, 1974. С.240-247.
62 Леонтьев КН. Грамотность и народность // Леонтьев КН. Собр.соч.: В
10 т. М., 1912-1913. Т.З. С.54; Соловьёв B.C. Оправдание добра // Соловьёв B.C.
Соч.: В 2 т. 2-е изд. М.,1990. Т.1. С.498; Ильин И.А. Путь духовного обновления //
Ильин И.А. Путь к очевидности. М., 1993. С.208.
63 ЭпштейнМ., ЮкинаЕ. Образы детства//Новый мир. 1979. № 12. С.244.
64 Есаулов И. «Праздники. Радости. Скорби» // Новый мир. 1992. № 10.
С.235.
65 Агеносов В.В. Литература russkogo зарубежья. М.: Терра спорт, 1998.
С. 114. См. также: ЕфимоваЕ.С. Священное, древнее, вечное... Мифологический
мир «Лета Господне» // Литература в школе. 1992. № 3-4. С.36; Чумакевич Э.В.
Духовно-нравственное становление личности героя в дилогии И.С.Шмелёва
«Богомолье» и «Лето Господне»: Дис. ... канд.филол.наук. Минск, 1993. С. 128.
66 Цит. по кн.: Агеносов В.В. Литература russkogo зарубежья. С. 131.
Бальмонт Константин. Автобиографическая проза. М., 2001. С.97,180.
68 Смирнова Л.А. Иван Алексеевич Бунин: Жизнь и творчество: Кн. для
учителя. М.: Просвещение, 1991. С. 154.
69 Саакянц А. «Жизнь Арсеньева» // Бунин И.А. Соч.: В 3 т. М.:
Худож.литерат., 1982. Т.З. С.496.
0 Колобаева Л.А. Концепция личности в русской реалистической литературе рубежа Х1Х-ХХ веков. М.: Изд-во МГУ, 1987. С.46-47; БочаеваН.Г. Мир детства в творческом сознании и художественной практике И.А.Бунина: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Елец, 1999. С. 16-18.
7 ПришвинМ.М. Кащеева цепь. М.: Худож.литерат., 1960. С. 12-13. 2 Каверин В. Счастье таланта: Воспоминания и встречи, портреты и размышления. М.: Современник, 1989. С.75.
73 Кривулин В. Три прозы поэта // Звезда. 1995. № 6. С. 184.
Мандельштам О. Четвёртая проза. М.: СП Интерпринт, 1991. С.93-94.
Там же. С.55.
С.59. С.40.
Фрейдин Ю. «Закон сохранения энергии» // Наше наследие. 1991. № 1.
Нерпер П. Отголоски шума времени // Вопросы литературы. 1991. Январь.
Мандельштам О. Четвёртая проза. С.93. 9 ЧерашняяД.И. Этюды о Мандельштаме. Ижевск, 1992. С.57. 80 Пискунов В.М. Становление самопознающей души // Белый А. Собр. соч. М.Республика, 1997. С.6,7.
Дворяшина Н.А. Художественный образ детства в творчестве Фёдора Сологуба: Дис. ... канд. филол. наук. Сургут, 1998. С.23.
Самарина М.А. Воплощение религиозно-философских и эстетических исканий А.Белого в его романах начала века («Серебряный голубь», «Петербург», «Котик Летаев»): Дис. ... канд. филол. наук. М., 2000. С.82.
Марина Цветаева в критике современников: В 2 ч. М., 2003. 4.1. С.479.
84 Там же. Ч.П. С.36.
85 Там же. Ч.П. С.385, 391.
86 Karlinsky S. Marina Cvetaeva. Her Life and Art. Berkeley and Los Angeles,
1966; Он же: Marina Tsvetaeva. The Women, her World, and htr Poetry Cambridge,
1985.
87 Таубман Джейн. «Живя стихами...»: Лирический дневник Марины
Цветаевой / Пер. с англ. Т.Бабёнышевой. М.: ДМЦ, 2000.
88 Кудрова И. Листья и корни // Звезда. 1976. № 4. С. 190.
Кудрова И. Листья и корни. С. 191.
90 Швейцер В. Быт и бытие Марины Цветаевой. С.66,67.
91 Геворкян Т. Поэт с историей или поэт без истории? (Читая «Сводные
тетради» Марины Цветаевой) // Вопросы литературы. 2000. Янв.-февр. С.74-94.
92 Павловская Г. Ч. Проблема психологии творчества в художественном мире
М.Цветаевой // Марина Цветаева: личные и творческие встречи, переводы её
сочинений: 8-я цветаевская междунар. науч.-тем. конф. Сб. докл. М.: ДМЦ, 2001.
С.291-295.
93 Переславцева Р.С. Поэтика трагического в творческой эволюции
М.Цветаевой: Автореф. дис. ... канд.филол.наук. Воронеж, 1998. С. 10.
94 Таубман Джейн. «Живя стихами...».: Лирический дневник Марины
Цветаевой. М.,2000.
95 Шевеленко И. Литературный путь Цветаевой: Идеология - поэтика -
идентичность автора в контексте эпохи. М.: НЛО, 2002. С 360-361, 364, 369.
96 КоркинаЕ.Б. Поэмы Марины Цветаевой: (Единство лирического сюжета):
Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1990. С.8-9.
97 Фарыно Е. Мифологизм и теологизм М.Цветаевой («Магдалина», «Царь-
Девица», «Переулочки»). Wien, 1985. С.228.
8 Пешкова Г. Данте - Цветаева: архетипическая фигура «водителя души» // «...Всё в груди слилось и спелось»: 5-я цветаевская межд. науч.-тематич. конф.: Сб. докл. М: ДМЦ, 1998. С.202.
99 Буніна С.Н. Автобіографична проза М.І.Цвзтазвоі: Поетика, жанрова
своєрідність, світосприйняття: Автореф. ... канд.філол.наук. Харьків, 2000.
С.4,13.14 (Перевод наш. - O.K.).
100 Мацеевский 3. Приём мифизации персоналий и его функция в
автобиографической прозе М.Цветаевой // Марина Цветаева: Труды 1-го
Междунар. симпозиума / Под ред. Р.Кэмбалла в сотр. с Е.Г.Эткиндом и
Л.М.Геллером. Bern - Berlin - Frankfort / m - New-York - Paris - Wien. С136;
Macieywski Z. Proza Maryny Cwietajewej. Warszawa, 1982. - 167 S.
101 Серова M.B. Автобиографическая проза в общем контексте поэтического
самоопределения М.Цветаевой («Мать и музыка», «Отец и его музей», «Стол») //
Вестник Удмуртского университета. 1999. № 9. С.20.
Биография матери. Общие принципы изображения родителей
Опираясь на комплекс документальных свидетельств, отметим основные черты облика Марии Александровны, выявляющие её глубокое внутреннее родство с дочерью, Мариной Цветаевой. Выделим в биографии матери те моменты, которые в художественном осмыслении Цветаевой повлияли на формирование творческой личности будущего поэта.
Со страниц уцелевших писем матери, отрывков её девического дневника, из воспоминаний Валерии и Анастасии Цветаевых, высказываний И.В.Цветаева, записных книжек Марины Цветаевой вырисовывается богато одарённая и необыкновенно сложная личность Марии Александровны - со взрывоопасным соединением романтизма, максимализма и аскетизма; натура героическая, жертвенная и деспотичная; с высокими идеалами и непомерной требовательностью к себе и окружающим; вспыльчивая, резкая, непримиримая; с причудливыми странностями в быту, неутомимостью в работе, отзывчивая и гордая, ранимая и не по-женски сильная; одержимая, мятежная, страстная и сдержанно-замкнутая, одинокая, глубоко скрытная.
«Главенствующее влияние матери (музыка, природа, стихи, Германия, страсть к еврейству. Один против всех. Heroica)», - писала М.Цветаева в «Ответе на анкету» (4;621).
Мария Александровна осталась без матери девятнадцати дней от роду. Её мать, Мария Лукинична Бернацкая, красавица полька, великолепно играла на рояле. По семейной легенде, вышла замуж не по любви. Умерла двадцати семи лет.
Отец, Александр Данилович Мейн, из остзейских немцев с примесью сербской крови, прошёл путь от кадета и преподавателя истории до управляющего канцелярией московского генерал-губернатора, издателя «Московских губернских ведомостей», директора земельного банка. Был человеком незаурядным, остроумным, деловым, волевым и сдержанным. Увлекался музыкой, литературой, историей, пере is
водами, журналистикой. Собрал огромную библиотеку и коллекцию слепков античной скульптуры, которую впоследствии подарил Музею изобразительных искусств1.
Отец дал дочери блестящее образование. Редкостно одарённая в музыке, она брала уроки у В. Муромцевой, одной из лучших учениц А.Рубинштейна. Искусству кисти с ней занимался известный художник-жанрист М.П.Клодт. Мария Александровна свободно владела французским, немецким, английским, итальянским языками, переводила художественные тексты, писала стихи.
«Лучшие годы моего детства - безмятежные, тихие, ясные, полные свежести и жизни», - вспоминала Мария Александровна в днев-нике (Л.23) . Но он же свидетельствует об её одиночестве в семье, о скрываемой даже от себя тоске по материнской любви, ласке, простоте понимания: « ... Да нежностей я не люблю, ласок, поцелуев, разве только редко когда-нибудь ... И, наконец, кому они нужны, эти «нежности»?..» (Л.41). Отец, обожавший дочь, в проявлении чувств был сдержан, суров. Любовь граничила с деспотизмом. А.Д.Мейн был сторонником домашнего воспитания, и круг общения сужался до предельной избирательности. Возможности проявления «громадного таланта» (6;123) замыкались семейным очагом. Швейцарка-гувернантка «Тьо», по отзывам близких, женщина большого сердца3, смягчала систему воспитания, но в целом не могла её изменить. Ещё меньше она была способна понять внутреннюю жизнь одарённой девочки, её идеалы и устремления. «Вот мне все говорят: "нельзя целый день читать, надо же наконец приняться за что-нибудь более полезное, заняться рукоделиями, как подобает женщине, а не учёному. Ты готовишься быть женою и матерью, а не читать лекции и писать учёные диссертации". Всё это так. Но когда же и читать, если не теперь, пока я молода и пока мне можно?»4.
Музыка, литература, живопись подменяли реальность, «замкнутая, фантастическая, болезненная, не-детская, книжная жизнь» (6; 122), которой правил Романтизм. Выход мятущейся душе Мария Александровна находила в безумии музыкальной игры (по словам Цветаевой, «мать не женски владела роялем» - 4;543), в дневнике, в уединённом общении с природой (особенно любила осеннюю, пасмурную, увядающую). Дневник Мария Александровна вела на протяжении всей жизни. На сохранившихся страницах девятнадцатилетия замечен отпечаток подражательности, сентиментализма, книжности. Она страстно любила германскую культуру - Гейне, Гете, Шиллер, Шуман, Штраус, Бетховен. Из русских писателей в дневнике упомянуты Лермонтов, Жуковский, Тургенев. Восхищалась героями: Валленщтейн, Поссарт, Людовик Баварский, сосланный Наполеон. С вызовом защищала отверженных, романтически преклонялась перед страданием: « ... а когда человек страдает, надо всё забыть, кроме его страданий» (Л. 19). Сравним цветаевское - «Прав, раз обижен» (1;581).
В этой части диссертационной главы особо отметим, что уже в детстве в Марии Александровне обнаруживается то исконное состояние творческой лирической души, которое является самым сущностным зерном родства с её старшей дочерью: тоска по невозможному, небывшему и несбывшемуся. «И мне, - писала Мария Александровна в своём дневнике, - становилось так грустно, так безотчётно грустно, меня тянуло куда-то вдаль, туда, где небо сходится с землею, где сияет лес едва заметной полосой на горизонте», «Лучше страдать неудовлетворением, чем пресыщением» (Л.46). Возможно, именно эта природа лежит в истоке трагедии любви Марии Александровны.
Урок высокой музыкальной игры
Мать за роялем вырастает в образ дерева (ёлка - голова, ветви -руки, ноги - корни), становится символом мироздания: мирового древа, горы, антропоморфной лестницы, из которой ребёнок восходит к собственному призванию и судьбе.
Портрет матери от волшебного изменяется в смертной теме в сторону отсечения всего земного и телесного. В одежде прочерчивается простор для материнской безмерности. «В бежевой дорожной пелерине, которую заказала, чтобы не мерить рукавов» (5;31) мать становится для детей «неузнаваемой и огромной». Пелерина соотносится с саваном. Но «миф савана не знает», и «все живые, живыми входят в смерть, кто - с веткой, кто - с книжкой, кто - с игрушкой...» («Дом у Старого Пимена» - 5;112). Значим цвет пелерины. Для человека, в жизни предпочитающего аскетическое траурное двуцветие (черный и белый), бежевый связан с теплом и жизнью.
Мать, ощущаемая дочерью с рождения как музыка (лирика), переходит в родную ей музыкальную стихию. Урок высокой музыкальной игры. В автобиографической прозе Цветаевой выделяются две ипостаси творческой жизни Марии Александровны - музыка и дети. Рассмотрим музыкальную игру как самостоятельное бытие матери, воплощение её лирической сущности и отношение к жизни. Мать живет в музыке и музыкой. Её игра была постоянным действием, «и покрывая и заливая всех нас - целый день и почти что целую ночь». Живет «мама на рояльном табурете», - писала Цветаева в «Чёрте» (5;36). Рояль для матери - «путь» (гора: «взойти на рояль»), престол (творчество), голгофа (смерть). Музыка матери соотносится у автора с образами воды - «море», «наводнение», «ручьи», тьмы, ночи, «крови», «горечи», «лиственного и водного шума», символизирующими бессознательное, стихию, душу, чувство, тоску, боль, безмерность, неисчерпаемость, глубину39. Мать ближе к дионисийской стихии творчества, т.е. «блаженству уничтожения», «растворения», «наития» (5;348,350). Бетховен и Шу 40 ман , как одни из самых «материнских» композиторов, также в представлении Цветаевой связаны с разрывающим, уничтожающим началом творчества. Слова Бетховена «через страдание к радости» она делает девизом своей и опосредованно в прозе «Мать и Музыка» - материнской жизни. Сама Музыка у Цветаевой в записях 1919 года отождествлена с Германией (4;546), которая является воплощением «schwarmen» (мечтать), свободы и долга: «Долг есть душа полёта», «летящая гибель» (4;551). В игре матери - сочетание божественного и демонического. Это «Чара», сон, наваждение, волшебство, ожог, рана, которая может стать смертоносной: образы львиного рва, горячей печи, кипящих звуков (5;30), горящей свечи (5;26), наводнения (5;20). Доктор Манжини матери: «И должен предупредить вас, что если вы будете так продолжать, вы не только сама сгорите, но весь ваш Pension Russe - сожжёте» (5;29-30). Наложив запрет на рояль, доктор не смог скрыть потрясения: «И, с неизъяснимой усладой, уже по-итальянски: Geni-ale... Geniale...»(5;30). Цветаева не характеризует материнскую музыку через жанры (дети играют гаммы, пьесы), через композиторов (Бетховен, Шуман упомянуты только на «немой» нотной этажерке). Мать в игре творит свой мир. Она у Цветаевой даже не музыкант, а демиург, поскольку её творение сродни Природе и Космосу. Мать в игре растворяется в стихии, но и покоряет её, властвуя над ней: образы лебедя (5; 19), пловца в бурной воде (5;27), восхождения на гору (5;29). Мать, сращённая с роялем, соотносится со Вселенной (см. в 3). В игре материнское женское начало обретает самодостаточность творца-андрогина. В книге "Су-вэнь" говорится: «Когда инь достигает максимума, он превращается в ян... Когда холод достигает своей вершины, он становится жаром...»41. В мифологии андрогинизм присущ стихии воды42. У Цветаевой мать - водная стихия, в игре переходящая в огненную: «сгорите», «сожжёте», «кипящие звуки», «горячая печь», «львиный ров» (лев -знак огня) (5;30). Приближение к андрогинности, цельности происходит в моменты преемственности, признания в сыне. Случай с мальчиком передан с психологической достоверностью и в символической образности. « ... Мальчик ... подъезжает к ней: к её рукам и кипящим из-под них звукам, пока, наконец, неловким движением, как совершенно сонный, не свалился ей под ноги ... (так же просто ... мог бы свалиться на горячую печь - или в львиный ров)» (5;30). Материнский жест рукой расшифровывается Цветаевой как знак преемственности: « ... Опустив ему мальчику на голову руку, тут же не отводя её, чуть погладила ему лоб, точно вчитываясь. (Сын Александр.)» (5;30). Зачарованное падение мальчика превращается в символ признания и награды. Во весь нечеловеческий рост в прокрустовом ложе земной жизни и во всю человеческую боль в борьбе с неумолимым роком трагедия матери - творческой личности раскрывается в смертной теме. Мать даёт детям урок творческой игры, урок смерти. В последнем диалоге с дочерью мать высказала своё понимание и отношение к жизни «как она есть» и к творчеству: «Мама ... , почему у тебя «Warum» «почему» - нем выходит совсем по-другому? - Warum - «Warum»? - пошутила с подушек мать. И, смывая с лица улыбку: - Вот когда вырастешь и оглянешься и спросишь себя, warum всё так вышло - как вышло, warum ничего не вышло, не только у тебя, но у всех, кого ты любила, кого ты играла, - ничего ни у кого - тогда и сумеешь играть «Warum». А пока - старайся» (5;30). Музыкальная игра для матери - настоящая жизнь и несостоявшаяся жизнь. Исток и сущность её музыки - пережитая и переживаемая боль: печальная тоска по прошлому и невозможному (образ горечи - 5;20 и настроение пьесы Р.Шуберта). В музыкальных звуках мать ю. избывает несбывшееся в других и собственной жизни, творит мир, после которого реальный - неузнаваемый, неродной, чужой, враждебный. Отношение к сложившемуся («ничего ни у кого не вышло») -ирония, горькая усмешка, безответный вопрос «почему?», томительная грусть и в то же время мужество приятия ударов судьбы, добрая (то есть осознанно и подчёркнуто самостоятельная) воля в «отказе», являющаяся ещё одним вариантом вызова. Сравним в «Поэме конца» Цветаевой: «Жизнь - это место, где жить нельзя» (3;49). Музыкальная игра - борьба с жизнью «как она есть»: болезнью, судьбой. Творчество - «единственный серьез», «не на жизнь, а на смерть», оплачиваемое кровью (образ крови в игре матери: «музыкой залила нас, как кровью» - 5;20). Контекст болезни - «разгар» туберкулёзного приступа, запрет доктора высвечивает материнскую игру и музыку как самосожжение: «..."Если вы будете так продолжать, вы ... сгорите ... ". Играть он ей, конечно, надолго запретил ... Уже на обратном пути в Россию - умирать ... она - всё то же, куда бы мы ни прибывали - .. . сразу пошла к роялю» (5;30).
Водоразделы в семье и препятствия материнскому «потопу»
Музыка и Музей, искусство и культура окружали детей с колыбели. «Воздух дома ... — рыцарский. Жизнь на высокий лад», — писала в анкете Цветаева о семейной атмосфере (4;622). В то же время в автобиографической прозе приоткрывается одиночество каждого из членов семьи, «схождение углами», «неслиянность» внутренних жизней в единый семейный круг. В прозе «Мать и Музыка» водоразделы в семье между призваниями, природами, браками даны по отношению к ведущему музыкальному материнскому пространству. Мать: музыкальный потоп; отец: филологический берег. Предопределённый матерью для Муси, Аси: рояль, «второ-женино, мейновское»; Валерия: пение (первый брак отца). Мать, дочери: «горделивый музыкальный корабль»; Андрюша: «междумузыкальное пространство». В «Чёрте» у каждого свое обжитое постоянное место в доме - «дом» его души: «Папа живет в кабинете, бабушка на портрете, мама на рояльном табурете, Валерия в Екатерининском институте» (5;36).
Преодолеть «водоразделы» в доме, возможно, могли бы материнская сердечность, ласка, простота, распахнутая доверчивость, взаимотерпение, которых однако не было в «горных высотах» духовности и спартанства. Сложность взаимоотношений Цветаева передаёт с помощью переосмысленных ею ведущих музыкальных образов «слуха» и «такта». «Слух» - не только способность правильно воспринимать и воспроизводить музыкальные звуки, но и сердце, инстинкт, чутье аргіогі, чуткость к другому призванию, сердцебиению другой души, умение её прослышать, предчувствие другой (чужой) судьбы. «Такт» - соотнесён с ratio, тактичностью ума, сознанием, разумом, мерой, правилами.
В письме к В.В.Розанову Цветаева писала: «Мама и папа были люди совершенно непохожие. У каждого своя рана в сердце. У мамы -музыка, стихи, тоска, у папы - наука ... но они очень любили друг друга» (6; 123). Двойное одиночество союза матери и отца Цветаева в прозе «Мать и Музыка» передаёт образом соединившихся кровей -музыкальной и филологической - «неслиянных»: по природе и «не-слившихся»: по сердечной тайной тоске (5;20). Характерно подчёркнутое Цветаевой совершенное отсутствие слуха у отца: «"У него на редкость никакого слуха", - говорила мать ... "Даже «Боже, царя храни» не умеешь спеть!" - мать ему, с шутливой укоризной. "Как не могу? Могу! (и, с полной готовностью) Бо-о-же!" Но до "царя" не доходило никогда, ибо мать, с вовсе уже не шутливо, - а с истинно-страдальчески-искажённым лицом тут же прижимала к ушам руки, и отец переставал» (5; 18-19).
Отец, при всем уважении, доброте, кроткой привязанности к жене, глух к её призванию, не слышит не только музыки, но и тоскующей в ней души. «Бедный папа! В том-то и дело, что не слышал, ни нас ... ни материнских ручьёв ... До того не слышал, что даже дверь из кабинета не закрывал!» (5;18). Иван Владимирович даёт возможность жене быть и жить в собственном мире, сам же был «безос-таточно поглощён другим: одним» («Дом у Старого Пимена» - 5;121). В прозе «Мать и Музыка» не упоминается о мечте отца создать музей, дело, в котором Мария Александровна была ему первым другом, помощником, вдохновительницей, со-родительницей («Музей Алексан дра III»). Постоянная занятость отца фиксируется его редким сюжетным появлением в прозе «Мать и Музыка» и в почти-отсутствии в раннем детстве живых примет отца. Он скрыт в непроницаемые для ребёнка, замкнутые «портфель», «кабинет», «латинские книги». Отношение матери к занятиям мужа передано коротким штрихом, когда она его газеты «с каким-то высокомерным упорством мученика, еже-утренне, ни слова не говоря отцу, неизменно и невинно туда их клавшему, с рояля снимала - сметала» (5;11). Взрывная и эмоциональная, мать, мучаясь «невинным» и неосознанным оскорблением святыни-рояля, тем не менее не отвлекает отца от его постоянной внутренней работы, понимает и уважает его одержимую сосредоточенную отрешённость.
Неутолённые тайные любовные раны родителей также скрываются в музыкальных образах. У матери - в избываемой «горечи несбывшейся жизни», у отца - в единственном, несмотря на отсутствие слуха, внушенном любовью мотиве, которому он хранит верность: «А знал он только всего один мотив - из "Аиды - наследие первой жены» (5; 18). Свою тоску отец зажимал в громадах музейной мечты.
В «Чёрте», «Моём Пушкине», «Доме у Старого Пимена» о любви матери и отца сказано более отчётливо: « ... приданое умершей Ан-дрюшиной матери, красавицы Варвары Димитриевны, первой любви, вечной любви, вечной тоски моего отца» (5; 105); «Вот В.Д., любимая жена нелюбимого, - другого любившая, выпевавшая свою беду под солнцем Неаполя ... » (5;112); «Кого держала мать в своём зеркале? Кого - Валерия? (Одно лето, моих четырёх лет, — одного: того, кому в четыре руки - играли и в четыре же руки - вышивали, кому и о ком в два голоса пели...)» (5;50); « ... Вышла замуж, любя и продолжая любить того ... Впервые и нечаянно встретившись с ним на лекции мужа, на вопрос о жизни, счастье и т.д., ответила: "Моей дочери год, она очень крупная и умная, я совершенно счастлива..." (Боже, как в эту минуту она должна была меня, умную и крупную, ненавидеть за то, что я - не его дочь!)» (5;72). В «повестях из детства» Цветаева подчёркивает нелюбовность семейных уз матери и отца как источник их творческих устремлений и как одно из слагаемых своего детского одиночества, дисгармонии.
Мать - хранительница очага, семьи, вся власть воспитания принадлежит ей. В музыкальном пространстве материнского дома суще ствуют «острова» отца (кабинет, книги), слышится его мягкий, примиряющий, но сильный голос, иногда «возникает» он сам: «торопливо проходящий», «внимательно-непонимающий». Отец, бесспорно, любит детей, и никого в своей любви не выделяет: «Папа, по доброте, "больше любил" - всех» («Хлыстовки» -5;96), но в нём нет активного вмешательства в детский мир, стремления передать свой опыт. Все его отцовство ушло на «музей». В воспитании детей он во всём доверился Марии Александровне и рад возможности оставаться в своём призвании. После смерти жены усилились «материнские» потуги отца, его чувство вины, жалость, сострадание к детям и - полная беспомощность. «Позже, после её смерти, он часто - Асе: Что ты, Асенька, как будто фальшивишь? - для очистки совести, - заменяя мать» (5; 19).
Первые ступени восхождения: от звука к смыслу
В формировании поэтического сознания от Музыки к Слову выделяются три этапа, составляющие лестницу восхождения в детском освоении рояля: первые ноты диатоники, которым обучала мать, складывавшиеся в слова и обнаруживавшие максимум души -«жар» и «жуть»; детское исследование клавиатуры рояля, горизонтальной лестницы, проявляющий гамму души - Хроматику, закреплённую в Слове; перестание Рояля в Стол, Хроматика, обернувшаяся «хребтом» собственного голосового инструмента. Первый этап (круг) — от рождения до столкновения с трудностями нотно-клавишного процесса. Возрастные периоды намечены самим автором: - рождение, догодовалое слово «гамма»; - вскоре «до - ре», «ре - ми», - «говорила мать поверх моей четырёхлетней головы»; - «пять лет, а уже почти берет октаву»; - но «с нотами, сначала, совсем не пошло» (5;10,11,13). Детское сознание устремляется от звука музыкального к звуку слова и смыслу. «Сигналы» музыкальности уходят в будущее поэтическое призвание. С момента рождения происходит скрытое от матери и неведомое ей пробуждение поэта. Первое слово Муси - гамма. В отличие от Асиного «ранга» (нога), «вполне осмысленного», имеющего непосредственную причину (запуталась ногой в сетке), слово Муси - «явно бессмысленное» и отчётливое, не обусловленное конкретной ситуацией, идущее из подсознания и, следовательно, наиболее близкое органике, природе. Въяве, оно подтвердило матери музыкальную жажду. Из глубины предначертанности слово обернулось «хроматической гаммой души поэта». Названия двух начальных нот сложились в слово «Доре», соотнесённое с родным: книгой. В первой встрече с ней - книгой, удар узнавания обнаруживает две ведущие тональности: « ... пока что только её "кинги", крышкой, но с такой силы и жути прорезающимся из этой лиловизны золотом, что у меня до сих пор в каком-то определённом уединённом ундинном месте сердца -жар и жуть, точно это мрачное золото, растопившись, осело на самое сердечное дно и оттуда, при малейшем прикосновении, встаёт и меня всю заливает по край глаз, выжигая - слёзы» (5; 10). Если материнский мир связан с водными образами, то стихии души поэта — прежде всего с огненными, обжигающими. Цвето-световой прорез лиловизны и золота, две крайности цветовой гаммы, отзываются двумя максимумами неизбывной лирической энергии «жар и жуть», едиными в болевой основе. Образ «мрачного золота» можно соотнести с: Нерастворённый перл В горечи певчих горл.(2; 141), где «золото» — характеристика тяжести дара обжигающей и преображающей силы, «мрачность» - творческое восприятие через боль. Сила болевого жара «выжигает слёзы», переплавляя их в «жемчужные струи» поэзии. И в цветаевской лирике: Есть счастливцы и счастливицы, Петь не могущие. Им -Слёзы лить! .. . Мне ж — призвание как плеть — ... Долг повелевает - петь. (2;323) В переходе от цвета книги к горению души - характеристика утысячерённой силы отзвука. В лирике: .. . Сталь и базальт -Гора, но лавиной в лазурь На твой серафический альт Вспоёт — полногласием бурь. (2; 161) Ощущение души у ребёнка доведено до физического присутствия и связано с определённым местом: «грудная ямка» («Мой Пушкин»), «сердечное дно» («Мать и Музыка»). В образе «уединённом ундинном» — появление неосознанной тайны от матери, пробуждение «самости» (см. 3 второй главы). Образ Ундины из одноимённой повести Ф. ла мот Фуке (перевод В.А.Жуковского) переводит выделяемую Цветаевой связь души с природой и вводит мотив до-воплощения во имя любви в человеческий «сердечный жар» через боль, кровь, высшее; отсюда «жуть» - страх стихии перед вочеловечиванием и болью. «Лиловизна» ассоциируется с водой, природой, «золото» метафора любящего сердца. С другой стороны, рождение поэта связано с духовным преображением и высвечивается через библейские образы о сотворении мира.
Первый стих Библии - «В начале сотворил Бог небо и землю» - созвучен первым строкам Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово ... и Слово было Бог ... Всё через него начало быть». В христианской традиции Божественное слово отождествлялось с Богом-сыном, со второй ипостасью Троицы; значит, весь мир сотворен «в Сыне», в «Слове» Бога. В еврейском тексте здесь стоит слово «бара», означающее действие, творчество, а не переделку чего-то уже существовавшего, - один из семи глаголов древнееврейского языка. Бог - поэт, который творит, сочиняет мироздание. В греческом тексте Символа веры слову «творец» как раз и соответствует слово «Поэтес». Мир раскрывается как поэма, как гимн, как книга. Мир и Бог не больше похожи друг на друга, чем страница, на которой написан текст, похожа на человека, этот текст написавшего. Мир появляется не в результате войны или мести, а как итог любви. Автор Книги Бытия пытается передать бесформенность первоматерии: земля «безвидна и пуста», «бездна», покрытая тьмою. У воды нет своей формы, она занимает любую предложенную. «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет!»1 «Лиловизна» — первоматерия ; «золото» - свет.
Ещё одно возможное прочтение цветовой символики: «лиловизна» - материнские воды, хаос, «золото» - твердь. Происходит как бы перерождение материнской водной стихии - в Слово (рождение Поэта; наследуется не-материнская, иная «пра-память»). Встреча с книгой преобразуется в метафору предначертанного пути. «Золото» - поэтическая мечта-поиск: золото Рейна. Мотив пути обнажает и аллюзия на Данте. Ассоциация с «Божественной комедией» (книга с иллюстрациями Доре, хранилась в доме Цветаевых) вводит тему человеческой греховности и соединения в поэте - «чистилища», «ада рода» и «неба духа» (5;362) . Таким образом, цветовая символика «лиловизна» и «мрачное золото» соединяет в себе природное, стихийное, жаро-болевое, страстное, тёмное, человеческое и разумное, духовно-божественное.