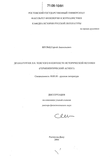Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Символистский театр-мистерия и метапоэтическая перспектива драматургии Блока 14
1. Идея жизнетворчества и ее художественное преломление в символистском театре 14
2. Катастрофичность символистской концепции художественного знака как слова-мифа и мистериального искусства 21
3. Художественная перспектива театра А. Блока 35
3-1. На подступах к символистской концепции театра 36
3-2. «Лирический стыд», театральное и театральность: крах лирического мира 39
3-3. Театр диалога против театра синтеза 43
3-4. Театр как «вечный смотр искусству и смотр жизни» 47
Глава II. Лирические драмы: поэтика и метапоэтика 54
1. Художественный смысл «лирических драм» 54
2. «Балаганчик» 59
3. «Король на площади» 69
4. «Незнакомка» 82
Глава III. «Песня Судьбы» как драма ретроспекции: противоречие слова и действия 97
Глава IV. «Роза и Крест» 125
1. Основная художественная коллизия драмы 125
2. Метапоэтические размышления и их художественное воплощение 128
Вместо заключения 181
Список литературы
- Катастрофичность символистской концепции художественного знака как слова-мифа и мистериального искусства
- На подступах к символистской концепции театра
- «Король на площади»
- Метапоэтические размышления и их художественное воплощение
Катастрофичность символистской концепции художественного знака как слова-мифа и мистериального искусства
В фокусе внимания данной работы находится идея «жизнетворчества» -основополагающая и завершающая эстетическую программу символистского искусства мировоззренческая парадигма, эпицентр символистского искусства, из которого проистекают все его теоретические и творческие опыты. В высшей степени примечательно высказывание по этому поводу В. Ходасевича: «Символизм не хотел быть только художественной школой, литературным течением. Все время он порывался стать жизненно-творческим методом, и в этом была его глубочайшая, быть может, невоплотимая правда, но в постоянном стремлении к этой правде протекла, в сущности, вея его история. Это был ряд попыток, порой истинно героических, - найти сплав жизни и творчества, своего рода философский камень искусства».29 Программа жизнетворчества определила стержневую проблему символистского искусства - вопрос соотношения искусства и жизни.
Вопрос соотношения жизни и искусства является самой изначальной и вечной художественной темой, которая вновь и вновь возникает во всех художественных произведениях. Искусство всех направлений, во все эпохи, в конечном счете, размышляет над этим вопросом, ибо искусство никогда не может существовать без вмешательства в жизнь. Однако именно символистское искусство, с точки зрения идеи жизнетворчества, наиболее активно связано с жизнью, поскольку для него художественное творчество - не что иное, как творчество самой жизни, самой действительности: «...будто сферой искусства является сама жизнь - а жизнь перерождается».30 Символизм в самой активной форме реагирует на трагическое осознание разрыва между идеальной картиной и реальной жизнью. Причем символизм не только создает некую идеальную концепцию мира, но и стремится претворить ее в действительность, переделать мир. В этом смысле проект символистского жизнетворчества представляет собой самый категоричный вариант разрешения этой первоначальной художественной проблемы соотношения искусства и жизни.
Необходимо напомнить также, что художественные темы дихотомии эстетического идеала и реальности и трагической тоски по неосуществимости этого идеала в жизни символизм унаследовал от романтизма. Символизм, в сущности, стоит на мировоззренческой основе романтического двоемирия. Как отмечалось в работах разных исследователей, прежде всего В. М. Жирмунского, в основе символизма лежит та же онтологическая ситуация разногласия и непримиримости между двумя мирами - миром идеала и реальности, о которой романтизм говорил как о противоречии феномена и ноумена, земного, чувственного и духовного, трансцендентного. Но если романтизм не выходит за пределы этой дихотомии и тематнзирует принципиальную недостижимость идеала и невозможность преодоления разрыва двух миров, то символизм идет дальше, намереваясь активно преодолеть эту ситуацию и разрешить ее.
По Вяч. Иванову, если романтизм - «тоска по несбыточному», то искусство новой органической эпохи — «тоска по несбывшемуся». Иванов упрекает романтизм в том, что он довольствуется недостижимостью «Там» и застывает в мире мечты. Противопоставляя символистское искусство романтизму, критик и теоретик символизма связывает его суть с «творчеством жизни» и определяет символистское искусство как «пророчество», «волевой акт мистического самоутверждения».31
Символизм, пытаясь разрешить антиномию искусства и жизни, которая осталась неразрешимой для его философского и мировоззренческого предшественника - романтизма, через идею жизнетворчества, находит свою эстетическую идентификацию, прежде всего, в созвучии между сном и явью, потусторонним и посюсторонним, в непосредственной связи искусства и жизни, слова и действия. Символизм провозглашает новое отношение к миру - самое активное, невозможное ни до, ни после него отношение к действительности. Через эту поистине революционную перспективу, в которой искусство должно не только познать действительность, но и преобразовать ее, искусство уходит за собственные пределы к жизни.
На фоне парадоксального, но естественного восприятия периода «рубежа веков» как «времени итогов и истоков» и осознания необходимости создания истории заново на передний план выступает панэстетизм - новое представление о жизни как эстетическом феномене, согласно учению Ф. Ницше. Так рождается мысль об онтологическом отождествлении жизни и искусства, стремление не к
Иванов В. Предчувствия и предвестия // Иванов В. Родное и Вселенское. М., 1994. С. 37-38. познанию мира, а к его преображению. В художественном творчестве предполагается найти новую модель жизни, «реальности приписываются свойства художественного текста». Символизм проецирует законы искусства на жизнь: «Текст жизни диктуется и со-творяется текстом искусства».34 В результате возникает концепция искусства как жизиестроения - теургия.
Важную роль в этом процессе играет символистское представление о второй действительности как метабытии. А. В. Вислова замечает, что среди множества идей культуры «серебряного века» особо выделяется идея «второй действительности», что означает подчинение действительности новой реальности, создаваемой на сцене. Модернистская эстетика, в отличие от концепции реалистического театра предшествующего столетня, определяет искусство не как иллюстрацию действительности, не как ее отражение, но именно как создание на сцене нового метабытия. По словам А. Белого, «сферой искусства является сама жизнь - а жизнь перерождается».
Целью творческой деятельности при таком подходе оказывается создание второй, высшей реальности, которая могла бы заместить низкую, несовершенную действительность этого мира. Взяв на вооружение панэстетизм философии Ницше, символисты методом художественного творчества ищут дорогу к воздействию на реальную жизнь. Конечная задача их искусства состоит в создании в жизни высшей, прекрасной, идеальной действительность. Таким образом, в символизме происходит смешение искусства и жизни и замещение жизни искусством.
Крайний утопизм символистского искусства состоит в том, что оно стремится стереть какую бы то ни было грань между эстетической действительностью и реальностью. Из этого следует онтологическая тождественность искусства и жизни. Жизнь есть искусство. Искусство есть жизнь.
В рамках программы жизнетворчества в качестве мировоззренческо-структурной парадигмы символистской модели мира выступают миф и художественный символ. Мифологическое мышление и художественный символ являются теми эстетическими категориями-стратегемами, при помощи которых казалось возможным преодолеть антиномию искусства и жизни и реализовать программу жизнетворчества.
На подступах к символистской концепции театра
Это происходит потому, что искусство рождается из дистанции между жизнью и искусством, в промежуточном пространстве между ними. Подмена жизни искусством приводит к катастрофе искусства. Искусство и жизнь - две взаимонезаменяемые онтологические категории. По словам Б. Гройса, «русский авангард начала века был одной из самых радикальных попыток изменить саму жизнь», и при реализации этого единого художественного проекта, «в котором реальность и искусство отождествляется», «искусство... гибнет - вместе с реальностью». По мнению Гройса, «творчество становится... невозможным, поскольку различие между искусством и неискусством исчезает...»86
На самом деле искусство на всем протяжении своего пути так или иначе соотносится с утопической концепцией мира. В каждую историческую эпоху оно, являясь оитолопіческнм протестом против окружающего мира, реализует собственный вариант идеи жизнетворчества. Каждое художественное произведение — уникальная модель мира, глубоко проникнутая утопической концепцией, так как утопизм изначально присущ искусству.
С другой стороны, здесь нельзя не заметить, что утопизм по сути своей парадоксален. Утопия, реализовавшись, оказывается собственной противоположностью. Когда искусство и жизнь совершенно сливаются друг с другом, возникает ничто, что не является ни искусством, ни жизнью. Парадоксальная антиутопичность эстетической утопии, созданной символизмом, состоит в том, что его искусство предполагает полную реализацию утопии.
Для символизма искусство - метабытие, нечто не менее реальное, чем сама жизнь. Искусство выходит за свои пределы н переходит в жизнь, или становится самой жизнью. Как раз подобную завершающую фазу жизнетворчества представляет собой театральная утопия символизма. По жизнь при этом останавливается, поскольку «различие искусства и неискусства» «совпадает с границей существования и несуществавания» и его снятие означает лишь преодоление смерти.
Слово «утопия» означает «несуществующее пространство». Поэтому частью идеи утопии является бесконечная отсрочка ее реализации. Разрыв между утопией и жизнью неизбежен и непреодолим, и именно дистанция между ними и промежуточное пространство их со-действия обеспечивают бытие искусства.
В этом мире симуляции, где искусство в целом вырождается в искусство подмены, узурпации жизни через идею жизнетворчества, все — лишь игра освобожденных от связи с предметами поверхностных знаков, вымысел. Но с расставанием со смыслом уничтожается и реальное бытие — мир и жизненная реальность.
Оторванность от жизненной реальности парадоксальным образом разрушает искусство - поле эстетического размышления, ибо всякое художественное творчество - не что иное, как создание некой картины мира, кодирование его смысла. Как справедливо замечает Б. Гройс, «разрыв между искусством и миром» рождает творчество. Искусство не может существовать без общения с жизнью.
Символистская идея слиянии жизни и искусства, несомненно, бывшая шагом вперед по сравнению с романтическим двоемирием, являлась попыткой реализации художественной мечты - максимумом того, что искусство может требовать от мира. Она - самый насущный и поэтому прекрасный художественный проект. Но в самый кульминационный момент утопия встречается со своей противоположностью. Мир действительности и мир мечты — два полярных онтологических антипода, подпирающих человеческое бытие. Упразднение одного из них приводит и к катастрофе другого.
Если понимать человеческое бытие как творческую сигнификацию, как семиозис в смысле Пирса или (как понимали его символисты) как пересоздание жизни, становится очевидным, что человеческое бытие существует в пространстве диалектического диалога между искусством и жизнью.
Мир искусства - это третий мир, возникший между действительностью и мечтой-утопией. В этих третьих мирах бесконечного redondance искусство вечно показывает лишь негативный образ жизни по отношению к утопии, которая не видна и которую увидеть невозможно.
Художественная перспектива театра А. Блока Под углом метапоэтики новизна блоковского театра и размышлений о театре состоит в том, что поэт, воспринимая эстетические предпосылки символизма как формулы своего искусства, при этом наполняет их новым содержанием. Блок, констатируя и переосмысляя их, разрабатывает собственную концепцию искусства.
Как уже было замечено выше, сквозная метапоэтическая тема театра Блока -проблема соотношения искусства и жизни, которая в символистском искусстве в целом сформулирована как жизнетворчество. Театральные искания Блока подвергают сомнению жизнеспособность производных от этой темы полемических вопросов символистского театра.
Безусловно, театр Блока тесно связан с символистским театром, несмотря на все существеннейшие мировоззренческие различия между обеими театральными концепциями. Занимая свое особое место в эстетике нового театра, Блок полемизировал с символистскими теориями и эстетическими предпосылками. На сцепе театра Блока становятся объектом рефлексии такие положения театральной концепции символизма, как слияние искусства и жизни, преодоление замкнутого субъективного декадентского искусства, конкретное воплощение художественных идей - соединение феномена и ноумена, возможность постижения мировой сущности и т. д. При этом в размышлениях Блока о театре сходятся его собственные попытки следовать метапоэтическим (и метатеатральным) идеям своего времени и полемика с этими идеями. В этом самокритическом движении сказывается уникальная метафизика драматургического «Я» Блока.
Ю. К. Герасимов высказал мнение о том, что в период написания первой «театральной» статьи - «Драматический театр В.Ф. Коммиссаржевской», еще не носящей характера полемики с символистским театром, т. е. в 1906 году, собственная театральная концепция у Блока еще не сложилась.90 В то же время историк символистского театра замечает, что фактически именно из этой статьи возникает театр Блока, поскольку уже здесь начинается внутренняя полемика с современными театральными идеями и их переосмысление. При этом возникает вопрос: каково отношение Блока к мистериалыюму театру, выраженное в этой статье? Как считает Ю.К. Герасимов, здесь Блок, в принципе, разделяет мнение символистского круга, что подтверждается его комментарием 1902 года: «Да неужели же и я подхожу к отрицанию чистоты искусства, к неуловимому его переходу в религию
«Король на площади»
Финал «Короля на площади» свидетельствует о переходе мира к новой жизни, жизни стихии. Мир Зодчего сменяется миром стихии, миром жизненной реальности: «Он медленно спускается с обломка дворца и пропадает во мраке. За картиной разрушения нет больше ни одного огня. Над мысом господствует бледный мрак. Ропот толпы усиливается и сливается с ропотом моря» (IV, 60). Этот словно бы апокалипсический финал «Короля на площади» имеет иной смысл, нежели современные Блоку «апокалипсисы». Здесь хаотичная, разрушительная стихия соединяется с ропотом народа. Таким образом, еще раз подтверждается указание на то, что стихия и народ, оба они, в сущности, - одно и то же жизненное начало. Именно в народе скрывается мировая субстанция.
Если на сцене «Балаганчика» после разрушения иллюзорной сцепы ничего не остается, кроме разбитых театральных суррогатов, в драме «Король на площади» в пространство разрушенной сцены вторгаются начала жизненной реальности.
В драме «Незнакомка» философский тезис о связи высокой мечты и реальной действительности является опорной схемой сюжета. Если в предшествующих драмах художественная ретроспекция сосредоточивалась на разоблачении иллюзорности, обреченности высокой мечты, то в «Незнакомке» размышление ведет к столкновению двух реальностей.
Проблематика соотношения высшей действительности и низкой реальности, унаследованная от предшествующих драм, приводит здесь к самому трагическому разрешению. В «Незнакомке» две действительности ие примиряются и ие соединяются. Репрезентируя попытку этого соединения не в «действии», а в «видении», драма тем самым показывает, что попытка эта остается нереализованным сном, поэтической мечтой.
П. П. Громов в этой связи замечает, что за фантастичностью и мечтательностью драмы, которую «парадоксально подчеркнул» автор, называя «видением» каждое ее действие, развертывающееся в фантастическом ничем ие кончающемся сюжете, скрывается глубочайшая эстетическая идея. По мысли Громова, если учесть идею аристотелевской классической поэтики драмы о том, что самыми сильными драматическими перипетиями являются те, в которых решающий поворот действия сочетается с узнаванием, очевидно, что
«Незнакомка» «построена на парадоксе, на том, что главное действующее лицо в решающий момент как раз не узнает правды о себе». 166 Но основная метагюэтическая идея «Незнакомки» содержится и реализуется именно в этом парадоксе.
В пьесе «Незнакомка» сценическими средствами ставится вопрос о связи realiora и realia и возможности их соединения. Идейное ядро этой проблематики вводят эпиграфы к драме. Тема «узнавания», отсылающая к роману Достоевского, соединяясь с собственно блоковскпми поэтическими темами, реализует метапоэтическую функцию саморефлексии искусства в излюбленных мотивах и образах лирики Блока. Затем драма «Незнакомка» ставит под вопрос опорный тезис о связи ноумена и феномена, небесного realiora и земного realia. Тема «узнавания» прообраза в художественном изображении, заданная эпиграфами, приводит к эстетическому вопросу о неизбежной связи художественного семиотического знака и сущности, к которой отсылает знак, и тем самым связывает эту пьесу с эстетической проблематикой «Балаганчика». Метапоэтической темой ретроспекции искусства, таким образом, проникнута вся драма «Незнакомка».
Итак, два эпиграфа из романа «Идиот» касаются одной из базовых предпосылок символистского искусства — проблемы связи небесной сущности и земных явлений, ноумена и феномена. Небесное - «необыкновенная красота» — обнаруживается в лице земной женщины: «На портрете была изображена необыкновенной красоты женщина» (IV, 72). Герой Достоевского сознает, что образ земного явления отсылает к некой сущности, которая не разрешает непосредственного, чувственного достижения ее в этой действительности: «Я ваши глаза точно где-то видел... да этого быть не может! Это я так... Я здесь никогда и не был. Может быть, во сне...».
Эпиграфы из Достоевского вводят в драму проблематику способности априорного восприятия сущности через земные явления человеком, имеющим волю к эстетическому преображению мира. Проблематика эта, касаясь, прежде всего, бытия самого художника, является краеугольным камнем символистского искусства, и в том числе искусства самого Блока.
Но драма «Незнакомка» по сути аннулирует эту основную предпосылку символистского искусства. Небесная красота, представленная обыкновенной земной женщиной, остается неузнанной. Тем самым сомнению подвергается исходная точка символистского искусства — представление о том, что художественный знак неизбежно отсылает к своей «онтологической супруге», сущности мира. Соединение феномена и ноумена оказывается невозможным.
Во всех сюжетах каждого видения драмы лежит та же метапоэтическая тема, которая повторяется и варьируется в каждом видении. Все персонажи драмы говорят о небесной Мироправнтелышце, но когда Она появляется в земной плоти, никто не узнает ее. Так аннулируется базовый тезис символистского искусства -«a realibus ad realiora».
К тому же, вопрос связи сущности и явления, вводимый эпиграфами, в этой драме рассматривается под углом главной проблемы блоковских драм — саморефлексии художника. От чего зависит осуществление соединения сущности и явления — «узнавания»? Оно на самом глубинном уровне соотнесено со способностью к «узнаванию» самих воспринимающих, и именно из-за их неспособности не реализуется соединение небесной сущности и земных явлений. В этом смысле «Незнакомка» в еще более полной мере выдвигает на первый план сюжета драмы внутреннюю саморефлексию художника. Саморефлексивное размышление развертывается в этой драме на разных уровнях.
Почти все персонажи участвуют в ситуации «неузнавания». В первом видении это персонажи, собравшиеся в кабачке, каждый из которых отсылает к некоторому типу художника или, шире, интеллигента. Подтверждают эту аллюзию их имена - «Гауптман», «Верлэи». Диалог их строится вокруг образа женщины, ее сущности, и перекликается с темой «Вечной Женственности», что отмечает Т. М. Родина. По выражению исследовательницы, это видение - «искусно построенный контрапункт, раскрывающий человеческую пошлость, тупость, жестокость, свинство, и - страшная тоска по иному, по жизни красивой и духовно содержательной».1
Мечта превращается в ее опошленный вариант. В пьяном угаре высокая тема о небесной женщине сводится к конкретному, бытовому - бессмысленному разговору о сыре, низводится до пошловатого, низкого спора о танцовщице из кабачка. Причина этого извращения сути состоит в неспособности героев к познанию истины. Они неспособны узнать «единственный прекрасный лик», к которому отсылают лица многих земных женщин. Они не в состоянии узнать Ту, которая должна вочеловечиться в земных, низких образах женщин.
Метапоэтические размышления и их художественное воплощение
Таким образом, вопрос о сущностном сообщении искусства с жизненной реальностью остается для Блока неизменной эстетической проблемой. В своих метапоэтических размышлениях, представленных в драматической форме, он непрестанно обращается к поиску художественного пространства для жизненной реальности. Несомненно, это был шаг вперед внутри собственной поэтики, который в то же время был тесно сопряжен с полемикой в рамках общей символистской поэтики. Как было замечено выше, утверждение Блока о реальности прямо касается преодоления кризиса символизма,
В марте 1912 года, когда Блок усиленно занимается драмой, он подтверждает свой отказ от мистики и движение к реальности: «...ужас призраков... самый светлый человек может пасть мертвым пред неуязвимым призраком, но он вынесет чудовищность и ужас реальности. Реальности надо нам, страшнее мистики пет ничего на свете. ... Сам Бог поможет потом увидать ясное холодное и хрустальное небо и его зарю. Из черной копоти и красного огня - этого неба и этой зари не увидать» (VII, 134).
Во время создания драмы «Роза и Крест» у Блока усиливаются настроения «анти-Вяч. Ивановства» (VIII, 388), назревавшие уже давно. Он решительно не принимает статью Иванова «Мысли о символизме»: «...когда он (Вяч. Иванов. — Ч. В.) восклицает о кабароі е тем же тоном в 1912 году, как в 1905 году... Впечатление от статьи В. Иванова, несмотря на все ее глубины, - душное и тяжелое. ... когда прошли все эти годы "снежных масок", я опять [стал] дичиться Вячеслава; ведь в лучшем и заветном моем я никогда не был близок ему...» (VIII, 386-388).
При этом в основе расхождения позиций Блока и Иванова и существующей «символистской школой» оказывается вопрос жизненной реальности. Блок осознал, что искусство, которое провозглашает мистериальиый театр, есть подмена жизни эстетической второй действительностью, оно только обостряет катастрофическое состояние современного искусства: «В. Иванову свойственно миражами сверхискусства мешать искусству. "Символическая школа" - мутная вода. Связи quasi-реальные ведут к еще большему распылению. Когда мы ("Новый путь", "Весы") боролись с умирающим, плоско-либеральным псевдореализмом, это было реальным, мы были под знаком Возрождения. Если мы станем бороться с неопределившимся и, может быть, своим (!) Гумилевым, мы попадем под знак вырождения. ... Для того, чтобы принимать участи в жизнетворчестве... надо воплотиться, показать свое печальное человеческое лицо, а не псевдо-лицо несуществующей школы» (VII, 140).
Неизбежное столкновение поэта с жизненной реальностью обнаруживается и в его стихотворении 1910 года: «Как тяжело ходить среди людей / И притворяться непогибшим, / И об игре трагической страстей / Повествовать еще не жившим. / И, вглядываясь в свой ночной кошмар, / Строй находить в нестройном вихре чувства, / Чтобы по бледным заревам искусства / Узнали жизни гибельной пожар!» (III, 27).
С вопросом образа «простого человека» ситуация такая же, как и с концепцией «реальности». Разработка этой темы сопровождается усилением критической реакции Блока на обращение символистов к античной трагедии в целях выхода за пределы символистской драматургии (В. Брюсов, Вяч. Иванов, Г. Чулков). Обращение к «лицу человека», к образу земного, простого человека является для Блока эстетической альтернативой «античной» программе символизма. Эта мысль содержится в блоковских записях, относящихся к периоду завершения работы над второй редакцией драмы: «Стержень, к которому прикрепляется все многообразие дел, образов, мыслей, завитушек, - должен быть; и должен он быть - вечным, неизменяемым при всех обстоятельствах. Я, например, располагаю в опере все, на что я способен, вокруг одного: судьбы неудачника... ... Если же я (или кто другой) буду располагать все многообразие своих образов вокруг Рока и Бога греческой трагедии, то я буду занят чем-то нереальным, если захочу это показать другим. Сам я, может быть (мало вероятно), могу проникнуть в Аиаихп. Моїра, Олимп, но я и останусь один, а вокруг меня будет по-прежнему бушевать равнодушная к богу эпоха» (VII, 164).
В это время Блок, считая трагедию рока символизма «пустой бутафорией» (IV, 296), для ее преодоления обращается к трагедии судьбы конкретного отдельного человека. Размышляя об образе человека, автор отказывается от «quasi-реальных», условных масок-кукол и ищет «человеческих лиц» - лиц всех Альдонс. Таким образом, обращение к конкретным образам земного, исторического человека с душой и телом, наряду с достижением действительности как таковой, разрешает известную дилемму символистской эстетики и практики о «трагедии противоречия между ликом Альдонсы и ликом Дульсииеи».
Мысль о сопряжении вопроса воплощения, жизнетворчества с темой простого человека обнаруживается уже в записи Блока по поводу доклада Вяч. Иванова «Заветы символизма»: «Нам не совладать с этим желанным (не свершить подвига), а с ним совладает НАРОД»; «То есть - только художник может ли совладать с подвигом» (ЗК, 170). Итак, по вопросу возможности воплощения поэтических слов и, шире, жизнетворчества, являющемуся общей эстетической проблемой символизма, Блок решительно расходится с Вяч. Ивановым. Выражая сомнение в утверждении Иванова о жизнетворчестве как подмене жизни искусством, осуществление которого возлагается на ницшеанского сверхчеловека, высокого художника, теурга, Блок приписывает возможность воплощения не избранному, художнику, а простому человеку - представителю народа.
Более того, движение к жизни, жизненной реальности и полемика Блока по этому поводу еопряжены с одной из главных фаз в самокритике символистской эстетики - требованием «исхода "вовне", что объективно должно было привести к реконструкции самой системы эстетических воззрений». М. Борисова рассматривает эволюцию Блока-драматурга247 в соотношении с общей эволюцией символистской эстетики, связывая блоковское понимание кризиса символизма с попытками его преодоления в поздней символистской эстетике.
В процессе самокритики символистское искусство корректирует свои эстетические теории. Окончательная цель символистского искусства формулируется как достижение Абсолюта, мировой сущности, но оно неизбежно сталкивается с дилеммой художественной конкретизации - вопросом «воплощения» эстетической идеи: «...нам важно прежде всего, чтобы символизм был в полной мере искусством».249 «Символический реализм», предложенный Ивановым для преодоления опасности отвлеченности, возникшей вследствие оторванности «аллегоризма, убивающего искусство», от реальности, утверждает, что художник должен ступить на путь нисхождения и стремиться изображать не небо, а землю, действительность, этот мир, он провозглашает соответствие феномена и ноумена, непреложную их связь.