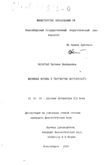Содержание к диссертации
Введение
Свободная воля и обожение: романтическая модель у Достоевского 22
1. Философия свободы шеллинга: краеугольный камень романтизма 22
2. Достоевский и трагическая свобода иова 73
Удача, судьба, фатум и рок в русском народном миросозерцании 96
1. Верования в судьбу: методология и овщий обзор 96
2. "Коллективизм" и "персонализм" в русском народном миросозерцании ..103
3. "Удача": первичная форма веры в судьбу 110
4. "Судьба": смерть и обожение 122
5. "Фатум": гибель богов 138
6. "Рок": продолжительность жизни вселенной 140
« Записки из мертвого дома* - этюд о судьбе и свободе ... 149
1. Дворяне и народ: неожиданное сходство 149
2. "Акулькин муж": любовь и деньги или любовь к деньгам?
3. Дворяне и народ в поисках истинной общности 180
Между удачей, судьбой и случаем , 205
1. Судьба и случай: разрушение героического фатализма в "игроке" 205
2. "Братья карамазовы" и "герой нашего времени" выбор и неопределенность 219
3. "Братья карамазовы": движение от простонародного к героическому 236
«Братья карамазовы": завершающий синтез 250
Заключение 295
Примечания 303
Библиография 383
- Философия свободы шеллинга: краеугольный камень романтизма
- Верования в судьбу: методология и овщий обзор
- Дворяне и народ: неожиданное сходство
- Судьба и случай: разрушение героического фатализма в "игроке"
Введение к работе
В своем знаменитом эссе "Два понятия свободы" Исайя Берлин писал, что "понятие свободы непосредственно проистекает из того, как понимаются самость, личность, человек". Как нам представляется, представления как о свободе, так и о судьбе являются в равной степени основополагающими для определения места человека в мире, его отношений с другими людьми, с миром и с Абсолютом. Понять, каков взгляд человека на судьбу и свободу, также значит понять, каковы его личность, его идентитат2 и его место в мире. Исследование понятий судьбы и свободы имеет первостепенное значение не только для литературоведения, но и для антропологии, психологии, социологии и любой другой отрасли знания, с помощью которой человек пытается расшифровать поведение себе подобных.
Значимость проблемы судьбы и свободы для Достоевского трудно переоценить. Его напряженный интерес к преступлению - это проявление жгучего желания понять, что движет людьми, которые могут поджечь родное село или взойти на на костер за свои убеждения. Попытка раскрыть тайну человеческой души, выраженной в действии, логическим образом
сосредотачивается на вопросе о свободе и ее противоположности, судьбе или детерминизме. Свободны ли люди в своем выборе или же ими движет некая неодолимая внешняя сила? Свидригайлов ставит перед Рйскольниковым и перед читателем именно эту дилемму, задаваясь своим знаменитым вопросом: "Да ведь предположите только, что н я человек есмь, et nihil humanum... одним словом, что и я способен прельститься и полюбить {что уж, конечно, не по нашему велению творится)> тогда всё самым естественным образом объясняется. Тут ведь весь вопрос: изверг ли я или жертва? Ну а как жертва?' {VI; 215)?
Таков самый мучительный вопрос, которым задается Достоевский: кто есть человек? По своей ли воле он предается насилию и мучает других, или же он сам - жертва неких сил, которые могущественнее его самого? Достоевский утверждает ответственность человека за свои действия; но признать ответственность нелегко, и самый надежный способ избежать ответа за собственное падение и за несчастья, причиненные другим, - это переложить вину на судьбу и представить самого себя добычей неумолимых сил, управлять которыми - не в человеческой власти. Тем не менее, Достоевский твердо настаивает на том, что падение человека - не вина некоей безликой судьбы, но результат действия его свободной воли. Ложное понимание свободной воли, злоупотребление ею обрекают человека на гибель.
Для Достоевского на протяжении всего его творчества проблема человеческой свободы прежде всего ставится в религиозном контексте,
начиная с "Записок из подполья", центральная идея которых - "потребность в вере и Христе", и вплоть до "Братьев Карамазовых", где великий инквизитор приравнивает отрицание свободы к поклонению дьяволу. Поэтому невозможно говорить о человеческой свободе, не уделяя внимания ключевой полемике о природе человеческой свободы в христианском контексте - полемике между бл. Августином и Пелагием. Хотя бл. Августин и Пелагий вели дебаты в 5 в. от Р.Х., их спор до сих пор актуален -настолько актуален, что в 1948 г. в кратком предисловии к трактату бл. Августина "О предопределении святых" мы читаем: "Написанный для обуздания внезапно поднявшего голову полу-пелагианства, <., ,> этот текст раскрывает спокойную и зрелую мудрость бл, Августина, противостоящего этой скрытой разновидности пелагианства, <.. > которая составляет одну из основных и постоянных проблем Церкви и на которую постоянно надо проливать новый свет".
Спор между Пелагием и Августином возник по вопросу о природе человека и о необходимости человека стремиться к спасению, чтобы быть спасенным. Пелагий доходил даже до того, что утверждал, что человек мог бы вести праведную жизнь только силой своей свободной воли, хотя не было еще человека, которому бы это удалось.5 До нас дошло очень мало работ, написанных с пелагианских позиций, и еще меньше работ могут быть несомненно атрибутированы Пелагию. Среди них можно назвать "Письмо Деметрии'*, в котором читаем следующий красноречивый отрывок:
Именно потому, что Бог желает дать разумной твари дар творить добро по собственной свободной воле и способность свободно выбирать, вложив в человека возможность выбора добра или зла, Он дал ему особое право быть тем, чем он хочет быть, чтобы с этой способностью к добру и злу он мог творить и то и другое вполне естественно и затем направлять свою волю также и в другом направлении. <...> Наш превосходнейший Создатель пожелал, чтобы мы могли творить и добро и зло, но на самом деле творили бы только одно, т.е. добро, что Он также повелел, дав нам способность творить зло только затем, чтобы мы могли творить его волю, действуя по воле нашей. В таком случае, эта самая способность творить зло есть также добро - добро, говорю я, потому что она делает добро лучше, делая его добровольным и независимым, не связанным необходимостью, но наделенной свободной волей решать самому. (Ш; 2).6
Хотя Пелагий был далек от того, чтобы отрицать необходимость и
важность Божьей благодати, именно подчеркивание естественной святости
и слова "вполне естественно" привели Августина в ярость, и он в ответ
пылко настаивал на том, что благодать Божья есть единственное средство
спасения и отрицал любую необходимость обращения свободной воли
человека к Богу в поисках благодати. Любимый пример бл. Августина -
обращение Савла, ярого преследователя христиан, ставшего апостолом
Павлом, когда он совершенно не желал обращаться и когда "у апостола
Павла не было другой заслуги, кроме заслуги зла" (V; 12).7 В трактате "О
граде Божьем" бл. Августин трактует проблему свободы воли следующим
образом:
...All our assertions ... must take into account God's foreknowledge and his providential design. ... As the Bible says, "God made man upright", [Eccles. 7, 29] and therefore possessed of a good will - for he would not have been upright, had he not possessed a good will. Good will then is the work of God, since man was created with it by God.
But the first evil act of will, since it preceded all evil deeds in man, was rather a falling away from the work of God to its own works, rather than any substantive act. And the consequent deeds were evil because they followed the will's own line, and not God's, And so the will itself was, as it were, the evil tree which bore evil fruit, in the shape of those evil deeds; or rather it was the man himself who was that tree, in so far as his will was evil (XIV; II).8
Это высказывание бл. Августина есть трагическая антиномия: воля как творение Божье есть благо, но в неизбежном отклонении от Божьего плана она есть зло. Однако со временем бл. Августин по сути отказывается от тонкостей своей антиномии и начинает считать волю человека злой по сути своей. И с точки зрения бл. Августина только благодать Божья может спасти человека: "The choice of the will... is genuinely free only when it is not subservient to faults and sins. God gave it that true freedom, and now that it has been lost, through its own fault, it can be restored only by him who had the power to give it at the begmning" (XIV; II).9 Бл. Августин настолько не доверял возможностям свободной воли человека, что к концу жизни пришел к учению о предназначении душ к спасению.
Однако, хотя официально победа в споре осталась за Августином (в 416 г. два африканских Собора объявили Пелагия еретиком, в 417 г. папа Иннокентий I отлучил его от церкви, а на ІСарфагенском соборе в 418 г. папа Зосима подтвердил осуждения Пелагия), учение Пелагия о свободной воле и ее возможностях продолжало процветать и стало практически господствующим.10 "Сколько членов обычной конгрегации сегодня понимают, что многие элементы служб, которые они посещают,
критикуются за пелагианство? <,..> «Гимны подразумевают предопределение, но проповеди по сути своей пелагианские»".11
Хотя номинально Восточная Церковь согласилась с осуждением и отлучением Пелагия, она более благосклонно относилась к вере Пелагия в мощь человеческой воли. Иоанн Лествичник, чья "Лествица..." была весьма популярна на Руси, - вот один из ярких примеров "постоянной проблемы" пелагианства: "Всякому духовному деланию, видимому или умственному, предшествует собственное намерение и усерднейшее желание, при Божием в оных содействии; ибо если не будет первых, то и второе не последует".12
Именно пелагианская идея о необходимости свободного выбора добра господствует в размышлениях Достоевского о религиозном пути человека. Но есть у него и налет августинианской опаски в отношении свободной воли и ее разрушительного потенциала. Сравнение творчества Достоевского и трактата Фридриха Шеллинга "Философское исследование о сущности человеческой свободы" выводит на передний план сложную природу свободной воли человека в представлении двух мыслителей, прекрасно сознающих ее спасительные и губительные стороны, и подчеркивает тесные связи, существовавшие между Достоевским и романтизмом как философским течением.
Однако важно помнить, что, утверждая ответственность человека за свои действия и в конечном итоге за свою судьбу, Достоевский постоянно спорит со своими персонажами, которые придерживаются других, иногда гораздо более детерминистских взглядов на судьбу. В этой книге мы
попытаемся описать весь спектр понятий судьбы, присутствующих в художественном мире Достоевского, чтобы показать их взаимосвязь, проследить эволюцию этих идей и метания персонажей между различными пониманиями судьбы.
Исследуя понятия судьбы в творчестве Достоевского, я не руководствуюсь какой-то одной теорией, ограничивающей мою работу одной точкой зрения на работы писателя.13 Я пользуюсь как сугубо текстуальным сравнительным анализом в тех случаях, когда взаимовлияние несомненно и легко доказуемо, как в случае с Лермонтовым, так и типологическими сравнениями, как в случае с Шеллингом, когда нет прямых свидетельств того, что Достоевский был знаком с работами философа, но тем не менее труды Шеллинга проливают особенно яркий свет на исследуемые понятия. Проводя такие сравнения» я ставлю своей целью показать, что взгляды Достоевского на судьбу и свободу были не просто его собственной уникальной точкой зрения, но являлись неотъемлемой частью большей внелитературной картины; моя цель - поместить Достоевского в широкий антропологический и философский контекст.
Сравнительный анализ текстов можно проводить на трех уровнях. Первый и самый очевидный - это уровень прямого, задокументированного влияния одного текста на другой. Книга Иова, поэзия Лермонтова и "Герой нашего времени", стихотворения Пушкина и Тютчева, анализируемые в данной книге, несомненно повлияли на мысль и творчество Достоевского.
Второй уровень - это уровень типологических сравнений, например, исследование сходства идей Достоевского и Шеллинга. Нельзя утверждать с абсолютной уверенностью, что Достоевский читал Шеллинга, но оба мыслителя выразили один и тот же Zeitgeist, который также вдохновил многих славянофилов, духовное родство с которыми ощущал Достоевский, и пронизывал произведения таких поэтов, как Тютчев и Баратынский. Самого Достоевского крайне интересовали такие Wahlverwandschafi, который он называл идеями, носящимися в воздухе. Достоевский был особенно заинтересован в том, чтобы облечь их в художественную плоть, придать им форму, довести их до их логической крайней точка. Среди таких идей можно назвать утилитарное убийство, которое совершил Раскольников, столкнувшись затем с метафизическим воздаянием, которое следует из отрицания метафизики ради прагматизма. Идея обожения путем заявления своеволия - еще одна идея, витающая в воздухе, которую развивают как Шеллинг, так и Достоевский, и обнаружение этой параллели четко выявляет дух времени, мысли и литературы, который Достоевский стремился воплотить в своем творчестве.
Наконец, третий уровень истолкования - это исследование моделей, лежащих в основании Wahlverwandschafi, анализ того, что Юнг назвал коллективным бессознательным, исследование коллективного менталитета, который порождает Wahlverwandschafi. Исследование индоевропейских понятий судьбы дает необходимые основы для рассмотрения понятий судьбы и свободы в европейской культуре XIX века, представленной в том
числе творчеством Достоевского и Шеллинга. Необходимо помнить, что анализ индоевропейских понятий судьбы потребует длинных экскурсов в сферы, напрямую не связанные с творчеством Достоевского, но крайне важные для понимания его произведений.
Пытаясь сопрячь различные понимания судьбы, обозначаемые такими терминами, как удача, судьба, фатум н рок, я опираюсь на труды многих ученых14, предложивших тонкий и глубокий анализ различных аспектов этих понятий. Однако я пытаюсь пойти несколько дальше и объединить отдельные концепции в единую систему понятий судьбы, понимаемой как динамичное и эволюционирующее понятие. Таким образом, удача, судьба, фатум и рок становятся частями сложной и изменяющейся структуры представлений о судьбе. В этом контексте понимание судьбы Достоевским оказывается только одним из аспектов сложного и многогранного понятия, всю сложность которого Достоеский прекрасно сознавал.
Однако любое исследование понятий судьбы и свободы рискует пойти на поводу доминантной идеи судьбы, заимствованной современным культурным европейским сознанием у древних греков: судьба воспринимается как вездесущая и всемогущая сила вне человеческого понимания и контроля. И хотя в греческой традиции есть и другие понимания судьбы,15 именно это понятие глубоко укоренилось в современной истории и антропологии, и исследования других толкований судьбы часто подгоняются под греческое понимание.16 Труды
литературоведов, с другой стороны, описывая представления о судьбе в литературных текстах, часто описывают альтернативы греческой модели, но так как эти описания делаются в рамках литературоведения, их находки редко находят приложение в сферах антропологии или истории идей.
Чтобы избежать такой опасности, я попытаюсь соединить литературоведческий и антропологический подходы к изучению идеи судьбы. Я проанализирую взгляды самого Достоевского на судьбу и свободу в сравнении с философией Шеллинга и затем помещу их в контекст сложного и многогранного понятия судьбы, в которое в качестве двух из многих взаимодействующих между собой составных частей входят как греческая фаталистическая модель судьбы, так и "само-детерминизм" Достоевского. Мне хотелось бы с самого начал выдвинуть предположение, что Достоевский прекрасно сознавал существование в сознании людей разных, часто противоречащих друг другу понятий судьбы, и пытался в своем творчестве показать эти различные понятия во всей их сложности.
В главе 1 "Обожение и свободная воля: романтическая модель у Достоевского" будут проанализированы романтические представления о судьбе у самого Достоевского. Отталкиваясь от "Философского исследования о сущности человеческой свободы" и Книги Иова, я утверждаю модель стремления к обожению как основной мотив человеческих действий, где проявление свободы воли - главное средство достичь желаемой цели стать божеством. Несмотря на то, что текст Шеллинга нелегок для понимания,17 вряд ли могут быть какие бы то ни
было сомнения по поводу его ачглядов на человеческую судьбу и свободу; для Шеллинга человек само-детерминирован, и это значит, что он подвластен судьбе ("-детерминирован"), но эта судьба создается им самим ("само-"). Таким образом, Шеллинг наиболее четко формулирует то понимание, которое сформировало романтический Weltanschauung. Согласно Шеллингу, человеческая судьба определяется единым вневременным деянием выбора. Другим важным элементом философии Шеллинга является то, что людьми в их само-детерминации руководит желание обожения, которого можно достичь двумя путями: либо очистившись и слившись с Богом, либо став равным Богу вне Бога.
Особая важность "Философского исследования...*' Шеллинга для моей работы состоит в том, что Шеллинг четко формулирует и выявляет некий каркас романтического фатализма, который иногда довольно трудно увидеть в чисто литературных текстах. Поэтому трактат Шеллинга особенно полезен при анализе творчества Достоевского. Собственные взгляды Достоевского на проблему человеческой воли поразительно близки взглядам Шеллинга: у Достоевского человеческая воля также определяет судьбу человека путем свободного выбора, который делают люди, И хотя Достоевский, в отличие от Шеллинга, может дать своим персонажам несколько моментов выбора, все равно наступает момент, после которого никакой выбор не возможен, судьба человека определена, и больше он над ней не властен. Более того, корень зла в художественной вселенной Достоевского, как и в философии Шеллинга - это стремление к обожению
не через религиозную жизнь (как, например, твозис исихастов), но через проявление необузданного своеволия. Наиболее яркий случай стремления к обожению - это Кириллов в "Бесах" с его проповедью человекобога. Однако при разборе других романов Достоевского, таких как "Преступление и наказание", "Братья Карамазовы", "Записки из подполья" и т.д. становится ясно, что именно стремление к обоженшо составляет центральную проблему этих романов.
Если стремление к обожению вне Бога есть основная цель человеческого стремления, то восстание против Бога естественно превращается в центральный момент пути человека. Поиск ложного обоження принимает разные формы, иногда оказываясь предательски близким истине. В данной книге будут проанализированы разные формы бунта в творчестве Достоевского и его тесные связи с представлениями писателя о судьбе и свободе.
Рассмотрев позицию самого Достоевского по вопросу судьбы и свободы, мне хотелось бы очертить общую картину русских фаталистических представлений как систему и таким образом поместить Достоевского в широкий историко-антропологический контекст и объяснить происхождение тех представлений о судьбе, которые можно найти в творчестве писателя. Глава 2, "Удача, судьба, фатум и рок в русском народном менталитете" будет представлять собой социо-антропологическое исследование понятия судьбы, начиная с его возникновения, и на всем пути его развития и эволюции.
Такой эволюционный подход может показаться спорным, и некоторые ученые считают понятие судьбы агтломератом гетерогенных концпеций, возможно, несвязанных друг с другом.18 Следовательно, трансформации понятия судьбы нельзя описывать в эволюционных категориях. Но все-таки мне представляется, что именно эволюционный подход лучше всего объясняет взаимоотношения различных пониманий судьбы и их сосуществование в разных социальных средах в рамках одного общества, и именно такое эволюционный подход положен в основу этой работы.
Я также хотела бы прокомментировать привлекаемый мной материал. Многое было мной не затронуто, и выбор скандинавской модели для сравнения с русским фатализмом может показаться произвольным. Необходимость компаративного подхода определяется скудостью русских источников. Анализ греческой фаталистической модели неизбежен в любом исследовании судьбы и свободы в силу доминирующего положения этой модели в европейском культурном сознании, тогда как выбор скандинавской модели в качестве параллели русской не столь очевиден, Выбор скадинавских источников обусловлен в основном полнотой сохранившейся в них системы фатализма, а также тесными связями между Скандинавией и Древней Русью, которые, как мне представляется, далеко не ограничивались политическим взаимодействием.19 Поэтому я сделала греческую и скандинавскую мифологию отправной точкой моего исследования. И хотя в работе есть ссылки и на другие мифологии,
например, на кельтскую, индийскую или хеттскую, в мои задачи не входило представить читателю исчерпывающий трактат об индо-европейских мифологиях; я стремилась обрисовать картину русских представлений о судьбе, и так как для этих целей требовался компаративный анализ, я сознательно решила проводить этот анализ на ограниченном материале. Прежде всего мне надо было обрисовать русские представления о судьбе не как некое единое понятие, но систему различных социально обусловленных представлений, взаимодействующих в рамках одной культуры, и затем показать на материале произведений Достоевского, что этот концепт работает.10
Представления о судьбе являются одновременно социально и тендерно обусловленными, Мне хотелось бы предположить, что изначально женщины были вне сферы влияния судьбы; они были носительницами, передатчицами судьбы, и только с течением времени они стали подвластны судьбе наряду с мужчинами. Что же до социальной обусловленности понятия судьбы, основное различие в понимании судьбы возникает между высшими и низшими клаессами, и разница кроется в том, как люди воспринимают себя - как активных деятелей или как пассивных подданных своего жребия. Как представляется, эволюция фаталистических представлений прошла через четыре ступени, и каждая из них удерживала свое господство над отдельным слоем общества, тогда как фатализм продолжал эволюционировать далее. Эти четыре ступени или стадии -удача, судьба, фатум, рок; они затрагивают различные аспекты жизни
человека (когда речь идет об удаче, самым важным фактором является материальное богатство, тогда как три остальные понятия связаны с продолжительностью человеческой жизня), и их отличают различные степени детерминированности. Мы покажем, что динамику и проблематику многих произведений Достоевского можно плодотворно исследовать как столкновения между различными фаталистическими представлениями или как переход персонажей от одного понимания судьбы к другому и, как следствие, от одного представления о самом себе к другому.
Проанализировав представления самого Достоевского о судьбе и свободе и их место в общей структура русских представлений о судьбе, в трех последующих главах мы разберем взаимодействие этих понятий о творчестве Достоевского. Глава 3, "«Записки из Мертвого дома»: этюд о судьбе и свободе", посвящен исследованию "Записок из Мертвого дома" как экскурса Достоевского в мир русских народных представлений о судьбе, в мир удачи и безответственности, резко противостоящий собственным представлениям Достоевского о судьбе как ответственном выборе, который делает свободная личность. Пропасть, отделявшая народ от дворянства, виделась Достоевскому не только пропастью общественной, но и глубинными различиями в миросозерцании. Однако Достоевский доказать самому себе действительное существования потенциала, который он стремился увидеть в народе, и найти нечто общее между народом и дворянством. Для Достоевского это общее - прежде всего христианство как религия ответственности и прощения. В "Записках из Мертвого дома", как и
в других произведениях, истинный дух христианства следует искать не только и не столько в обрядах церкви, но в достижении чувства общности всего человечества либо через мистическое переживание, либо через отношения с другими людьми, особенно с женщинами, которые чаще всего являются истинными носителями христианского духа в надрывном мире Достоевского. И в анализе "Записок из Мертвого дома" история Акульки, ее мужа и предполагаемого любовника выходят на передний план как пример жизни в мире удачи; в мире, управляемом удачей, мужчины практически не в силах оценить духовный потенциал женщин, и женщины оказываются прежде всего символами материальной удачи, В итоге, вместо того, чтобы быть спасительными, отношения с женщинами становятся смертносными. История Акулькиного мужа оказывается параллелью к истории рассказчика, Горянчикова, и его преступлению на почве страсти. Парадоксальным образом, два резко различных слоя русского общества, дворяне и народ, сходятся в своем отношении к женщинам: и Шишков, и Горянчиков убивают своих жен, хотя исход преступления оказывается разным. Таким образом, подчеркивается неспособность установить осмысленные и спасительные отношения с женщиной, и это постоянный мотив творчества Достоевского. В книге будут проанализированы разные формы этой неспособности при разборе "Игрока", а также возможное разрешение конфликтов между мужчинами и женщинами у Достоевского в последней главе книги при исследовании образа матери в "Братьях Карамазовых".
В главе 4, "Между удачей, судьбой и случаем", разбираются романы "Игрок" и "Братья Карамазовы" как два примера перехода от одного понимания судьбы к другому. В случае с Алексеем Ивановичем, главным героем "Игрока", движение идет вниз; из человека, властного над собственной судьбой, он постепенно превращается в существо, отданное на откуп чистому случаю, воплощенному в образе рулетки; стадии падения Алексея Ивановича символизируются его романами сначала с Полиной, затем с Бланш, а затем его "интрижкой" с рулеткой, когда сама игра описывается в вульгарных сексуальных терминах. Этот ряд романов и падение Алексея Ивановича из положения полноценного человека, властного над своей судьбой, до практического небытия описываются как ряд кризисов личности и идентитата, так как, как уже говорилось, понятие судьбы является ключевым в определении личности и идентитата человека. Таким образом, изменение фаталистической модели ведет за собой изменение личности, а предавшись случаю, т.е. полной противоположности судьбы, человек полностью теряет личность и идентитат.
Если В "Игроке" возникает мрачная картина человеческого падения, то в "Братьях Карамазовых", исследуемых в двух последующих подглавках, рассказывается более оптимистическая история. Обе подглавки, одна путем сравнительного анализа "Братьев Карамазовых" и "Героя нашего времени", а другая через прочтение "Братьев Карамазовых" как христианизированной волшебной сказки, сосредотачиваются на Мите Карамазове как протагонисте романа и исследуют его путешествие из мира удачи, где
людьми движут удача и алчность и где люди неспособны управлять собой или своей судьбой, в высший мир судьбы, ответственности и свободного выбора.
Наконец, глава 5, '"'Братья Карамазовы": завершающий синтез", сводит воедино вопросы, рассматривавшиеся в предыдущих главах. Она сосредотачивается на Иване Карамазове, на кризисе его личности, связанном с неверием и стремлением к обожению, которого он пытается достичь, объявляя себя вселенской жертвой. Кризис личности у Ивана возникает оттого, что он отказывается верить в Бога и таким образом теряет возможность делать выбор и определять свою судьбу и свое место в мире. В поисках выхода из этого положения Иван утверждает свои страдания как свое право на божественность. Всеобъемлющее сиротство Ивана, за которое он упорно цепляется как за вызов, брошенный им Отцу Небесному, - вот еще одно препятствие, не дающее ему начать жизнь полноценного человека, способного выбирать и нести ответственность за сделанный выбор. Иван не в силах сделать выбор и, следовательно, он не в силах управлять своей судьбой, как бы отчаянно он ни стремился к полному контроль над своей жизнью, В случае с Иваном отношения с женщинами принимают иную форму: Иван пытается найти свое место в мире через отношения с матерью, т.е. с Матерью Божьей, которую он хочет видеть мстительной Матерью, не прощающей страданий своего Сына, Последняя глава книги анализирует несколько опровержений идей Ивана в "Братьях Карамазовых" и заканчивается понятием imitatio Christi не через богохульное обоисение, но
через приятие всеобщей вины и страдания как пути к спасению в художественном мире Достоевского.
Таким образом, данная книга стремится дать своим читателям такое изложение тем судьбы и свободы, которое выходит за пределы традиционного восприятия этих предметов и сводит различные аспекты представлений о судьбе в единую структуру; как следствие, представления о судьбе оказываются гораздо более обширной сферой, имеющей отношение ко всем аспектам художественной философии Достоевского.
Философия свободы шеллинга: краеугольный камень романтизма
Говоря о Достоевском, мы должны помнить о поразительном сходстве между ним и духом и философией романтизма. Художественные ценности Достоевского, категории его мышления и его мировоззрение были твердо укоренены в романтическом Weltanschauung, и это особенно верно в отношении его взглядов на судьбу и свободу.
Поэтому не стоит удивляться тому, что именно "Философское исследование о сущности человеческой свободы" Фридриха Шеллинга, который предлагает читателям наиболее четкое изложение романтического понимания механизма и мощи человеческой судьбы, демонстрирует сильное сходство с творчеством Достоевского и проливает яркий свет на понимание писателем понятий судьбы и свободы.1
Нет прямых доказательст того, что Достоевский читал Шеллинга, как нет и доказательств обратного. Но философия Шеллинга был настолько влиятельна в России, что Достоевский должен был хотя бы краем уха слышать про его идеи, даже если он не штудировал собственно тексты философа. Обоих мыслителей интересуют одни и те же проблемы: как и многие произведения Достоевского, трактат Шеллинга о природе человеческой свободы - это теодицея, касающаяся Бога, Его всемогущества и всеведения и их связи со свободой человеческой воли; разрешая эти вопросы, Шеллинг выдвигает четыре пункта, которые поразительно схожи с мировоззрением Достоевского.3 Вот эти четыре положения: 1. Человек детерминирован своим собственным выбором, сделанным по свободной воле. 2. Конечная цель человеческого стремления - обожение. Тогда как в Западном христианской традиции господствующими являются понятия оправдания4 и imitatio Christi? в Восточной христианской традиции, с которой Шеллинг был знаком, обожение утверждалось как конечная цель человеческого стремления, достичь которой надо было путем созерцательной молитвы и аналогичных мистических ритуалов.6 "Главной идеей ,,. всего восточного богословия была идея обожения".7 Упоминания о единстве с Богом можно найти в трудах многих важных деятелей церкви, таких, как Климент Александрийский, Ориген, Псевдо-Дионисий и Максим Исповедник.8 Между благодатью и свободной человеческой волей не возникало никакого конфликта, потому что "Дух не порождает волю, которая не желает, но он обращает в обожение волю, испытывающую стремление".9 Понятие обожения путем молитвы и созерцания является центральным в движении исихастов, процветавшем в южно-славянских землях. Одним из его самых знаменитых проповедников и апологов был Св. Григорий Палама, епископ Фессалоникийский.1 Исихазм обрел особое влияние на Руси в XV веке во время Второго южно-славянского влияния. В конце XIX века тема обожения получила новое развитие в трудах Владимира Соловьева, особенно в его книге "Лекции о богочеловечестве" (1877-1881).11 Однако, разрабатывая тему обожения в таких романах как "Бесы", Достоевский опережает Соловьева, и его, как и Шеллинга, по большей части интересует противоположное явление: что происходит, когда человек выбирает зло, а не добро; и в этом случае человеком движет желание стать Богом не в Боге, но вне Бога. В категориях Достоевского, человек хочет стать человекобогом. 3. Согласно Шеллингу, выбор человека есть единое и окончательное деяние, определяющее его будущее. В христианской традиции перед человеком постоянно оказывается возможность нового выбора вплоть до конца его земного существования. Позиция Шеллинга - это комбинация протестантской догмы и древних германских фаталистических представлений (Шеллинг изучал мифологию). Сын лютеранского священника, Шеллинг вырос на учении о предопределении, и в учении Шеллинга, как и в лютеранстве, судьба человека предопределена. Решающая разница, однако, кроется в том, кто предопределяет судьбу: Бог в любой форме христианского предопределения12 и сам человек в философии Шеллинга. То, что человек предопределяет свою собственную судьбу, - это отголосок древних германских верований: в германском эпосе герой всегда оказывается перед настоящим выбором, который он может сделать свободно. После того, как он сделал выбор, его судьба определена. Таким образом, он подвластен судьбе, но эта судьба проистекает его из собственного выбора, 4, Шеллинг говорит о двух родах воли - своеволии (EigenwUle), слепой, страстной и неразумной, и собственно воле, просвещенной разумом. Именно первый тип воли ведет к несчастьям человека и ко всему злу в мире. В этом отношении философия Шеллинга является по сути своей продолжением платоновских взглядов на свободу. Необходимо помнить, что первые философские дебаты о человеческой свободе сосредотачивались на природе ограничений, налагемых на свободу, так как свобода никогда не является недетерминированной. Понятие безусловной свободы часто обозначается термином "свобода безразличия" ("liberty of indifference") и основывается на "том предположении, что выбор недетерминирован".13 ("Свободу безразличия" не стоит смешивать со свободой от нравственных ограничений, так как выбор, сделанный без всяких нравственных обязательств, тем не менее мотивируется желаниями и стремлениями.) Философы отрицают "свободу безразличия" на том основании, что "любой выбор обусловлен сочетанием внерациональных факторов, т.е. чувств, с разумной оценкой"14 и что "если выбор человека совершенно не проистекает из этих мотивов, то это скорее идиот, нежели разумный деятель". Однако, хотя действия человека всегда детерминированы, его считают свободным, когда он детерминирован своим собственным выбором, сделанным в соответствии с его разумением и познаниями. "Философская позиция раннегреческих философов ... состояла в простом отрицании всех внутренних ограничений, налагаемых на преследование своевольных целей".1 Человек был в своей воле хотеть всего, чего он только мог пожелать. Платон спорил с этой позицией, которую он считал софистической, и предлагал другое определение свободы: "Человек свободен, когда разумная часть его души господствует над всеми другими частями, например, чувствами и страстями. Человек, таким образом, может быть порабощен своими чувствами и страстями, если они господствуют над его существом".17 Таким образом, Шеллинг строит свою философию на платоновских основаниях, но тем не менее выстраивает по сути своей христианскую систему, где христианское богословие и особенно учение о Троице играют решающую роль.
Верования в судьбу: методология и овщий обзор
В предыдущей главу главным рабочим понятием была свобода. Было показано, что свобода тесно связана с понятием судьбы, так как именно свобода определяет действия человека и его судьбу. Однако важно помнить, что "свобода" как философское понятие получила основное развитие в мысли философов, богословов и художников и никогда не была четким понятием в народном мировоззрении. В противоположность нашему повседневному языковому опыту, изначально слова "судьба" и "свобода" не были привычной парой, как сегодня, а если и были, то отношения между ними были скорее отношениями дополнения, чем противопоставления. У понятия "свободы", как и у понятия судьбы, социальное происхождение. Изначально, "свобода" означала свободного человека, не раба. На это указывает этимология слова "свобода" в разных языках. Английское "free" изначально означало "не в рабстве",1 Древненорвежское "frjal" (с той же этимологией) использовалось в сагах исключително для обозначения свободных людей. "Liberty" (римское "libertas") восходит к индо-европейской основе leudhero , относящийся к людям, свободный. Аналогично, русская "свобода" происходит от прото-славянского svebodai sviboda, связываем огосо старо-славянским "svobstvo", "sobbstvo" в значении "человек" где svobb производится от svojbt т.е., "свободный, член рода".3 Такая свобода никоим образом не противоречит судьбе; напротив, только у людей, обладающих свободой, т.е. независимым социальным статусом, могла быть судьба в любой форме. В течением времени социальная свобода нерабства была постепенно перенесена на внутренний мир человека. "Путем "овнутрения" политических отношений" возникло "философское понятие внутренней суверенности".4 И все же такое философское понятие свободы так и не укоренилось прочно в народном мировоззрении, и только очень поздно оно появляется в русских фольклорных текстах под сильным церковным влиянием. Судьба - вот определяющее понятие в народном взгляде на место человека в мире, и по мере того, меняется взгляд человека на самого себя, меняется и понятие судьбы.
В этой главе понятие судьбы будет рассмотрено в исторической перспективе как понятие эволюционирующее, прошедшее несколько стадий развития. Будучи динамическим понятием, развивавшимся на протяжении тысячелетий, судьба - не монолитный концепт, по большей части синонимичный с древнегреческим пониманием судьбы как слепой безличной силы, чьих велений нельзя изменить или избежать; это многоуровневое понятие, где на разных уровнях существуют поразительно различные черты и свойства, и эта глава послужит изложением различных пониманий судьбы,
Я считаю понятия судьбы как социо-, так тендерно обусловленными. Сощю-обусловленность подразумевает, что представления о судьбе принимают различные формы в различных слоях человеческого сообщества и, в мифологических терминах, на разных уровнях мироздания. Тендерная обусловленность значит не только то, что у мужчин и женщин разные "взаимоотношения" с судьбой, но и то, что изначально женщины были вне власти мифологической судьбы и только постепенно подчинились ей.
В данной книге термин "фаталистические представления" будет употребляться наравне с термином "понятия судьбы" как обобщающий термин, обозначающий некую силу, которая а) превращает вселенную из хаоса в космос и управляет ее механизмом вплоть до распадения космоса до состояния хаоса и нового возрождения космоса; б) аналогичным образом управляет жизнями всех обитателей мироздания. Принятие любого события как неизбежного и оттенки враждебной и трагической силы, с которыми часто связывается слово "фатализм", будут исключены из нашего употребления термина "фаталистические представления".
Два других понятия, ключевых для моих рассуждений, - это "коллективизм" и "персонализм". "Коллективизм" обозначает такое самовосприятие человека, при котором он считает себя прежде всего частью коллектива, а его личные интересы, ценности, действия и приоритеты второстепенны по отношению к интересам и приоритетам коллектива, к которому он принадлежит. "Персонализм" будет пониматься как антоним "коллективизма", когда человек понимает собственную уникальность, ценность своего "я" как отдельной личности, и ставит основной акцент на собственных интересах и целях.
Фаталистические представления обретают разное значение, обладают разными modus operandi и подразумевают различную степень детерминизма в зависимости от того, кто является объектом судьбы в каждом конкретном случае. Три группы разных объектов судьбы в славянской и индоевропейской мифологии - это боги, полубоги/герои и люди.5 Чтобы понять развитие фаталистических представлений и произошедшие в них подвижки, надо помнить, что эти три группы не были полностью замкнуты в себе и взаимонепроницаемы. Взаимоотношения между ними строились по принципу стремления сравняться с высшими. В случае с "героев божественным родом ... полубогами"6 устремление к божественности, к переходу в высшую сферу богов очевидно из самого двойного имени этой группы. Что до людей и их взаимоотношений с героями, то надо помнить, что полубоги/герои - это раса из прошлого, предмет эпосов и песен, ролевая модель для людей из настоящего, которые пытаются строить свою жизнь по древним моделям.7
Дворяне и народ: неожиданное сходство
"Записки из Мертвого дома" - одно из самых странных и загадочных произведений Достоевского. Именно в "Записках из Мертвого дома" Достоевский пытался осмыслить тот факт, что у русского народа, который говорил на том же языке и жил на той же земле, что и русское дворянство, было свое миросозерцание, радикально отличное от мировоззрения самого Достоевского. Лучше всего особенности этого миросозерцания выражаются в народных взглядах на судьбу и свободу. В "Записках из Мертвого дома" Достоевский пытается передать народное миросозерцание. Однако передать это миросозерцание значило прежде всего признать существование почти непреодолимой пропасти между дворянством и народом. Именно это было мучительнее всего для Достоевского, и именно поэтому позже, в "Дневнике писателя", он отказался от своих прежних высказываний1 и приписал народу собственные взгляды, таким образом снова превращая Россию в единое целое - ведь именно понятие цельности бьшо решающим для Достоевского. Однако он не мог отменить поразительных откровений из "Записок из Мертвого дома", и именно на них мы обратим особое внимание.
Хотя Достоевский не признавал - и ни за что не признал бы - этого открыто, он понимал, что дворяне воспринимают себя как индивидуумов, каждый из которых обладает уникальной и принадлежащей исключительно ему судьбой, дающей возможность выбора и возлагающей на человека серьезную ответственность. Они обладают свободой, подразумевающей свободное принятие решений, за которые человек несет ответственность. Крестьяне, с другой стороны, считали себя единой и неделимой общностью, каждый отдельный член которой - лишь временный держатель какого-то имущества, даваемого ему большей группой, будь то семья, род или "мир", крестьянская община. Эти отдельные держатели собственности были целиком зависимы от большей группы, частью которой они являются. Они не имеют никакой возможности влиять на свою удачу и, следовательно, они не несут никакой ответственности за свои действия. Они обладают волей, проявляющейся в неуправляемых вспышках своеволия. Достоевский также понимал, что существование таких различий между двумя классами одного и того же общества не осознавалось обоими классами одинаково. Если крестьяне остро сознавали, что дворяне были другими и жили по другим принципам, сами дворяне либо не интересовались народом, либо были убеждены в психологической одинаковости всех людей.2
Открыв эту колоссальную пропасть между двумя слоями русского общества, Достоевский на всем протяжении "Записок из Мертвого дома" пытался найти точки соприкосновения, сродства, которые стали бы основой дальнейшего единения. Но чаще всего его находки приносили разочарование, а не надежду. Необычной точкой соприкосновения двух миров неожиданно стало то, к чему сам Достоевский относился с глубокими сомнениями — романтическое понятие свободы, доведенной до своей логической крайности. На протяжении всего романа Достоевский пытается найти другие возможности разрешить мучающий его вопрос. Он словно бы видит одну такую возможность в религии, но и в этой возможности он до конца не уверен.
"Записки из Мертвого дома" дихотомичны. Это прямо заявлено в начале романа в словах Акима Акимыча: "Да, дворян они не любят ... вы и народ другой, на них не похожий" (IV; 28). Использование слова "народ" вместо, например, "люди", указывает на то, что Достоевский сознавал существование двух "народов", живущих в одной стране, говорящих на одном языке, и все же видящих себя по-разному в рамках одного и того же мира.
В критике отмечалось, что образ народа у Достоевского сложился под влиянием "филантропических и гуманистических идей 1840-х в России и выросших на чтении французских социальных романов 1830-х (в частности Гюго и Жорж Санд}", которые провозглашали "обожествление народа и считали само собдй разумеющимся, что народ высоконравствен, нравственнее богатых ". А когда Достоевский оказался в Мертвом доме, "он увидел вместо этого ... жестокость и зверство",4 которые не отличались от худших крайностей дворян-садистов. Однако Достоевский увидел не только это. Мертый дом открыл Достоевскому глаза на то, что вне зависимости от того, хорош или плох русский народ, это - "другой народ", и понятия "плохой" и "хороший" для них опирались на миросозерцание, радикально отличное от его собственного.
Употребление слова "народ" также создает возможность дополнительной интерпретации слов Акима Акимыча: хотя дворяне другие, они все же "народ". Именно к этой второй интерпретации стремится сам Достоевский, но все-таки его попытки редко увенчиваются успехом, так как он находит общий знаменатель для обоих "народов" в сомнительном своеволии и смертоносном романтическом бунте.
В соответствии с существованием двух "народов" существуют и два взгляда на этот мир: взгляд арестантов-крестьн и взгляд арестантов-дворян. И даже сам мир как бы разделен на два разных, противостоящих друг другу мира: свободный мир за стенами острога и несвободный мир внутри острога. С самого начала романа основная точка зрения на мир острога в противопоставлении свободному миру оказывается сочетанием народного и дворянского мировоззрений. Этот взгляд на оба мира, внутри и снаружи острога, связан с идеей свободы и с восприятием свободы в противостоящих друг другу мирах крестьян и дворян- Дворянин Горянчиков, рассказчик, называет мир снаружи острога "светлым, вольным миром" (JV; 9), что немедленно напоминает читателям о типичном фольклорном словосочетании "вольный свет". Достоевский образует прилагательное от слова "свет" и добавляет слово "мир", означающее как вселенную, так и населяющих ее людей. Теперь его фраза и похожа на фольклорную, и отличается от нее. И точка зрения рассказчика оказывается одновременно ориентированной на народное миросозерцание, и отличающейся от него.
Судьба и случай: разрушение героического фатализма в "игроке"
"Игрок" (1866), роман, выстроенный вокруг тем удачи и судьбы, -классический пример распада фаталистических верований и превращения их в веру в случай, который по сути аннулирует судьбу. Центральное место фаталистических верований в жизни человека, их решающая роль в определении отношений человека с собой, с миром и с Абсолютом означает, что перемена в понимании человеком судьбы подразумевает не только радикальные перемены в самовосприятии, но и резкие сдвиги в видении своего места в мире. Если в мировоззрении человека доминирует удача, то вместе с ней доминирует и чувство коллективного идентитата и почти полное отсутствие личной ответственности; если в мировоззрении человека господствует судьба, это означает повышенное ощущение собственной неповторимости и личности и обостренное ощущение личной ответственности; случай же оказывается признаком отсутствия определенной личности и определенного идентитата. История Алексея
Ивановича, игрока, - это история человека, который попал под влияние случая и утратил четкое ощущение собственной личности и своего места в мире. Это история человека, который пришел к существованию в состоянии постоянного кризиса личности и идентитата.
Сам по себе термин "кризис идентитата"1 есть концепция "психосоциальная",2 Подобный кризис возникает, когда человеку не удается "обрести уверенное ощущение внутренней преемственности и включенности в общество" и "примирить собственное представление о себе и представление о себе общества". Именно в этом состоит основная проблема Алексея Ивановича: примирить собственное представление о себе с тем, как его видят другие. Причина его трудностей кроется в его изменяющеся понятии о судьбе, которая есть концепция, определяющая его отношения с собой, с миром н, с Абсолютом, Когда Алексей Иванович пытается навязать свои представления о себе окружающим его людям, он вызывает такие изменения в его собственной личности, которых он совершенно не хотел. Его роман с рулеткой, случаем и госпожой Удачей4 играет главную роль в его падении. История Алексея Ивановича, антигероя "Игрока" - это история его превращения из личностного, ответственного человека, способного формировать собственную судьбу, в существо, лишившееся собственной личности и идентитата из-за одержимости игрой и случаем, воплощенным в игре.
Важно то, что в романе все играют в основном в рулетку. Если карты могут символизировать как предсказуемую судьбу (при использовании для гадания), так и непредсказумый случай (игра), то рулетка симполизирует чистый случай. Карты упоминаются несколько раз, но играют в них только однажды, когда Алексей срывает банк в казино. То есть акцент в романе несомненно ставится на непредсказуемом, случайном.
Вот краткое содержание романа. Молодой учитель Алексей Иванович, без гроша за душой, живет в семье обедневшего генерала с неопределенной фамилией. (Бланш говорит, что фамилия генерала - что-то вроде Загорьянский или Загозьянский. Ее неуверенность в фамилии генерала совпадает с общей моделью разбитых или извращенных семейных связей. У Алексея также нет фамилии, т.е. он формально не связан ни с одной коллективной сущностью и не может претендовать на удачу этой коллективной сущности.) На момент начала действия генеральское семейство пребывает в немецком городке под названием Рулетенбург, город рулетки. Алексей отчаянно влюблен в Полину, падчерицу генерала. Генерал находится в руках некоего маркиза де Грие, французского авантюриста, у которого достаточно долговых расписок генерала, чтобы завладеть остатком его состояния. Сам генерал безумно влюблен в Бланш де Коменж, французскую авантюристку, которая не выйдет за него, если у него не будет состояния. Таким образом, счастье всех зависит от смерти родственницы генерала, богатой "бабушки". Внезапно "бабулинька" появляется в Рулетенбурге, и у нее хватает сил и энергии проиграть значительную часть своего состояния. Вот тогда начинается хаос. Де Грие уезжает, чтобы завладеть имуществом генерала. Бланш ищет нового кавалера, богаче генерала, и готовится уехать в Париж. Полина, которая была влюблена в де Грие, теперь горько разочарована. Ее отношения с Алексеем всегда развивались в лучших традициях "Записок из подполья" - каждый мог быть либо рабом, либо господином, но никогда - равноправным партнером в отношениях двух равных людей. Вначале Алексей был рабом и исполнял любое повеление Полины, в том числе играл на ее деньги, которые и проиграл. Наконец, когда разразилась трагедия, Полина пришла к Алексею - и тогда он испытал припадок вдохновения, бросился в казино и сорвал банк. Со всеми своими деньгами он возвращается к Полине и предлагает ей деньги, в которых она нуждается, чтобы унизить де Грие; она отказывается от денег и предлагает Алексею свою любовь. На следующее утро она уходит от Алексея, он пытается ее найти, но чувствует, что любит ее уже не так сильно, и в конце концов отправляется с Бланш в Париж, хотя прекрасно знает, что она охотится за его деньгами. Бланш даже не пытается скрыть свои намерения. Они проводят месяц в Париже в полном согласии и проживают все деньги. Наконец, Бланш соглашается выйти за генерала, который последовал за ней в Париж. Брак нужен ей, чтобы приобрести хорошее положение в обществе в качестве супруги генерала. Алексей покидает Париж и в конце концов узнает, что Полина любила его и, возможно, любит до сих пор.