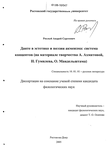Содержание к диссертации
Введение
Глава первая. О христианских корнях философско-эстетической мысли русских романтиков 34
1. Религиозный подтекст культурологических дискуссий в России первой трети XIX века 40
2. Религиозная идея - основа эстетических суждений русских теоретиков о природе романтического искусства 51
Глава вторая. Библейская символика в философской медитации В.А. Жуковского 94
1. «Бог» и «душа» 104
2. «Земля» и «небо» 134
Глава третья. Псалом в поэтическом творчестве В.К. Кюхельбекера как лирическое осмысление сущностных начал в бытии человека и мира 146
1. Библия в творческом сознании В.К. Кюхельбекера 10-20-х гг 151
2. Концептуальный смысл художественного переложения Псалмов в поэме «Давид» 161
3. Характер псалмического слова в исповедальном пространстве крепостного Дневника 177
Глава четвертая. Евангельская молитва в романтической интерпретации: исповедальность перед лицом традиции 192
1. Мистическая природа молитвенного канона 195
2. Молитва как жанр в лирике романтиков 207
Глава пятая. Библейский миф в поэзии романтизма («Агасвер» В.К. Кюхельбекера и «Агасвер, Вечный жид» В.А. Жуковского) 244
Заключение 268
Список использованной литературы 279
- Религиозный подтекст культурологических дискуссий в России первой трети XIX века
- «Бог» и «душа»
- Характер псалмического слова в исповедальном пространстве крепостного Дневника
- Библейский миф в поэзии романтизма («Агасвер» В.К. Кюхельбекера и «Агасвер, Вечный жид» В.А. Жуковского)
Введение к работе
Актуальность исследования. О романтизме нельзя сказать, что этот феномен был обойден вниманием ученых. Однако если об эстетике и художественной практике русского романтизма существует огромная научная литература, то вопросы специфики религиозных воззрений романтиков, сложности их религиозного поиска изучены недостаточно глубоко. Конечно, работа в этом направлении велась. Уже современники романтизма - философы (Ф.В. Шеллинг, Г.Ф. Гегель, Ф.Д. Шлейермахер), поэты и литературные критики (в России: Д.В. Веневитинов, А.А. Бестужев, Н.А. Надеждин, В.Г. Белинский и др.) возводили генезис романтизма к эпохе христианских средних веков. На близость романтизма к христианству указывали ученые: И.И. Замо-тин, П.А. Козьмин, А.Н. Сакулин, A.M. Скабичевский, Н.А. Котляревский, А.Н. Веселовский, В.М. Жирмунский, А.А. Шахов, Ф.А. Браун, А.С. Дмитриев, P.M. Габитова, Н.А. Гуляев и др. При этом чаще всего они не рассматривали вопросы специально, а затрагивали мимоходом, в самых общих чертах, ограничиваясь констатацией того, что «романтическая религиозность содержит относительно мало церковно-клерикального смысла» (Н.А. Гуляев, И.В. Карташова). В истории отечественной науки нет ни одной крупной монографической и диссертационной работы, посвященной проблеме «Русский романтизм и религия». Советское литературоведение если и обращало внимание на связь романтиков с религией, то это относилось чаще всего к немецкой и французской школам, реже - к школе Жуковского, при этом термин «религия» употреблялся литературными деятелями порой как синоним реакции.
Актуальность исследования вызвана и дискуссионностью названной проблемы. Рассматривая мировоззренческую основу романтизма, большинство ученых считают его светским искусством, но существует также взгляд на романтизм как «своеобразную форму мистического сознания» (В.М. Жирмунский). Довольно распространено мнение, что романтизм, имея религиозную основу, «являл собой психологическую и эстетическую реакцию на протестантизм» (Эйхендорф). По словам представителя церковной науки, русский романтизм «не имел религиозной основы, да и не мог ее иметь в православной среде» (М.М. Дунаев). Кроме того, признаваемое большинством теоретиков искусства положение об особом статусе личности как методологической основе романтизма служит аргументом для различных, порой прямо противоположных интерпретаций. Исходя из того, что дух христианства есть «дух овнутрения» («Царство Божие внутрь вас есть», Лк. 17:21) и апелляция к «внутреннему человеку» характерна как для учения Христа и христианской экзегетики, так и для романтического искусства, одни ученые именно в этом видят близость романтизма к христианству, а романтической личности к Богу. В такого рода исследованиях романтический автор и его герой дают решение коренных жизненных противоречий в духе христианского смирения и
сострадания (анализ К. К. Зейдлицем позиции В.А. Жуковского в его лирике). В этом же ряду нужно рассматривать высказывания о глубоком внутреннем родстве романтического героя и «идеального человека христианства» (О.А. Кислякова). Авторы другой точки зрения выдвигают тезис об отлучении романтизма от религии, а романтической личности как ни в чем неограниченной, свободной индивидуальности - от Бога (на этом построена концепция И.И. Замотина, который называет основным мотивом романтизма «индивидуализм, доведенный до высокого культа личности»). Обе научные тенденции имеют длительную историю, восходят к дореволюционным трудам, имеют серьезную теоретическую базу. Понятно, что вопросы, не получившие удовлетворительного разрешения на прежних методологических основаниях, вполне актуально поставить для нового, адекватного культуре и науке рубежа XX-XXI вв. прочтения. Исследование актуально и тем, что отвечает духовным запросам общества, дает возможность обнаружить закономерности метафизического порядка.
Объектом исследования является романтическая эстетика и поэзия первой трети XIX века; предметом - характер бытования библейско-евангельского текста как текста канонического в художественной практике поэтов, принадлежащих к разным видам русского романтизма (психологическому, декабристскому, гражданскому, философскому). Черты мировоззрения, умственного склада, литературного вкуса налагают печать на восприятие библейско-евангельской традиции каждым поэтом. У одних художников преобладает гармонически примиряющее звучание (В.А. Жуковский), у других - драматически обостряется противостояние истины и лжи, веры и безверия (декабристы, М.Ю. Лермонтов). Это же проявляется и в жанровом предпочтении. В лирике В.А. Жуковского основной жанр - философская медитация религиозного плана, у декабристов - псалом, в гражданском и философском романтизме - молитва. При всей условности терминов (психологический, декабристский, гражданский, философский), характеризующих разные ветви русского романтизма, они используются современным литературоведением. В каждом течении романтизма рассматривается творчество тех художников, у которых библейско-евангельская традиция выражена наиболее ярко: в психологическом романтизме - лирика В.А. Жуковского, Й.И. Козлова, в декабристском - лирика Ф.Н. Глинки, В.К. Кюхельбекера, в гражданском и философском - лирика П.А. Вяземского, Н.М. Языкова, Д.В. Веневитинова, Е.А. Баратынского, М.Ю. Лермонтова, А.А. Григорьева. В последней главе работы анализируются две поэмы о Христе В.А. Жуковского и В.К. Кюхельбекера. Хронологически они выходят за рамки исследования (40-е годы), но интересны по другим соображения. Если в период расцвета романтизма оба художника занимали крайне противоположные позиции и эстетика их была, по сути дела, несовместима, то в 30-40-е гг. в их творчестве зарождаются и развиваются духовно близкие тенденции. Художественное преломление ре-
лигнозных исканий В.А. Жуковского и В.К. Кюхельбекера в поэмах о Христе связано не только с логикой их собственного развития, но и с нравственно-философскими исканиями времени; в таком же отношении к христианству находим И.И. Козлова и позднего А.С. Пушкина, в иных аспектах - М.Ю. Лермонтова, Е.А. Баратынского, Ф.Н. Глинку, Н.В. Гоголя. Подчеркнем: рассматривается лирическая светская поэзия. Отдельные произведения с религиозной окраской, а также религиозные жанры здесь - лишь часть светской психологической и философской романтической поэзии. Совсем иной род творчества представляет поэзия, религиозная по своему служебному предназначению (духовные оды, гимны, церковные песнопения), по теме, в которой воплощено конфессиональное сознание, когда смысл произведения существует до его создания в виде определенного религиозного убеждения.
Целью работы является концептуальное осмысление религиозной основы мыслительных интенций романтизма как мировоззренческой системы, характеристика религиозной составляющей в эстетических суждениях романтиков (чему посвящена теоретическая глава исследования) и анализ важнейших форм ее существования в русской романтической поэзии. Интерес будет сконцентрирован, главным образом, на художественной природе трактовок поэтами-романтиками библейских по своему происхождению символов, жанров, мифов как способов воплощения философского и мировоззренческого смысла произведений.
Достижение поставленной цели потребовало постановки и решения следующих исследовательских задач:
Выявление и сравнительный анализ противоположных научных суждений о религиозном характере романтической эпохи и литературы XIX века в целом, а также различных позиций духовных авторитетов Церкви и светских деятелей на природу искусства.
Рассмотрение философско-эстетического творчества идейных предтеч русской эстетики - немецких теоретиков и практиков романтизма - с целью определения своеобразия русской эстетической мысли.
Концептуальный анализ философских, критических, публицистических работ теоретиков русского романтизма с точки зрения вычленения религиозной идеи в их суждениях о мире и искусстве, о миссии и назначении поэта, о сущности, истоках, своеобразии романтической поэзии; реконструирование этой идеи в логико-исторической последовательности.
Изучение романтической символики в ее соотнесенности с религиозной библейской символикой на примере лирического творчества В.А. Жуковского - «самого христианского» (В.Г. Белинский) поэта из всех русских романтиков.
Определение природы религиозных жанров - псалма и молитвы; рассмотрение этих жанров в свете библейской и литературной традиции; изучение своеобразия переложения библейских подлинников в художественной ро-
мантической практике. 6. Характеристика места, роли и значения библейского мифа в поэзии позднего романтизма.
Методологические основания и теоретические источники исследования заданы его объектом и предметом, целью и задачами. Методология имеет комплексный характер. Применены конкретные методы философско-эстетической реконструкции, концептуально-сравнительного и структурно-семантического анализа, текстуально-герменевтической аналитики. Используются такие исследовательские принципы, как объективность, когда основные теоретические положения проверены несколькими методами, а ведущие детерминации романтического мышления изучаются не только в эстетической, но в практической и религиозной плоскостях; целостность - когда используется как типологическая, так и конкретно-историческая методология, позволяющая раскрыть полиструктурность проблемы «русский романтизм и религия», ее важнейшие детерминации, внутренние противоречия; историзм - при котором логически выявляется этапность присутствия религиозной составляющей в эстетике и художественной практике романтизма.
Необходимо отметить, что, осмысляя методологию работы, автор ссылается на ряд исследований русских (Аверинцев С.С. Смысл вероучения и формы культуры // Христианство и культура сегодня. М., 1995; Котельников В.А. Язык Церкви и язык литературы // Рус. лит. - 1995. - №1; Бухаркин Б.Е. Православная церковь и светская литература в Новое время: основные аспекты проблемы. - СПб., 1996) и зарубежных (Sternberg М. The Poetics of Biblical Narrative: Ideological literature and the Drama of Reading. Bloomington, 1985; Barton G.A. The International Critical Com-mentary. A Critical and Exegetical Commentary on the Book of Ecclesiastes. Edinburg, 1980; Murphy R. Word Biblical Commentary. Ecclesiastes. Dallas, 1992) ученых, подчеркивая, что большинство из них признают «пока еще совершенно не разработанной методологию, которая позволила бы успешно соотнести очень разные сферы - чисто духовную и чисто эстетическую» (И. Есаулов), что опорой в данной работе будет являться категория «текст», и исследовательский интерес будет сконцентрирован на характере бытования библейско-евангельского текста как текста канонического в русской романтической поэзии.
Основными теоретическими источниками явились: - оригинальные труды философов, эстетиков, деятелей культуры Европы и России, оказавших наибольшее влияние на формирование романтического типа мышления и романтической эстетики, прежде всего И. Канта. И.Г. Фихте, Ф.В. Шеллинга, И.В. Гете, В.Г. Вакенродера, Ф.Д. Шлейермахера, Г. Гейне, В. Гюго, Д.Г. Байрона, Ф.Р. Шатобриана, Новалиса, Г.Ф. Гегеля, П.Б. Шелли, А.И. Галича, Д.В. Веневитинова, В.А. Жуковского, В.К. Кюхельбекера, В.Ф. Одоевского, А.А. Бестужева, Н.И. Надеждина, В.Г. Белинского;
творения Отцов Церкви, ряд аскетических творений: свв. Ефрема Сирина, Исаака Сирина, Иоанна Лествичника; новейших русских духовных писателей: еп. Феофана Затворника, еп. Игнатия (Брянчанинова), св.еп. Тихона, прот. И. Кронштадского, арх. Софрония (Сахарова) и др.;
сочинения русских религиозных философов B.C. Соловьева, К.Н. Леонтьева, В.В. Розанова, Д.С. Мережковского, С.Н. Булгакова, С.Л. Франка, Н.А. Бердяева, посвященные вопросу взаимоотношений искусства и религии.
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые в отечественной историко-литературоведческой науке предпринята попытка рассмотреть религиозную основу русского романтизма в качестве единого генетического концептуально-теоретического ядра его эстетики и поэзии; в выдвижении концепции, согласно которой романтизм как художественно-эстетическая мировоззренческая система принципиально отличается от христианства как религиозной мировоззренческой системы и в то же время, имея христианские истоки и оставаясь явлением христианской художественной культуры, близок ему в своих интенциях, имеет с ним немало общих черт и общей терминологии; в концептуальном осмыслении нетрадиционной романтической религиозности; в характеристике романтизма как особой формы Богопознания, неразрывно связанной с трагическим самопознанием человеческой личности; в утверждении, что путь к этому самопознанию в поэтической практике романтиков шел через переосмысление религиозной символики, трансформацию канонических религиозных жанров - псалмов и молитв, -модификацию религиозных мифов и создание неомифов. Концептуально-сравнительный анализ показывает, что, хотя религиозная и светская системы организации духовного опыта человека находятся в принципиально разных сферах, разрыв между ними относительный, и потому библейско-евангельская традиция (используемая романтиками для утверждения новой религии), преломляясь в романтической поэзии и приобретая качественно иной характер (не просто «вливають вина нова в мехи ветхи» - Мф. 9:17, а старые мехи, оказавшись в романтическом контексте, становятся отчасти новыми), сохраняет в то же время религиозную основу библейских первообразов.
Научно-практическая значимость работы. Диссертация вносит существенный концептуально-организующий вклад в рассмотрение проблемы «Русский романтизм и религия». Авторские выводы и положения могут инициировать последующие исследования в этой неисчерпаемой для научных разысканий области. Возможно дальнейшее углубление в первоисточники, обоснование темы, расширение круга имен, произведений поэтов так называемой «второй величины».
Материалы диссертационного исследования возможно использовать для концептуальной перестройки сложившихся ценностных ориентиров ро-
мантизма, для понимания феномена светской романтической религиозности. Теоретические и практические положения работы могут быть введены в программы вузовских курсов преподавания истории и теории литературы, спецкурсов по проблемам литературы XIX века, по методике литературоведческого анализа, в подготовку цикла спецкурсов, посвященных проблеме «Русская литература и христианство» и т.д.
Диссертант включил материалы исследования в лекционные курсы «Русская литература XIX века», «Теория литературы», читаемые им в Челябинской государственной академии культуры и искусств, в разработку планов семинарских занятий по русской классической литературе, в многочисленные доклады теоретического и научно-методического характера.
Апробация работы. Основные положения диссертации и полученные результаты обсуждались на кафедре истории литературы ЧелГУ (1992, 1994, 1997), на кафедре литературы МГИК (г. Москва, 1992), на кафедре литературы и русского языка ЧГАКИ (1989-2000), на кафедре русской литературы УрГУ им. A.M. Горького (2000).
Отдельные фрагменты и идеи исследования получили освещение и обсуждались на конференциях:
международных («Россия и Восток: проблемы взаимодействия» - Челябинск, 1995; «Россия в истории мировой цивилизации» - Челябинск, 1997; «Человек на рубеже нового тысячелетия» - Челябинск, 1997; «Русская литература: национальное развитие и региональные особенности» - Екатеринбург, 1998;
15-ти всероссийских («Культура - источник возрождения духовности народа» - Омск, 1993; «Духовность и культура» - Екатеринбург, 1994; «Кармановские чтения» - Ижевск, 1995; «Судьба России: духовные ценности и национальные интересы» - Екатеринбург, 1996; «Место и значение фольклора и фольклоризма в национальных культурах: история и современность» - Челябинск, 1998; «Дергачевские чтения» - Екатеринбург, 2000 и др);
на всесоюзном семинаре в МГИКе (г. Москва, 1992);
межвузовских и региональных («Проблема характера в литературе» -Челябинск, 1990; «Бирюковские чтения» - Челябинск, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998); Проблемы русской духовности и современности» - Хабаровск, 1993; «Проблемы духовности человека в раскрывающихся горизонтах отечественной философии» - Челябинск, 1993; «Проблемы адаптации социально-культурной сферы к рыночной модели хозяйства» - Челябинск, 1996; «Лермонтовские чтения» - Екатеринбург, 1999 и других);
итоговых научных конференциях ЧГАКИ (1990-2000).
Основное содержание диссертации отражено в публикациях автора: «Религиозные истоки эстетики и поэзии русского романтизма: Монография» (Челябинск, 2000. - 12 п.л.); в статьях и тезисах (25 названий общим объемом
20,5).
Структура диссертации. Работа состоит из введения, пяти глав, девяти параграфов, заключения и списка использованной литературы, содержащего 466 наименовании. Общий объем работы составляет 312 страниц.
Религиозный подтекст культурологических дискуссий в России первой трети XIX века
Продолжавшаяся свыше десяти лет полемика о языке напрямую связана с религией. В своем «Рассуждении о старом и новом слоге российского языка» (СПб., 1803) адмирал А.С. Шишков, защищая церковно-славянский язык, именно с ним связывает отечественные обычаи и веру отцов и, нападая на Н.М. Карамзина и его последователей за пристрастие к французской культуре, высказывает сомнение в их религиозных и патриотических чувствах. Говоря о том, что «древний славянский язык» есть корень и начало российского языка, А.С. Шишков призывал учиться «красноречивому смешению славянского величавого слога с простым российским» и сетовал на то, что современные писатели забыли «церковные и старинные славянские и славяно-российские книги» [421. С.8]. Положения А.С. Шишкова, устанавливающие однородность или близкое родство между семантическим строем славянского и простонародного слога, было подхвачено и развито позднее романтиками декабристского круга - П.А. Катениным, А.С. Грибоедовым, В.К. Кюхельбекером. Последователи Н.М. Карамзина, отстаивая «новый слог» в литературе и развивая мысль об эволюции языка в зависимости от роста культуры, рассматривали призыв А.С. Шишкова к восстановлению и защите славянского языка как движение вспять, как попытку «возвратить нас к обычаям и понятиям старины» [277. С.7]. Успех «нового слога» в светской литературе и заимствование писателями новых понятий А.С. Шишков связывал не только с французской революцией, а прежде всего с потерей у соотечественников веры, с ослаблением в обществе патриотических настроений. «Мы оставались еще, до времен Ломоносова и современников его, при прежних наших духовных песнях, при священных книгах, при разных мнениях о величии Божием, при умствованиях о христианских должностях и о вере, научающей человека кроткому и мирному житию, а не тем развратным нравам, которым новейшие философы обучили род человеческий и которых пагубные плоды, после толикого пролияния крови, и поныне еще во Франции гнездятся» [421. С.102-103]. Когда к 1808 году число сторонников и единомышленников А.С. Шишкова увеличилось, С.Н. Глинка, начав издавать журнал «Русский вестник», выступил в поддержку А.С. Шишкова как борец с французским влиянием, поборник веры и патриархальной старины. Заметным явлением года стало «Рассуждение о русском языке» Е.М. Станевича, который вслед за А.С. Шишковым повторил мысль о том, что нельзя разделять свой язык на два языка - славянский, оставшийся в священных книгах, и российский, или простонародный. Образование вскоре «Беседы любителей русского слова», деятельностью которой руководил А.С. Шишков, а также опубликование им в 1811 году двух фундаментальных работ: «Рассуждение о красноречии Священного Писания» и «Разговоры о словесности» - были следующим этапом в полемике. В «Рассуждении ...» А.С. Шишков доказывал превосходство русского языка над французским и немецким, утверждая, что русский язык «несравненно древнейший и богатейший, поелику видно, что он о составлении слов своих, так сказать, сам умствовал, из самого себя извлекал их, рождал, а не случайно как-нибудь заимствовал и собирал от других народов» [421. С.143]. А.С. Шишков приводит отрывки из Священного Писания с соответствующим переводом их на французский язык и восхищается силой, красотой и величием славянского языка по сравнению с французским. Обнаружив в произведениях карамзинистов противопоставление церковно-славянского языка, как языка духовных книг, и русского, как языка книг светских, он настаивает на том, что славянский и русский языки - одно и то же, доказывая, что нужно «черпать из ... богатого источника» славянского языка и «восходить как можно далее к началам оного», как «единого средства к распространению, обогащению и усовершенствованию нашей словесности» [421. С.152]. Мысль о разделении языка на славянский и русский ведет, по его мнению, к тому, «чтоб ум и сердце каждого отвлечь от нравоучительных духовных книг, отвратить от слов, от языка, от разума оных и привязать к одним светским писаниям, где столько расставлено сетей к помрачению ума и уловлению наивности» [421. С.160]. Для А.С. Шишкова и его сторонников славянский и русский язык - «славяно-российский» - это прежде всего язык веры, обуздывающий «язык страстей», главная сокровищница национального духа. «Везде с великим жаром и усердием, - пишет он, - восстаю я против забвения славянского языка, на котором все пастыри церковные преподали нам свои поучения и который один есть незыблемое основание веры нашей» [421. С.161]. Заявляя о том, что «язык наш некая чудная загадка, поныне еще темная и неразгаданная», что он «возник вместе с верою», а с другой стороны «существовал задолго до возникновения других языков» и корни многих «даже Греческих и Латинских слов находим мы в Славянском и от него происшедших языках» [422. С.182], А.С. Шишков сакрализует язык. В его рассуждениях язык обладает своеобразной религиозной энергией не в меньшей степени, чем религиозная вера. Письменное же воплощение языка именно в сакральных текстах служит А.С. Шишкову дополнительным аргументом его изначальной богоизбранности. Сак-ральность «славянского» языка позволяет, с точки зрения А.С. Шишкова, широко применять его в высоких жанрах светской литературы, что упрочивает связи литературы с сакральной первоосновой. А.С. Шишков настаивает на том, что «обогащению и развитию нашей словесности» должны служить три главных источника: «священные или духовные наши книги; летописи и все подобные им предания; народный язык». Он пишет: «Мы бросились на новейшие иностранные языки и, переводя с них, стали придерживаться их свойствам. Чего у них в языке нет, того уже и мы в сочинениях своих употреблять не смеем. Сие излишнее подражание им отводит нас от собственных красот языка нашего и, стесняя пределы оного, служит более ко вреду, нежели к пользе словесности» [421. С.165]. И эта сторона деятельности А.С. Шишкова - борьба за простонародную поэзию и народный язык - была развита в творческой практике поэтов-романтиков, особенно П.А. Катениным, А.С. Грибоедовым, В.К. Кюхельбекером.
Аргументы сторонников «нового слога» в эти годы не были последовательны и доказательны. М.Т. Каченовский, возразив А.С. Шишкову по частным вопросам, согласился с рядом положений «Разговоров ...» и привел целиком «прекрасное их окончание» [75. С.34], где шла речь о важности церковных книг для русского литературного языка. Д.В. Дашков считал, что неверно «к суждениям о языке примешивать нравственность и веру», укорять противников «в намерении ослабить благотворную власть веры» [123. С.8]. Издавший в 1811 году два стихотворных послания - В.А. Жуковскому и Д.В.
«Бог» и «душа»
«Бог и душа - вот два существа; все прочее - печатное приложение, приклеенное на минуту» [149. С.105], - эти слова В.А. Жуковского, которые он записал в дневнике 1821 года, являются ключом к пониманию всего его творчества. Отношение его к религии было разным в первый (с 1801 до середины 1820 гг.) и второй (с середины 1820 по 1852 гг.) периоды творчества. В науке, начиная с В.Г. Белинского, общепризнано, что наибольшее влияние на последующую литературу оказали произведения В.А. Жуковского, созданные до середины 20-х гг., в пору расцвета русского романтизма. Философскую медитацию [351. С.4-71] этих лет мы и сделаем предметом нашего анализа. Хотя в целом проблема не рассматривалась, отдельных ее сторон касались, особенно дореволюционные исследователи [71; 154; 159]. А.Н. Весе-ловский, автор большой дореволюционной монографии о В.А. Жуковском, видел в религиозности художника исток его «поэтики невыразимого». По его мнению, угадать примету идеала «в оболочке конечного» может лишь мистически вдохновенное чувство поэта». Считая религиозность определяющим началом всего поэтического облика В.А. Жуковского, ученый в то же время не видит связи между хри- . стианским мироощущением художника и романтической системой ценностей. Более того, В.А. Жуковский для него сентименталист, творивший до конца жизни в русле этого литературного направления [71. С.337]. Действительно, открытие внутреннего мира человека, попытка раскрыть переживания героя - все это есть у сентименталистов. Но эмоции лирики Н.М. Карамзина - эмоции малого масштаба. Главное достоинство его героев - их повышенная чувствительность и слезливость. Для романтического героя В.А. Жуковского жизнь также полна слез. Однако, если герои Н.М. Карамзина «умели плакать», то , герои В.А. Жуковского «умеют скорбеть». В.А. Жуковский в области чувства пошел дальше, манерная чувствительность карамзинской школы ему совершенно чужда. Он перерастает рамки сентиментализма. Это сообщает его медитации особый колорит. Если поэты-сентименталисты культивируют, в основном, настроение, то В.А. Жуковский - душевное состояние [334. С.459]. Понятия «Бог» и «душа» становятся в художественной системе В.А. Жуковского символами определенных душевных состояний поэта и его лирического героя.
В первый период творчества В.А. Жуковский переживает эсте- ] ,, тическое отношение к религии [191. С.159]. В эти годы для него искусство, в частности, поэзия являются более или менее тождественным замещением религии. Он смотрит на них как на равноправный с нею путь Богопознания. «Поэзия - небесной религии сестра земная, Светлый маяк, самим Создателем зажженный», - так сказано в его поздней драматической поэме «Камоэнс» (1839), но такова его эстети- V ческая позиция вообще в первый период творчества. Уже в одной из самых ранних медитаций, где он славит богатую и счастливую Россию, в ряду ее достоинств он видит то, что кисть художника и лира поэта, «содействуя просвещению», «сливают благотворный свет его с лучом религии» [150. С.14]. В статье 1821 года «Рафаэлева Мадонна» он разовьет это положение применительно к живописи: «И точно, приходит на мысль, что картина родилась в минуту чуда: занавес раздвинулся, и тайна неба открылась глазам человека». Доступ к «тайне небесной» имеют, по мнению поэта, младенцы, ангелы на земле и художники в минуту высшего прозрения. В такие мгновения художника посещает «гений чистой красоты», религиозное откровение, являющее святость жизни. Далее в статье В.А. Жуковский поэтически излагает это явление: «Он лишь в чистые мгновенья, Бытия слетает к нам, И приносит откровенья, Благодатные сердцам; Чтоб о небе сердце знало, В темной области земной, Нам туда сквозь покрывало, Он дает взглянуть порой» [150. IV. С.173]. Подобные минуты редки в жизни человека. Говоря о Рафаэле и опираясь в своих суждениях на Вак-кенродеровскую легенду о нем, В.А. Жуковский подчеркивает: «Один раз душе человеческой было подобное откровение, дважды случиться оно не может» [150. IV. С. 174]. В медитации 1824 года «Я музу юную, бывало» В.А. Жуковский повторит мысль о гении чистой красоты. Сожалея о том, что голос его арфы замолчал, он вспомнит те времена, когда божественное вдохновение, источник которого «на небесах», посещало его: «На все земное наводило, Животворящий луч оно, И для меня в то время было, Жизнь и Поэзия одно» [150. І. С.367].
Мысли В.А. Жуковского о вдохновенном прозрении художника в сущность бытия разделялись всеми романтиками. Порой они сами говорили о поэтическом вдохновении как наитии Святого Духа: «К тебе, о чистый Дух, источник вдохновенья» (Д.В. Веневитинов); «Твой стих, как Божий Дух, носился над толпой» (М.Ю. Лермонтов). Огромное влияние на русских поэтов, как мы отмечали, оказал Ф.В. Шеллинг, считавший, что, наряду с религией, искусство противостоит «наружному разуму силлогизма», что «природа всего лишь поэма, сокрытая в чудесной тайнописи» [150. I. С.367].
Своеобразие эстетической позиции В.А. Жуковского в первый период творчества наложило печать на трактовку религиозной темы, в частности на множественность смыслов, заключенных в понятии «Бог». Еще до «Сельского кладбища» (1801), после которого он стал известен читающей публике, в ранних оригинальных нравоучительных медитациях, написанных под влиянием сентиментализма, он высказывается о Боге в духе христианской монотеистической доктрины как Создателе Вселенной, Творце. Отсюда его эпитеты - «Муж, премудростью почтенный», «Предвечный», «Спаситель-Бог», «Сильный», «Чудесный» и др. Библейский Бог крайне редко персонализируется в образе Христа. В медитации «Библия» (1814), которая является переводом отрывка из поэмы Л. Фонтана «Священное Писание», он восхищается ветхозаветными героями - Давидом, Иаковом, Авраамом -и лишь в конце произведения появляется «младенец-Бог мессия в пеленах». Сами понятия «Бог», «Творец» В.А. Жуковский зачастую не конкретизирует. Он употребляет их в ветхозаветном и новозаветном смыслах, иногда стирая грань между Богом-Отцом и Богом-Сыном. Однако чаще всего эти понятия художник применяет для характеристики главного лица Нового Завета. В медитации 1799 г. «Могущество, слава и благоденствие России» он, рассказывая о прошлом России и воспринимая язычество как дикость, когда «кровь под жреческим ножом дымилась в честь немых кумиров», называет Творцом скорее всего Иисуса: «С престола Святославов сын, Простер свой скиптр державный, мощный, И кроткий христианства луч, Блеснул во всех концах России, К Творцу моленья вознеслись». В «Стихах на новый, 1800 год», говоря о «юном сыне веков», «сыне вечности желанной», который утверждает во всей Вселенной любовь и «сопутницы которого несут Вселенной благодать», он имеет в виду Иисуса Христа.
Характер псалмического слова в исповедальном пространстве крепостного Дневника
В начале 30-х годов усиливается религиозность поэта, что было характерно для общей эволюции романтического сознания. Известно, что религиозная вера не была чужда мироощущению романтиков. Многие из них (как в русской, так и западноевропейской литературе) совершили в конечном счете поворот от романтического понимания идеи Бога к ортодоксальной ее трактовке. Религиозное чувство В.К. Кюхельбекера, не становясь ортодоксально церковным, так или иначе пронизывает все его произведения после 1825 года, особенно существующие в рамках Дневника. Как и поздний В.А. Жуковский, В.К. Кюхельбекер убежден, что «человеку в душу вложена потребность веровать», что вера, как единственное средство сохранения религии, должна быть нерассуждающей, рационализм в вопросах веры пагубен: «... ум не ведет к Богу, а что такое человек без Бога?» [237. С.347]. Если раньше идея двоемирия отвергалась им, то в эти годы он считает, что «есть иной мир за пределами видимого» [237. С.427], разделяя и в этом вопросе позицию В.А. Жуковского, утверждавшего, что «мир духовный есть таинственный мир веры; очевидность принадлежит миру материальному...» [148. С.95]. В общем же пафосе дневниковых высказываний по вопросам религии угадываются мучительные раздумья и сомнения поэта-узника, которые говорят скорее о желании верить, чем предполагают глубокую веру. Анализируя статью К.Н. Батюшкова «Нечто о морали, основанной на философии и религии», он не согласен со слишком строгим приговором автора в отношении Жан-Жака Руссо и берет его под защиту: «Не по гордости - так полагаю я - страдалец Руссо отвергал утешение религии; он, смею думать я, принадлежал к тем злополучным, о которых, когда их безверие простирается еще дальше Жан-Жакова, Пушкин говорит: их «ум ищет божества, а сердце не находит», - такое безверие ужасно, но оно более болезнь, несчастие, нежели преступление» [237. С.552]. Сказанное заключает автобиографический подтекст. Страстные, глубоко искренние признания В.К. Кюхельбекера о вере в Бога «всем существом, всем умом, всей душой» [237. С.347] сменяются порой словами отчаяния от отсутствия и веры, и безверия: «Сегодня годовщина матушкиной кончины; а я не могу найти в груди ни одного живого чувства, ни скорби, ни надежды на свидание в лучшем мире, ни даже ... безверия... Сердце окаменело: бьешь в него, требуешь от него воды живой, сладких, горьких слез, а сыплются только искры, суеверные приметы» [237. С.424]. Дневниковые записи хранят следы усиленного изучения В.К. Кюхельбекером сочинений европейских проповедников и богословов. Однако в целом его эстетические интересы совсем не ограничиваются вопросами религии. Круг их широк, наряду с религиозной литературой, огромное место занимает светская литература и культура, европейская и русская.
Неоднозначно воспринимает сейчас В.К. Кюхельбекер текст Священного Писания. Мировоззренческий и эстетический аспект здесь явно совмещаются, восторг поэта все более сочетается с религиозным благоговением верующего (см., например, запись от 3 января 1832 года и от 28 января 1833 года). В.К. Кюхельбекер анализирует целые главы из книг пророков Исайи, Иеремии, Даниила, Варуха, Книги Маккавеев и других, он находит здесь религиозную мудрость и достоинства изящного, реальную для себя опору в жизненных испытаниях и поэтические красоты и образы. Так, читая главы Книги Ездры, он выписывает «два места», отмечая, что первое важно по переданному в нем смыслу, второе - «по силе поэтической мысли». Фразу из 28 стиха 16 главы «Восхощет человек человека видети или глас его слышати» В.К. Кюхельбекер сопровождает словами: «Как это просто и в то же время ужасно» [237. С.213].
Внимание В.К. Кюхельбекера-художника останавливает богатая образность Библии. В Книге Ездры он особенно выделяет конец 9-ой (ст.38-47), начало 10-й (ст.1-27) глав по «удивительно смелой просопопее» [237. С.212] - явлении скорбящему в поле пророку «некоей жены», рыдающей о гибели единственного сына и олицетворяющей судьбу угнетенного народа. Он восхищен символикой Священного текста. В книге пророка Иезекииля ему нравится рассказ о чуде оживления Богом сухих человеческих костей (37 глава), что было символом судьбы дома Израилева после наказания за грехи. В.К. Кюхельбекер пишет, что никогда не перестанет удивляться 14-ти первым стихам этой главы, они «выше всего того, что встречается у светских писателей». Он сопоставляет эту сцену со сценой 5-го действия драмы Ф. Шиллера «Разбойники» и заключает: «несколько крупиц с трапезы Иезекиилевой довольно было, чтобы Шиллеров знаменитый разговор Франца Моора и старика Даниила превратить в богатое, роскошное пиршество для изумленного воображения». Зачастую В.К. Кюхельбекер использует библейскую символику применительно к себе. Так, он сравнивает себя с вдовицей сарептской, о которой рассказывается в Третьей книге Царств (гл. 17, ст. 10-16) и которая является символом божьей милости: «...Господь мой пропитал меня, как вдовицу сарептскую... И впредь возложу надежду на него: Он и теперь не покинет меня; Он и теперь пошлет уму и духу моему хлеб насущный» [237. С.242]. Приведенные примеры свидетельствуют, что в оценке библейского текста у В.К. Кюхельбекера элемент эстетический уживается с религиозным. В самой личности В.К. Кюхельбекера в эти годы как бы соседствует бытие высшее и собственно человеческое, хотя, конечно, больше, чем когда-либо, он сконцентрирован на вопросах духа.
Вряд ли смог бы назвать сейчас В.К. Кюхельбекер Ф. Шиллера «недозрелым» за то, что в его произведениях «господствует одна мысль или, лучше сказать, - как он пишет, - одно чувство - предпочтение духовного (идеального) мира существенному, земному, чувство, без сомнения, высокое, истинно лирическое; но им ли одним, - спрашивал он раньше, - должна ограничиться поэзия» [237. С.454]. Сосредоточенность В.К. Кюхельбекера в эти годы на духовном мире и отстраненность от мира реального имеет биографическую основу, после 1825 года он фактически оторван от событий интеллектуальной жизни страны, вычеркнут из литературы, его имя исчезает со страниц периодической печати. В Дневнике не только история созданных в изгнании произведений художника, а прежде всего история его дум, интересов, размышлений о предопределенности неудачи выступления декабристов, о нравственной сущности человека.
От первой записи в Дневнике до последней перед нами процесс возрастания человека духовного, который стремится возвыситься над телесно-душевной сферой, страдает от состояния «плотью дух подавлен», «грудь не вечностью полна», мучается вопросом: «Ужель прилеплюсь душой к земле». У каждого человека свой путь постижения высот духа. Он может открыться через религиозно-мистическое потрясение, обостренное самопознание, соприкосновение с красотой мироздания, на взлете философской мысли. В.К. Кюхельбекер, как и многие декабристы, восходит на высшую ступень духа через страдание: «Прочел я Чирнера проповедь о том, как страдание сближает нас с Богом: каждое слово в этой проповеди - золото» [237. С.9 7].
Библейский миф в поэзии романтизма («Агасвер» В.К. Кюхельбекера и «Агасвер, Вечный жид» В.А. Жуковского)
Понятие «миф» дискуссионно. Философия, этнология, фольклор, антропология, история религии и психология предлагают каждая свое определение мифа. «В современной науке, - отмечает ученый, -понятия часто формируются на столь различной основе, что требуются большие усилия со стороны семиотики, чтобы, пусть приблизительно, определить в каждом отдельном случае путем критического рассмотрения структуру соотнесенности объекта, словесного знака и значения» [466. Р.260]. Одних методологических подходов к изучению мифа в XX веке можно выделить более десяти - психоаналитический, юнгианский, ритуально-мифологический (Б. Малиновский, Дж. Фрейзер), символический (Э. Кассирер), этнографический (Л. Леви-Брюль), структуралистский (К. Леви-Строс, М. Элиаде, В. Тернер), постструктуралистский (Р. Барт, М. Фуко) и др. [324. С. 184]. Американский исследователь У.У. Дуглас, характеризуя употребление термина «миф» в современной литературной критике, приходит к выводу, что у мифа столько же значений, сколько существует ученых, его применяющих [451. Р.232-242]. Причем, по словам немецкого исследователя Р. Веймана, «словесный знак «миф» коррелируется сегодня со взаимоисключающими значениями и употребляется не только как нечто многозначное, но и как весьма неопределенное» [466. Р.262].
Хотя у большинства исследователей не вызывают возражения такие определения мифа, как «архаическое повествование о деяниях богов и героев, за которым стоят фантастические представления о мире» [267. С.125], как особое состояние сознания, исторически и культурно обусловленное, тем не менее вопросы природы мифа (форма познания или отражения мира), соотношения мифа и религии (а в мифе соотношения разума и веры), жизни мифа в искусстве и общественном сознании Нового времени и многие другие в науке однозначного решения не имеют. Пытаясь определить искусство как мифотворчество, ученые порой называют мифотворчество «самой функцией искусства, начиная с Гомера и кончая такими шедеврами мировой литературы, как «Дон Кихот» Сервантеса, «Фауст» Гете и «Мать» Горького» [97. С.42-43]. Одни из них считают, что мы живем в эру мифа (определяя, например, социализм новым эсхатологическим мифом [427], или поэзию В.В. Маяковского как современный миф, который ведет социалистическую литературу к «горизонту бесконечности человека» [453. S.11]), другие объявляют миф феноменом будущего (заявляя, что «миф нельзя создать насильно; он был действительностью и... опять будет действительностью: мы вышли из мифа и вернемся к мифу... лишь когда все наши интеллектуальные возможности будут исчерпаны» [396]), третьи не связывают миф ни с настоящим, ни с будущим состоянием культуры, а видят в нем «манеру созерцания» художника [428], для четвертых миф - «особое расположение духа», когда «рассказы о богах встречаются с несомненным религиозным интересом» [260].
Мы разделяем позицию ученых, утверждающих, что миф есть «доисторическое и донаучное сознание... (для нас) нечто ушедшее» [466. Р.264], уже библейская мифология в строгом смысле является вторичной [420. С.128-130; 90. С.94]; что миф не идентичен искусству и литературе и между древним и новым мифом пролегла эпоха эстетического развития, в результате которой миф как «вещественная чувственно данная реальность» [255. С.372] стал реальностью знаковой, смысловой, символической [23. С. 16]; что поэтому жизнь мифа в искусстве Нового времени (неомифа) приобрела особые специфические черты. Попытаться определить феномен романтического мифо-логизма, который, по мнению современного ученого [270. С.16], в литературоведении практически не изучен, нам и предстоит в своей работе.
Конечно, интерес романтиков к мифологии и мифотворчеству отмечен в науке давно. Однако чаще всего ученые говорят об использовании художником-романтиком сюжетов и образов традиционных, национальных и низших мифологий как строительного материала для выражения собственных представлений о мире [427] и человеке [66]. Большинство исследователей видят в романтической концепции мифа трактовку его как эстетического феномена, хотя и имеющего значение прототипа художественного творчества, но являющегося, однако, «слабым намеком на представление о мифологии как моделирующей системе» [274. С.16]. Иногда можно встретить суждения (особенно при характеристике творчества немецких романтиков), что миф лишь в позднем романтизме становится «средством художественного познания мира» [178. С.145] или что сквозь романтическую фантастику, которая выступает как сказочность..., проглядывает некая глобальная мифическая модель мира» [274. С.б]. При этом не анализируются ни причины, побудившие романтиков к созданию собственного мифа, ни специфика этого мифа. Мы согласны с тем, что назрела необходимость «концептуального осмысления романтического художественного мышления как принципиально мифологического» [270. С.16] и, в частности, решения вопроса о том, был ли миф для романтиков лишь формой, к которой они прибегали для изложения своих идей, или же системой мышления, восприятия и осознания мира» [270. С.17].
На наш взгляд, потребность в новой мифологии была вызвана у романтиков желанием выступить в роли создателей новой религии. Жермена де Сталь, назвавшая одной из первых поэтов иенской школы «пророками новой религии», отметила в их мировосприятии склонность к мистицизму, удивительную способность «всюду чувствовать и понимать религию» (правда, она же увидела и своеобразие романтической религиозности, подчеркнув, что многие из романтиков «соотносят все религиозные идеи с чувством бесконечного» [63. С.52]). Сами художники в письмах говорили о желании пойти по стопам Лютера и Моисея, основать новую религию и написать новую Библию, причем, последний проект мыслился не как литературный, а как религиозный. «Я намерен основать новую религию, пишет Нова-лис, - и тем более способствовать ее провозглашению: ибо придет и победит она и без меня» [250. С.388]. Создания нового Священного Писания ожидал от своих иенских друзей Ф.Д. Шлейермахер: «Я уже вижу, как некоторые исключительные личности, посвященные в таинства, возвращаются из святилища и очищаются, и украшаются, чтобы выступить вскоре в жреческих одеждах» [423. с. 142]. Используя в построении своей концепции религии основные положения философии Э. Канта, И.Г. Фихте, Ф.Д. Шлейермахера, романтики приходят к выводу, что религия есть не система догматов, а чувство, «созерцание в чувстве универсума» [423. С.143], воплощающего в их представлении идеал бесконечности, заменивший собой идею личностного Бога.