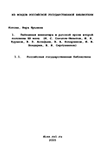Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Медиасловесностъ как новый тип словесного творчества Г7
1.1. Звук и знак в искусстве слова 19
1.2. Развитие информационных технологий как культурологическая и эстетическая проблема 28
1.3. Изменение соотношения звука и знака в словесном искусстве XX века 49
1.4. Логосфера и медиасловесность в современной культуре 57
1.5. Авторская песня как феномен медиасловесности 63
Выводы 86
Глава 2. Авторская песня и традиции русской песенной поэзии 88
2.1. Авторская песня и советская массовая песня 88
2.2. Авторская песня и городской фольклор 138
Выводы 181
Глава 3. Поэтика авторской песни 183
3.1. Специфика субъекта и адресата 184
3.2. Локализация события и переживания 188
3.3. Композиция, рифмы и тропы 208
3.4. Стихи и проза .238
Выводы 255
Глава 4. Система жанров в авторской песне 258
4.1. Гомоморфизм системы жанров .; 260
4.2. Баллада в авторской песне. Страшная баллада 271
4.3. Авторская песня и русская анекдотическая традиция 288
4.4. Судьба дидактических жанров 305
4.5. Песенная новеллистика 315
4.6. Признаки романной структуры в авторской песне 349
4.7. Последняя утопия 366
Выводы 373
Глава 5. Авторская песня как неосинтетическое искусство 376
5.1. Театральность в авторской песне 379
5.2. Кинематографичность в авторской песне 407
Выводы 427
Заключение 429
Список использованной литературы 445
Дискография .464
- Звук и знак в искусстве слова
- Авторская песня и советская массовая песня
- Специфика субъекта и адресата
- Баллада в авторской песне. Страшная баллада
Введение к работе
В середине XX века в русской литературе сформировалось своеобразное явление - обширный пласт поэзии, оторвавшейся от бумаги и графического (письменного или печатного) знака и существующей в неразрывном единстве с музыкальным (преимущественно гитарным) сопровождением и исполнительской интерпретацией, за которым закрепилось название «авторская песня». Предпосылкой к тому послужило беспрецедентное развитие информационных технологий (в первую очередь, массовая доступность магнитофонов), следствием которого стало возникновение и широкое распространение художественных текстов, предназначенных для бытования в устной или в аудиовизуальной форме. С тех пор количество таких текстов неуклонно растет, но литературоведение все еще не уделяет им достаточного внимания. Отдельные образцы авторской песни и некоторых других родственных ей явлений (например, рок-поэзии) нередко становятся объектом исследования, изучается творчество конкретных авторов, но вопрос о данном художественном феномене в целом практически не поднимается - этому препятствует сложившаяся традиция.
Традиционно литературой и, соответственно, предметом литературоведения считается написанное с тем, чтобы быть напечатанным. Между тем естественное исходное состояние искусства слова - звук, и возможность сохранять и тиражировать произведение именно в звуке знаменует качественно новый этап в развитии словесного творчества, открывает перед ним многообещающие перспективы. Назрела необходимость расширения предмета литературоведения и сферы применения методов литературоведческого анализа, чем и обусловлена актуальность настоящего исследования.
Понимание авторской песни как поэзии по преимуществу имеет принципиальный характер. Авторскую песню можно рассматривать с различных точек зрения: с музыковедческой (как городская бытовая музыка [ ]), с театроведческой (как «эстрадный неореализм» [ ]), с социальной (как неподцензурная поэзия, разновидность андерграунда [ , с. ] ) и т.д. И все же, несмотря на многообразие возможных аспектов исследования, сегодня можно считать общепризнанным тот факт, что эстетическая сущность авторской песни определяется, прежде всего, ее поэтической доминантой.
Восприятие авторской песни как искусства в первую очередь словесного распространилось и среди работающих в этом направлении поэтов (бардов), и среди критиков, и среди литературоведов, и среди музыковедов. Значение поэтической основы в авторской песне, по-видимому, одним из первых отметил исследователь официальной советской песни А.Н. Сохор: «Успех "менестрелей" процентов на определяется яркими поэтическими образами» [ , с. ]. В году утверждение поэтической сущности авторской песни стало лейтмотивом развернувшейся на страницах еженедельника «Неделя» дискус: сии «Песня - единая и многоликая» [ ]. Позже М. Анчаров, один из участников этой дискуссии, писал: «Менестрельная песня это не музыкальное явление - это музыка со словом. Слово здесь главенствует. Ради слова песня и пишется...»1 [4, с.9]. Ю. Визбор позиционировал себя и своих собратьев «по цеху» как «поэтов-певцов» [ , III, с. ]. «Для меня прежде всего всегда важен был Поэт. Поэт, который исполняет некоторые свои стихи под свою же мелодию» [ , с. ], - настаивал Б. Окуджава. «Авторская песня - явление поэтического ряда, и в этом ее основная ценность» [ , с. ],- вторит ему А. Городницкий.
А. Галич на концертах говорил, что его стихи «только притворяются песня-ми»2, а К.И. Чуковский охарактеризовал его творчество так: «Гитаризованная поэзия!» [ , с. ]. Аналогичные формулировки встречаются у зарубежных исследователей: «Gitarrenlyrik» [ ], «Guitar Poetry» [ ]. Уже совсем недавно С. Рассадин назвал Ю. Кима «русским писателем с гитарой» [ , с. ]. Подробный обзор суждений на эту тему приводит И.А. Соколова [ , с. - ]. Наиболее точным представляется принадлежащее Б. Сарнову определение авторской песни как «новой формы существования российской поэзии» [ , с. ]. Действительно, звучащая нефольклорная поэзия практически не имеет аналогов в европейской литературе последних пяти столетий. Тезис о нефольклорной природе чрезвычайно важен для уяснения сущности авторской песни, поскольку наблюдается стойкая тенденция к ее отождествлению с народной песней [ ]. Основанием для этого служит связь авторской песни с городским фольклором на тематическом уровне (хотя эта связь может быть обнаружена потенциально в любом литературном материале) и на уровне способа бытования - устного, вариативного (до некоторой степени) и анонимного (нередко). Два последних признака относятся, главным образом, к раннему этапу развития авторской песни ( - -е годы), когда передача из уст в уста и по памяти играла существенную роль в ее распространении, качественные записи были сравнительной редкостью, а уточнение текстов и узнавание авторства, как правило, происходило существенно позже знакомства с песней как таковой. Возникает предположение, что механизм появления и закрепления эпитета «авторская» обусловлен психологическим эффектом от узнавания факта существования автора у песен, долгое время считавшихся народными. Полностью отдаю себе отчет в том, что это предположение обречено остаться в области гипотез, поскольку его заведомо невозможно доказать (равно как, впрочем, и опроверг нуть)3. Ведь речь идет не о возникновении термина как историческом факте, обстоятельства которого еще можно как-то отследить по публикациям в прессе - -х годов, по современным воспоминаниям и интервью, но о механизме приживаемости понятия, сегодня уже вообще неподдающемся реконструкции.
Тем не менее, можно констатировать два обстоятельства. Во-первых, термин «авторская песня» давно и прочно утвердился, вытеснив другие, ранее бывшие в ходу наряду с ним как синонимы: самодеятельная, любительская, менестрельная, бардовская, студенческая, молодежная, гитарная и т.д., а также всевозможные их комбинации. Во-вторых, эпитет «авторская» просто в силу своего лексического значения категорически отмежевывает обозначаемое явление от фольклора. „ .
Итак, предмет данного исследования составляет звучащая нефольклорная русская поэзия второй половины XX века, по традиции именуемая авторской песней. Объект исследования составляют эстетическая природа звучащего слова и непрерывно развивающаяся среда его бытования. На сегодняшний день изучение авторской песни именно в таком аспекте особенно актуально.
Первые опыты академического освоения авторской песни относятся к началу -х годов, когда на филологическом факультете МГУ появляются дипломные работы по этой проблематике4. С тех пор опубликовано много исследований, не считая большого количества популярных, критических, публицистических, дискуссионных и проч. публикаций, появлявшихся в прессе, начиная с конца -х годов. Однако, чтобы проследить основные закономерности (в том числе и перекосы!), наметившиеся в изучении авторской песни, нет нужды подробно разбирать всю эту массу научных трудов - достаточно проанализировать ее формально вершинный диссертационный слой. По состоянию на январь-февраль года в России защищено в общей сложности двадцать шесть диссертаций (включая одну, защищенную в Харькове). Пять из этих диссертаций - педагогические, две - искусствоведческие, одна - культурологическая и одна - философская (все - кандидатские). Оставшиеся семнадцать диссертаций - филологические, в том числе две лингвистические, одна по специальности «журналистика» и четырнадцать литературоведческих (двенадцать кандидатских и две докторские). Только в двенадцати диссертациях из двадцати шести, в том числе всего в трех литературоведческих, речь идет именно об авторской песне - хотя бы на уровне формулировки темы. Остальные посвящены отдельно взятому автору, причем, за исключением исследований С.С. Бойко [ ] и Р.Ш. Абельской [ ], одному и тому же - В. Высоцкому. :
Остается прокомментировать три литературоведческие работы собственно об авторской песне. Докторская диссертация А.-И. Жебровской [ ] посвящена весьма специфическому аспекту, составляющему основной научный интерес польского исследователя. Кандидатская диссертация И.А. Соколовой [ ] -исключительно основательное источниковедческое и историко-литературное исследование авторской песни. Что касается диссертации Д.Н. Курилова «Авторская песня как жанр русской поэзии советской эпохи ( - -е гг.)», то она содержит ряд интересных фактических наблюдений, но исходит, на мой взгляд, из неверной теоретической посылки, вынесенной в формулировку темы. С точки зрения литературоведения авторская песня жанром ни в коей мере не является - это слово к ней применяется «не в строгом литературоведческом смысле» [ , с.9; с. ], чаще всего критиками, журналистами и литераторами (в том числе и самими бардами), то есть людьми, не обремененными профессиональной необходимостью соблюдать терминологическую точность. Попытки же литературоведов определить авторскую песню через категорию жанра представляют собой либо анахронизм - -летней давности (когда многое в этом явлении было еще далеко не очевидно)5, либо ошибку. Ибо ни одна наука не - имеет права употреблять собственные термины «не в строгом смысле».
Те же закономерности и тенденции наблюдаются и в сравнительно немногочисленных книжных изданиях, и в зарубежных исследованиях. Среди них также можно обнаружить историко-литературные труды и монографии, посвященные творчеству отдельных авторов. К первой группе относятся книги Ю. Андреева [ ], К. Лебедевой [ ], И. Соколовой [ ]6. Вторая группа включает работы А. Кулагина [ ; ], А. Скобелева и С. Шаулова [ ], Р. Чайковского [ ], Л. Фризмана [ ] и ряда зарубежных исследователей [ ; ; ]. В них так же исторический подход сочетается с исследованиями творчества В. Высоцкого и одиночными работами об А. Галиче и Б. Окуджаве. Исключение составляют сборник эссе Л. Аннинского «Барды» (М, ) и цикл статей В. Новикова в книге «Авторская песня» (М, ). В этих работах речь также идет об отдельных авторах, но их список хотя бы не сводится к трем указанным именам. Аналогичная картина наблюдается и в статейных публикациях. Теоретические исследования среди них крайне немногочисленны, работы о каких-либо бардах, кроме Высоцкого, Галича и Окуджавы, вовсе единичны, да и те в основном не столько литературоведческие, сколько журналистские.
Можно констатировать, что авторская песня как явление русской поэзии, эстетическая сущность которого связана с ориентацией на сохранение и распространение в звуке, до сих пор не получила должного осмысления в качестве третьей, наряду с традиционной «бумажной» литературой и фольклором, формы существования искусства слова, вызванной к жизни информационными технологиями XX века. Более того, подчас даже солидные исследователи, игнорируя специфику авторской песни как звучащей поэзии, упорно пытаются обосновать идею переноса ее на бумагу. Так В.И. Новиков последовательно настаивает на необходимости издавать авторскую песню в книжном виде и, соответственно, читать с бумаги. Характерна его аргументация: вновь и вновь он возвращается к вопросу о праве авторской песни на печатное тиражирование, обусловленном ее поэтическим уровнем, о «песенных текстах, которые можно считать полноценными стихотворениями, подлежащими не только прослушиванию, но и чтению "глазами"», о «песнях-стихотворениях» Б. Окуджавы, которые принадлежат «профессиональной поэзии, письменной литературе», о том, что «поющие поэты не нуждаются в снисхождениях и в скидках. Не только патриархи и лидеры авторской песни,... но и целый ряд менее прославленных мастеров имеет весомое право пребывать в "поэтической рубрике", представать не только перед слушателями, но и перед читателями» [ , с. , ; , с. ].
Не буду останавливаться на очевидном. Ни на том, что большинство песен многое теряет на бумаге (тут даже нет предмета для дискуссии - такое восприятие существует, и с ним нельзя не считаться). Ни на том, что волю авторов, создававших именно песни, следует уважать, хотя для работы исследователей, исполнителей и др. печатный текст необходим, да и тот, кто хочет все это непременно читать, безусловно, имеет такое право. Не представляет особого интереса и то, что В. Высоцкий, А. Галич и некоторые другие барды, не печатавшиеся в Советском Союзе, тосковали по собственной книжке - эти по-человечески понятные переживания никоим образом не характеризуют ни их-произведения, ни их творческую индивидуальность. Принципиальна сама постановка вопроса - прямое увязывание поэтического дарования и мастерства автора, литературной полноценности текста с непременно печатным изданием. Это даже не вопрос личной точки зрения исследователя - над нами до сих пор довлеют стереотипы позапрошлого столетия: «Для русской культуры начала XIX века характерно, как и для большинства культур эпохи письменности, отождествление графической закрепленности с авторитетностью. Все обла дающие высокой общественной ценностью сообщения закрепляются в пись-менной форме» [ , III; с. ]. То есть хорошее должно быть напечатано; все, что не напечатано - плохо; а если хорошо, но не напечатано - значит, имеет место чья-то злая воля, с которой следует бороться, или недоразумение, подлежащее незамедлительному устранению.
Такими стереотипами задан достаточно широкий спектр мнений, иной раз даже взаимоисключающих - от афористичной фразы Д. Самойлова: «Настоящая поэзия не нуждается в гитарной подпорке» [ , с. ] - до цитированных высказываний В. Новикова. В этот же ряд встает и точка зрения В. Кожинова, который, отдавая должное творчеству некоторых бардов, утверждал, что «к собственно поэзии все это отношения не имеет, а существует только в единстве слова, музыки, даже в единстве слова, музыки и артистизма, то есть исполнения» [ , с. ]. Иными словами, не является поэзией именно потому, что звучит. Такая постановка вопроса - вне зависимости от оценочной стороны - существенно ограничивает область приложения литературоведения и в современной ситуации, и, тем более, в перспективе. Авторская песня - одно из первых, но на сегодняшний день уже далеко не единственное проявление общей тен-денции, а именно развития литературных форм в отрыве от бумаги. Можно, апеллируя к пониманию литературы как совокупности написанных текстов, объявить этот круг явлений не-литературой по определению, но это мало что меняет по существу. Дело даже не в невозможности адекватно осмыслить эстетические особенности авторской песни, в том числе и творчества отдельных бардов, без учета ее принципиальной установки на звучание, хотя и эта проблема реально существует. Образовавшаяся «вилка» между традиционным самосознанием литературоведения, с одной стороны, и реальным развитием информационных возможностей и, соответственно, форм словесного творчества, с другой, искусственно ограничивает предмет литературоведческого исследования в условиях натиска более молодых и агрессивных гуманитарных наук.
Примером агрессивности служат хотя бы сборники под общим названием «Экранные искусства и литература», выходившие в издательстве «Наука» в первой половине -х годов. В преамбуле первого из них декларировано противопоставление «подавляющего господства литературы» в XVIII-XIX веках сегодняшнему положению вещей, при котором «несомненно, что традиционная иерархия искусств, сложившаяся в эпоху первенства словесности, отошла в прошлое. Литература более не является безусловным монополистом в сфере художественного повествования. Визуальная, «оптическая культура» кинематографа и телевидения образует сегодня не менее сильный центр притяжения, чем традиционная беллетристика» [ , с.З]. Правда, есть оговорка: «похороны литературы были, по меньшей мере, преждевременными. Ни одно из новых и новейших визуальных искусств не смогло обойтись без опоры на книгу» [ , с.З],- но как-то походя и, главное, в каком контексте! Нетрудно догадаться, что далее отмеченный негатив получает развитие: «На протяжении всего XX века литература по инерции продолжает быть наиболее престижным видом искусства. Однако реальность с этими установками расходится. Литературный этап в истории культуры продолжается до тех пор, пока печатный пласт культуры является определяющим и, следовательно, «потребитель» остается прежде всего читателем» [ , с. ]. Или даже так: «Не секрет, что XIX век в художественной культуре прошел под знаком литературы. .. . Начало XX века (а в некоторых видах творчества - еще и конец XIX в.) ознаменовано откровенно антилитературными тенденциями. Беспредметная живопись, атональная, беспрограммная музыка, театр абсурда - все это стало художественным бунтом против засилья литературных творческих принципов. .. . Сказанное имеет прямое отношение к возникновению кино. "Живая фотография" появилась на свет в пору начинающейся реакции против засилья слова и словесной культуры» [ , с. ]. Подобный тон сам по себе говорит больше, чем любые оговорки насчет сильно преувеличенных слухов о смерти литературы. И это не позиция автора отдельно взятой статьи, а реально существующая в современном искусствоведении тенденция. Однако вернемся к мысли о том, что визуальное искусство все же не обходится «без опоры на книгу», а точнее на некую литературную основу. Фундаментальную связь кинематографа и литературы одним из первых почувствовал, вероятно, С. Шервинский, указавший на то, что кино «есть действие, осуществленное в повествовании» [ , с. ], то есть представляет собой не столько драму, сколько эпос. Мысль о подчиненности кинематографа системе литературных родов укоренилась и в том или ином виде повторяется в искусствоведении. Даже автор наиболее неприязненных цитированных строк признает, что, «если рассматривать эстетические взаимоотношения литературы и кинематографа в самой общей форме, то нельзя не заметить, что все три традиционных рода литературы - эпос, лирика и драма - имеют сферы активного взаимодействия в кино - и, тем самым, в кинодраматургии» [ , с. ]. И это лишь самое очевидное свидетельство того, что новейшим техногенным искусствам никуда не деться от литературы.
И все же невозможно не замечать очевидного: попытки низложения литературы в иерархии искусств (и, соответственно, литературоведения в иерархии гуманитарных наук) кроме самих литературоведов отразить некому, а сделать это необходимо, - на то есть, как минимум, две причины. Во-первых, сохранение собственного авторитета в сегодняшнем мире. Во-вторых, выполнение культурной миссии - поддержания статуса словесной культуры. Последнее особенно актуально. Выдающийся ученый, литературовед и искусствовед, А.В. Михайлов еще в году указал на необходимость «трансгрессии науки о литературе», «непременного ее выхода за пределы обозначаемого в названии самой науки "материала", или "объекта"» [ , с. ]. Изучение «процессов сближения музыки, литературы и изобразительного искусства (графики) в современной культуре» и «движение к комплексному гуманитарному знанию» действительно составляют насущную «потребность современного этапа нашей науки» [ , с. ]. Потому что само по себе появление в солидных научных изданиях оборотов типа «засилье слова» представляет собой довольно гроз ный симптом духовной деградации - в контексте традиционно православной русской культуры это звучит, по меньшей мере, кощунственно.
Подобные веяния проникают даже в литературоведческие издания. Несколько лет назад на страницах «Нового литературного обозрения» утверждалось, что «современные формы литературы (как и культуры в целом) остаются вне внимания и понимания филологов», что филология «оказалась.практически бессильной» по отношению к В. Ерофееву и к М. Жванецкому, и далее следовало резюме: «Не следует думать, что здесь имеет место высокомерие держателей высоких образцов перед кулинарным искусством и развлечением: Гораздо больше в этом простой интеллектуальной вялости или трусости, отсутствия интереса, филологического стародевичества, не позволяющих даже подступиться к материалу подобного рода» [ , с. ]. Оставим в стороне, мягко говоря, сомнительно пристойную форму этого заявления и даже степень его достоверности - например, тезис о бессилии филологии перед Ерофеевым не соответствует действительности. Но вот упоминание в данном контексте имени Жванецкого симптоматично - по отношению к нему все это отчасти справедливо, поскольку он представляет собой явление слова звучащего.
Налицо разрыв между исторически сложившимся представлением о предмете литературоведения и интенсивно меняющимся кругом явлений, которые потенциально могут стать таким объектом. Что практически можно, противопоставить этой тенденции? Разумная альтернатива предполагает последовательное включение в предмет литературоведения произведений, отделившихся от печатного знака. Не важно, будем ли мы распространять на них слово «литература», абстрагировавшись от заложенного в его этимологии значения «буква», или же, настаивая на этом значении, найдем какой-то иной термин («постлитературное состояние словесного творчества», «медиасловес-ность»8, «медиатекст»). Необходимо ввести в научный обиход обширный кор
пус художественных текстов, и даже более того - находящийся в, процессе становления эстетический феномен - произведения, в которых словесный образ включает в себя звуковой и визуальный ряд.
В данном исследовании решается проблема существования третьего, не книжного и не фольклорного, типа словесного творчества - медиасловесности. Под медиасловесностью понимается совокупность медиатекстов - обладающих художественной ценностью произведений, сохраняемых с помощью современных носителей информации не только в виде вербального текста, но во всей совокупности конституирующих смысл аудиовизуальных компонентов (каналов коммуникации), характерных для устной речи. Один из исторически первых феноменов медиасловесности - авторская песня, имеющая на сегодняшний день солидную историю, представленная большим количеством текстов, многочисленными авторами, сложной и разветвленной системой жанров. Все это и превращает ее в благодатный объект научного осмысления. Поэтому цель данного исследования состоит в том, чтобы установить закономерности бытования произведений, отделившихся от бумаги и графического (письменного или печатного) знака; доказать на основе этих закономерностей, что авторская песня, которая ориентирована на сохранение и распространение в звуке, возможное благодаря современным информационным технологиям и носителям информации, представляет собой феномен особой третьей (то есть не книжной и не фольклорной) формы словесного творчества - медиасловесности; и, наконец, изучить эстетические особенности этих произведений. Для достижения поставленной цели решается ряд конкретных задач, а именно:
прослеживается в исторической перспективе влияние изменяющегося соотношения звучащего и графически закрепленного слова на состояние словесного творчества;
выявляется влияние информационных технологий и носителей информации на искусство слова, приведшее в современных условиях к возникновению его нового типа - медиасловесности;
на материале многочисленных произведений авторской песни исследуются имманентные свойства медиасловесности (развитые метатексто-вые связи, повышенная способность к изменчивости, размытость границ художественного произведения, принципиально новое соотношение между черновиком и окончательной редакцией и т.д.);
демонстрируется принципиальное различие эстетической природы авторской песни и современной ей русской песенной поэзии;
выявляются особенности поэтики авторской песни, сближающие ее с «книжной» литературой;
исследуется сформировавшаяся в авторской песне система жанров, гомоморфная литературе и фольклору;
- выявляются признаки неосинтетического искусства в авторской песне. Для решения данных задач применяются следующие методы исследования:
реконструкция динамики соотношения звучащего слова и графического знака на основе суждений поэтов, писателей, мыслителей и исследователей различных эпох - от античности до наших дней; сравнительный анализ текстов (сопоставление авторской песни с произведениями «книжной» поэзии, городским фольклором, традиционной песенной лирикой); анализ жанровой природы и поэтики произведений; сравнительный анализ поэтического текста и произведений аудиовизуальных искусств. Методологической основой диссертации служат: разработанная Ю.М. Лотманом теория культуры как «антиэнтропийного механизма человечества», предназначение которого состоит в вырабатывании, сохранении и накоплении информации, базирующаяся, в свою очередь, на идее Гераклита Эфесского о «самовозрастающем логосе»; теория речевых жанров М.М Бахтина и концепция информационного общества Г.М. Маклюэна.
В ходе исследования обосновываются и выносятся на защиту следующие основные положения, составляющие его научную новизну:
1. Анализ исторической динамики соотношения звука и графического знака в искусстве слова показывает, что под воздействием новых информаци онных технологий среда бытования художественного слова t неуклонно расширяется по принципу «вложенных сфер».
В современной культуре существует третий, альтернативный как традиционной «бумажной» литературе, так и фольклору, тип словесного творчества (медиасловесность), который реализуется в качественно новых видах текстов, бытующих в аудиовизуальной форме и обладающих специфическими свойствами.
Авторская песня представляет собой наиболее значительное в историческом, эстетическом, структурном и количественном плане явление медиасловесности и обладает комплексом свойств, присущих этому новому типу словесного творчества.
По своей эстетической природе авторская песня связана не с современными ей явлениями русской песенной поэзии, а с «книжной» поэзией, с которой последовательно сближается по таким параметрам, как тематическое разнообразие, интеллектуальный уровень, субъектно-объектные отношения, качество тропов, техника стихосложения, развитая система жанров, гомоморфная книжной литературе и фольклору, и т.д.
В авторской песне явно прослеживаются признаки неосинтетического искусства, состоящие в использовании элементов аудиовизуальных искусств для создания поэтического образа.
Научная значимость данного исследования заключается в расширении предмета литературоведения за счет медиасловесности как ранее не выделявшегося типа словесного творчества, во всем комплексе присущих ему свойств: от условий бытования до особенностей поэтики, - а также за счет большого количества текстов, не привлекавших до сих пор внимания исследователей. Это, в свою очередь, обогащает сопредельные сферы гуманитарного знания всем арсеналом методов литературоведческого исследования и, соответственно, укрепляет научный статус последнего.
Звук и знак в искусстве слова
До исторически недавнего времени в распоряжении человечества были только такие информационные технологии, как письменность и книгопечатание. Будучи1 гораздо старше письменности, искусство слова всегда сталкивалось с проблемой сохранения и передачи художественной информации. В фольклоре, например, эту задачу решали выступающие в роли мнемонических приемов повторы и общие места. Письменность позволила сохранять и тиражировать конкретный текст в его уникальности, но искусство слова не может полностью игнорировать естественное состояние своего материала - звук. Поэтому письменность, обеспечив принципиальную возможность сохранения и тиражирования словесно выраженной информации, оказалась недостаточной применительно к художественной литературе, которая не сводится к вербальному тексту. Очевидна недостаточность записанной на бумаге драмы, а также лирики, по природе своей предназначенной для звучания, и, собственно, никогда от него не отрывавшейся [129, с. 108].
Гипотетически можно предположить, что.синкретические звуки, издаваемые человеком в незапамятной древности, с течением времени распались на членораздельную речь и пение - подобные соображения высказывались неоднократно. «Первым языком человека было пение. ... ...а то, что из этого пения, впоследствии усовершенствованного и облагороженного, произошли древнейшая поэзия и музыка, теперь уже доказано многими», - писал Гердер [132, с. 149]. Размышлял над этим предметом и Г.Р. Державин: «Песня родилась вместе с человеком, прежде нежели лепетал, издавал он глас» [140, с.616]. «Наш язык был вначале много музыкальнее, и только впоследствии он стал таким прозаическим, лишился музыкальных тонов. Он стал теперь простым звучанием, звуком... Он должен снова стать пением» [213, с.99], - утверждал Но-валис. А вот XX век: «С момента своего появления на земле люди пользовались естественным орудием голосовых связок и легких, для того чтобы общаться друг с другом не только с помощью речи, но и посредством пения. Можно вообразить, что в первозданном состоянии песня была - и, вероятно, никогда не переставала быть - лишь продолжением слова. Человек пел, чтобы выразить невыразимое - свою радость, горе, чтобы придать ритм своему труду или просто-напросто продолжить молчание, расцветить его внезапно возникшим чувством прекрасного» [285, с. 15]. Или так: «История свидетельствует, что стихотворная речь (равно как и распев, пение) была первоначально единственно возможной речью словесного искусства» [185, с.102]. Художественная литература XX века предоставляет еще более выразительный материал. Пожалуй, никому из русских поэтов не удалось сказать о звучащем слове столько и, главное, так, как Николаю Гумилеву. И орел не взмахивал крылами, Звезды жались в ужасе к луне, Если, точно розовое пламя, Слово проплывало в вышине. Л для низкой жизни были числа, Как домашний подъяремный скот, Потому что все оттенки смысла Умное число передает. Патриарх седой, себе под руку Покоривший и добро и зло, Не решаясь обратиться к звуку, Тростью на песке чертил число. [28, с.342]
Противопоставляя слово и число, Гумилев, как видно из контекста, под числом явно разумеет графический знак, каковым в принципе может быть и буква. Слово же, которым останавливали солнце и разрушали города, которое может проплывать в вышине и, наконец, Слово, Которое было в начале - это Слово, несомненно, звучало, и Гумилев его воспринимает именно как звук. И не только Гумилев. Два выдающихся деятеля англо-католической культуры XX века, Дж. P.P. Толкиен в «Сильмариллионе» [76, с.3-9] и К.С. Льюис в «Хрониках Нарнии» [47, с.58-65], изображают процесс сотворения мира как песнопение, что не противоречит Книге Бытия, первую главу которой красной нитью пронизывает фраза: «И сказал Бог...» Глагол, который на русский язык переводится как «сказал», в оригинале означает именно устное, звучащее слово. В библейской традиции было принято функциональное различение письменного и устного слова: «Во многих современных исследованиях мир древнего Ближнего Востока, включая Танах (Ветхий Завет - Л.Л.), определяется, как мир, в котором господствовало письменное слово, в противоположность античности, где царило слово устное. Столь категорическое противопоставление едва ли оправданно, особенно по отношению к Танаху, в котором присутствуют и взаимодействуют обе формы слова - устная и письменная. ... Изначально и обязательно письменным словом в Танахе признавалось даже в случае его устного происхождения, любое слово, заслуживающее того, чтобы сохраняться в веках...(Это относится, например, к Декалогу. - Л.Л.) Несомненно, изначально письменное происхождение имела вся обширная литература мудрости, хотя в ней нередко наблюдается желание выдавать себя за слово устное, о чем свидетельствует, например, начало кн. Кохелет: «Слова Кохелета, сына Давида, царя в Иерусалиме. Суета сует, сказал Кохелет...» (1,1-2)» [120, с. 190-191].
Психологи считают, что информация, выраженная только вербально, усваивается максимум на двадцать процентов. Лирика ни при каких обстоятельствах не воспринимается как чисто вербальный текст - даже читая ее «про себя», мы все равно мысленно интонируем. Восприятие становится адекватнее, если мы слышим ее - в собственном исполнении или же в чужом (в этом случае важно еще и видеть исполнителя), и возможное музыкальное сопровождение - тоже своего рода катализатор. В принципе лирика, да и вообще поэзия - античная ли, средневековая ли - изначально создавалась для пения, и это факт общеизвестный: «тексты древней и средневековой письменности длительное время остаются ориентированными на прочтение вслух» [210]. О средневековье и эпохе Возрождения Г.М. Маклюэн писал: «Рукопись и первые печатные книги прочитывались вслух, а поэтические произведения пелись или читались нараспев. Ораторское искусство, музыка, литература и рисунок были тесно связаны» [190, с. 180]. Книжная лирика Нового и Новейшего времени, если и не пелась, то все равно звучала - в салонах, гостиных, литературных кафе, на площадях и на стадионах, у костров и на кухнях.
Авторская песня и советская массовая песня
Авторская песня сформировалась и самоопределялась непосредственно на фоне советской массовой песни. Однако сопоставление их - задача деликатная в силу специфической ситуации с изучением массовой песни, недостаточной терминологической определенности и высокого риска сорваться в сравнение на оценочном уровне. Исследования массовой песни представлены лишь отдельными статьями, посвященными частным аспектам ее поэтики [199; 244], а также музыковедческими работами преимущественно 50-60-х годов (самые поздние относятся к началу 80-х). Следует учесть, что даже на фоне общей для того времени идеологизированности гуманитарных наук, исследователи массовой песни находились в особенно жестких тисках - в силу специфики предмета, то есть из-за мощного потенциала песни в смысле воздействия на массы. Поэтому указанные труды представляют интерес, главным образом, в качестве документов эпохи: положительные и отрицательные оценки по свежим следам, а равно и их аргументация, достаточно информативны. Среди фундаментальных современных исследований массовой песни особняком стоит книга Ю.И. Минералова «Так говорила держава: XX век и русская песня» (1995 г.), в которой рассматриваются главным образом исторические и культурологические аспекты явления.
Теперь о терминологии. Нередко применяемые для обозначения одного и того же явления термины «массовая», «советская», «популярная», «официальная» (или «официозная») и даже «эстрадная» песня на самом деле далеко не равнозначны. Термин «советская» неудовлетворителен в силу своей политизированности, а эпитеты «популярная» и «официозная» - в силу оценочно-сти. Более пригоден к употреблению термин «официальная». Определение же «эстрадная» представляет собой характеристику по совершенно иному основанию, поскольку эстрада - это, прежде всего, вид исполнительского искусства. В известном смысле любая песня может оказаться эстрадной.
В дальнейшем термином «советская массовая» обозначается песня, адресованная максимально широкому кругу людей (в пределе - вообще всем), официально признанная советской идеологической машиной («залитован-ная») и представляющая собой элемент массовой культуры как «совокупности текстов (в широком семиотическом смысле), предназначенных для восприятия массовым сознанием, то есть типом сознания, ориентированным на закон тождества воспринимаемого искусства и своих стереотипов, существующих сознательно или подсознательно. ... ...такой подход позволяет снять противопоставление «хороший - дурной», почти всегда действенное, когда речь идет о масскульте и «высоком» искусстве» [112, с.4-5]. Последнее существенно. Оппозиция массовой и авторской песни ни в коей мере не проходит по линии «хорошо - плохо», и оценочность совершенно неуместна.
Существование такой оппозиции на всех уровнях - от идеологии до поэтики - очевидно и общеизвестно. Однако противоречия между массовой и авторской песней не всегда антагонистические - они вполне могут быть и комплиментарными. Свидетельства взаимодействия и даже взаимного дополнения двух линий песенной культуры столь же разнообразны, сколь многочисленны и точки их пересечения. Рассмотрению подлежат три аспекта этого взаимодействия: влияние массовой песни на авторскую песню; влияние авторской песни на массовую песню; общие тенденции в их развитии.
Говорить о влиянии массовой песни на авторскую песню в полном смысле слова было бы преувеличением. Тем не менее, авторская песня формировалась и развивалась не в безвоздушном пространстве и не могла полностью абстрагироваться от доминирующего направления песенной культуры - одной из точек отсчета в ее самоопределении. Самый очевидный способ проникновения элементов массовой песни в авторскую - разнообразные цитаты. Они могут быть функциональными, когда знакомые всем строчки вводятся в песню в качестве характеристики ситуации или персонажа. К такому цитированию нередко прибегал А. Галич. Цитата оказывается единственной строкой, без изменений повторяющейся в каждом из четырех куплетов. Более того, она усилена упоминанием о смехе (тоже четыре раза) и о доминошниках (три), также перекочевавших в песню Галича из первоисточника. Таким образом расхожая мелодия - характерная примета времени - связывает воедино разноголосый гомон толпы. Еще один пример функционального цитирования сразу нескольких массовых песен встречается в «Балладе о чистых руках» (1968 год), обладающей всеми признаками высокой сатиры. Синтаксически цитата включена в авторский текст, а вот из строфы выпадает. При исполнении это особенно бросается в глаза, поскольку цитируется не только вербальная, но и музыкальная строка. Вилка между синтаксическим единством и нарушением целостности стиха и мелодии подчеркивает двойственность изображенной ситуации - благостной вечеринки, участники которой не вызывают у слушателя ничего, кроме отвращения. Сама цитата в этом случае звучит так, как она, по-видимому, звучала в первоисточнике - во всяком случае, она вложена в уста персонажей, которые и должны петь ее вполне искренне, с душой. Здесь сама ситуация не располагает к пению гимнов, и не случайно цитата, введенная как бы от автора, в виде несобственно-прямой речи, наполняется мрачной иронией. Одна и та же строка в первом случае цитируется сугубо функционально, а во втором обретает пародийный оттенок.
Невозможно не упомянуть об одной любопытной тенденции, наметившейся со временем: барды «младшего» поколения начинают использовать массовую песню как средство осмысления советского периода отечественной истории. Самый яркий пример - песня П. Кошелева (музыка) и Т. Кибирова (стихи) «Спойте песню мне, братья Покрассы». Она представляет собой развернутую картину советской действительности, созданную с помощью концентрированных до степени центона [93, с.364] цитат и реминисценций преимущественно из песен 30-х годов, "оттененных фольклорными текстами («Ванинский порт») и образцами книжной поэзии (вплоть до О. Мандельштама). Цитирование в этом случае, безусловно, иронично - историческая панорама с помощью песен создается как бы от противного, «они остро контрастируют своим мажорным звучанием с жестокой реальностью» [146, с.244].
Специфика субъекта и адресата
Полемизируя с Б.М. Эйхенбаумом о природе напевности в стихотворении А.С. Пушкина «Цветок», И.Б. Роднянская писала, что оно написано «не совсем "от себя", это, так сказать, "анонимная" лирика, облик лирического героя, в задумчивости рассматривающего засохший цветок, не индивидуален, это не Пушкин (вернее, не его художественный двойник), а каждый, любой. Так было принято думать и чувствовать» [233, с.225]. Роднянская утверждала, что формальные признаки напевности (по Эйхенбауму) представляют собой всего лишь один из элементов системы, в которую на равных входят и содержательные особенности - в частности, то, что она определила как «песенный, "романсный" аноним» [233, с.226]. Подобная анонимность абсолютно нехарактерна для авторской песни, в которой идет постоянный отбор своего слушателя, предполагающий доверительное общение одной уникальной личности с другой. Вследствие этого авторская песня тяготеет к совершенно не свойственной массовой песне индивидуализации. Все это в целом присуще скорее книжной лирике, нежели песенной.
Песня как таковая по идее не существует вне массовости, поэтому ее субъект обычно усредненный, безликий, безразмерный. На его место легко может подставить себя любой поющий или слушающий. Идеология ни при чем - то же самое наблюдается и в классическом романсе. С точки зрения индивидуализации, наполненности конкретным смыслом, «мы» в строках Бориса Корнилова: «Нас утро встречает прохладой, // Нас ветром встречает река» [168, с. 111], - и «мы», например, в романсах на стихи Е. Дитерихс: «Снился мне сад в подвенечном уборе, // В этом саду мы с тобою вдвоем...» [61, II, с.372] - или П. Козлова: «Глядя на луч пурпурного заката, // Стояли мы на берегу Невы» [61, II, с.259], - совершенно идентичны. Это относится и к взятым по отдельности «я», «ты», а также к словам типа «друг» (нежный, милый, сердечный и проч.), которые могут быть не только безразмерными, но и бесполыми. Авторская же песня тяготеет к максимальной, характерной более для книжной, нежели для песенной лирики степени индивидуализации и субъекта обращения, и его адресата, и вообще содержания. «Милая» в одноименном романсе С. Герделя: «Милая, Ты услышь меня, // Под окном стою Я с гитарою!» [66, с.92] - и в «Подмосковных вечерах»: «Что ж ты, милая, смотришь искоса, // Низко голову наклоня» [86, с.264], - в равной степени представляют собой шаблон, матрицу, в которую вписывается любая возлюбленная любого героя. «Милая моя, солнышко лесное» Юрия Визбора уже гораздо индивиду-альнее, ибо запечатленный в песне момент - конец турпохода, который случайно свел и развел незнакомых людей, - может примерить на себя далеко не каждый. В принципе мимолетная встреча и неизбежно следующая за ней разлука в песенно-романсовой поэтической традиции - инвариант, почти «бродячий сюжет», признаки которого обнаруживаются даже в таких суперклассических эталонных произведениях, как «Я помню чудное мгновенье...» и «Средь шумного бала...» Эта «милая» уникальна. Ассоциации и воспоминания автора настолько личные, индивидуальные, что, оставляя возможность созерцания со стороны, ч исключают «примерку на себя». К тому же Визбор отчетливо и явно сознательно отгораживается от таких попыток настойчиво звучащей темой Собственного Дома как самой надежной нравственной категории. Или другой пример - через аналогию с репертуаром М. Бернеса, которого многие основоположники авторской песни считают своим предшественником из-за задушевной интонации и особенности песен как таковых. С поправкой на то, что одна песня о войне, а другая - о мирном времени, нетрудно заметить сходство образного ряда. И все-таки - почти неуловимо -стихи Визбора определеннее. Может быть, за счет одной детали: не вообще «у детской кроватки», а - «качать всю ночь у колыбели дочь». То есть речь идет о конкретной паре, у которой именно дочь, совсем маленькая («детская кроватка» допускает ребенка любого возраста, а колыбель - только младенца) и, по-видимому, единственная, - иначе сказано было бы как-то по-другому. На всякий случай подчеркну: ни одно из проведенных сравнений не несет качественной оценки. Но бывает, что без нее никак не обойтись. В середине 90-х взыскательным слушателям набил оскомину хит Ф. Киркорова «Зайка моя», состоящий из сплошных противопоставлений «я + предикат» и «ты + предикат». У Визбора в четырех куплетах рефрен при полном синтаксическом параллелизме всякий раз меняет лексическое наполнение: «ты мой остров - я твой Робинзон», «ты мой лагерь - я твой арестант», и, наконец, трогательное «Ты мой зайка, дружок, ты мой зайка, // Ты мой зайка, - я дед твой Мазай». Так маркируется движение лирического сюжета - постепенное, с драматическими поворотами, приближение друг к другу, развитие отношений и постижение их - от некоторой остраненности через обострение интереса и конфликт к предельной нежности. Все это сугубо индивидуально и требует от слушателя сопереживания, не говоря уже о способности к литературным ассоциациям хотя бы в пределах начальной школы. Некрасовская аллюзия восполняет лексическое значение заглавия: «зайка» - не только сентиментальное обращение, но и заяц как таковой - ушастый, мокрый, беспомощный, дрожащий от холода и страха - которого нужно защитить от опасности, обогреть в добрых руках. «Попсовая» же версия допускает безболезненную замену обращения практически на что угодно - хотя бы на «киска моя» (а равно «птичка», «рыбка», «мышка», «Милка», «Зорька» или почти любое женское имя - лишь бы укладывалось в размер). Это нагромождение слов неизбежно при переводе штучного произведения в ширпотреб - перекидывать мячик по принципу «я - X, ты - Y» можно до бесконечности, причем не требуется даже смысла, не говоря уже об индивидуальности. Вариант: «Ты - Пугачева, я - Киркоров», - ничего не меняет, так как в данном случае это не имена конкретных людей, а просто знаки масскультуры.
Итак, субъект и адресат авторской песни допускают сколь угодно высокую степень конкретности и индивидуальности, что идет вразрез практически со всеми бытующими в русской культуре песенными традициями и сближает ее с книжной или высокой лирикой. Этот достигается не только за счет описания конкретных жизненных ситуаций и индивидуальных переживаний. Один из ярких примеров создания того же эффекта другими средствами - географические реалии, место действия.
Баллада в авторской песне. Страшная баллада
В XIX веке классические лиро-эпические жанры русского фольклора -баллада и историческая песня - разрушаются, перерождаясь в лирическую песню, эпическое же начало в них подвергается неотвратимой эрозии. В дальнейшем это процесс продолжается, охватывая все новый и новый материал [212]. В авторской же песне баллада, напротив, чрезвычайно популярна и не разрушается даже в процессе бытования. Исходя из самых общих признаков литературной баллады: сюжетности и повествовательности в сочетании с обязательным драматическим элементом (хотя бы в простейшей форме минимально выраженного диалога), - балладами можно считать такое число произведений, что границы применения термина расширяются почти до утраты им смысла. Кстати, иногда именно такой подход и наблюдается - например, в публикациях, посвященных творчеству А. Галича [234, с.204-205]. Тем не менее, заслуживает внимания развитие конкретных классических разновидностей балладного жанра и, в частности, страшной баллады. По-видимому, одним из первых образцов страшной баллады в авторской песне можно считать «Ночной разговор» Булата Окуджавы. Это сравнительно маленькая песня -всего шестнадцать стихов, из которых первые двенадцать представляют собой диалог, сам по себе не достаточный для того, чтобы рассматривать ее как балладу. Фонарщик тот спит, моя радость... А я ни при чем. [58, с. 129] Буквально все таинственно и непонятно в этом фантастическом мире, где гора - Синяя, а река - Красная (по идее, не только в реальном, но и в сказочном пространстве должно быть наоборот). Таинственен сам странник, у которого и конь притомился, и башмаки стоптались, причем складывается впечатление, что происходит это не последовательно (так было бы еще понятно), а одновременно. Еще загадочнее голос, отвечающий страннику, - этакий незадачливый демиург, который знает ответы, но ничем не может помочь, вроде бы доброжелательный, но позволяющий себе какие почти бюрократические отговорки. Наконец, совершенно непонятно, какой из голосов соотносится с авторским (если, конечно, хоть какой-то соотносится). В принципе из двух «Я» - вопрошающего и отвечающего - первое преобладает как количественно, так и в качестве инициатора диалога, который поначалу воспринимается как бы с его точки зрения. Два более или менее равноправных «Я» уступают место четко противопоставленным первому и третьему лицам, отвечающий превращается в рассказчика, и его точка зрения становится доминирующей. Причем в первом стихе этой строфы заключено эпическое начало, а втором - «лирическое отступление». А теперь вернемся к сделанной выше оговорке насчет третьей строфы - не исключено, что именно во втором ее стихе в диалог впервые вторгается повествование: «Сто лет подпираю я небо ночное плечом...» Здесь начинается область чистой интерпретации. Принадлежность этой строки к реплике странника или к повествованию рассказчика не дифференцируется ни графически, с помощью знаков препинания, ни в авторской интонации (вообще исполнение Окуджавы, в отличие, например, от исполнения Высоцкого, Кима, Галича, далеко не всегда подобных случаях может служить смыс-лоразличительным критерием). Кому же принадлежит это «Я»? Смысл этой строки предполагает неподвижность, которую трудно увязать с путником. Хотя в принципе все возможно - если он и так уже оказался одновременно всадником и пешеходом, то в слиянии странствия и неподвижности можно усмотреть жутковатый поэтический образ, вполне уместный в страшной балладе. И все же более вероятно, что это первое лицо рассказчика, предстающего своего рода атлантом - всевидящим, но беспомощным. И от этого ситуация слепого и бессмысленного движения - во тьме без пути, без цели, без сил и без поддержки - не становится менее страшной.
Этот анализ «Ночного разговора» в сольном авторском исполнении. Но следует учитывать и то, что в конце 60-х - начале 70-х годов в одном из спектаклей театра «Современник» ее пел смешанный дуэт - мужчина (вопрошающий) и женщина (отвечающая). Именно ее так поют Татьяна и Сергей Никитины. При такой трактовке голос отвечающего вне зависимости от пола остается голосом фантастического партнера. С недоступной человеку вышины обозревает он погруженный во мрак мир, в котором затерялся странник. Предположив, что этот партнер - женщина, мы увидим довольно опасную фигуру - русалку, сирену, Лорелею... Обольстительницу, завлекающую странника к таинственной Синей горе на Красной реке, заманившую его ложным путеводным знаком - так и не загоревшимся ясным огнем, да еще легкомысленно ссылающуюся на мифического фонарщика. Однако в этом случае последняя строфа звучит особенно драматично: «И снова он едет один без дороги во тьму. // Куда же он едет, ведь ночь подступает к глазам!..» [58, с. 129]. Произнесенные голосом женщины, эти слова оказываются не констатацией некоего печального факта, как если бы их говорил мужчина, а криком раскаявшейся души. И следующая ее реплика («Ты что потерял, моя радость?») в этом случае - не просто вопрос, но отчаянная и тщетная попытка остановить, удержать, уберечь. Понятая таким образом, баллада обретает дополнительное измерение, как это вообще свойственно авторской песне, предполагающей варианты исполнительских интерпретаций.
При изучении страшной баллады традиционно возникает вопрос о природе ужасного. Специфические закономерности прослеживаются в творчестве А. Галича и В. Высоцкого, у которых этот жанр представлен особенно богато. К страшным балладам Галича я отношу «Королеву материка», «Новогоднюю фантасмагорию», «Ночной дозор», «Ночной разговор в вагоне-ресторане» (четвертую главу поэмы «Размышления о бегунах на длинные дистанции» -вариант с репликой статуи) и «Номера» (вариант названия: «Песня о телефонах»). Нетрудно заметить, что в двух первых произведениях ужас коренится в реальности, что вообще-то нехарактерно, так как непременным атрибутом страшной баллады считается элемент таинственности, мистики. Тем не менее, ужас в этих песнях недвусмыслен и безусловен.
Относительно «Королевы материка» Галич высказался вполне определенно, не только назвав жанр, но и указав на его происхождение: «...мне всегда нравился жанр такой готической баллады, страшной баллады, которую писал в русской поэзии только Василий Андреевич Жуковский - «Громобой», «Ундина» и так далее. А потом ее больше не повторяли, а мне хотелось написать такую страшную балладу» [20, с.339]. Носителем ужаса в «Королеве материка» оказывается природная стихия - мелкая мерзость, белая вошь - обретающая в собирательном образе Белой Вши вселенский масштаб - предвеч-ность: «Но.пришла она первой в эти края // И последней оставит их...» [20, с.340] - и космичность «Навсегда крестом над Млечным Путем // Протянется Вшивый Путь!» [20, с. 341].