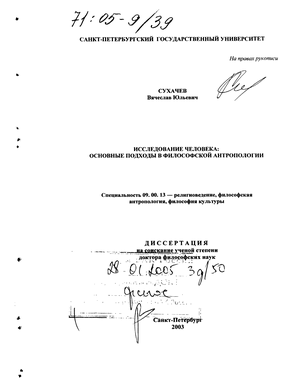Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Понятийная и тематическая экспозиция проблемы человека в философии:Я, мышление, бытие, или тезис Декарта 49
1. Проблемы декартовского сценария как постановки проблемы связанности мышления и человека 50
2. Анализ cogito как поиска определенности Я 53
2.1. Сомнение 56
2.2. Критика репрезентативного мышления 69
2.3. Приближение к безумию 74
2.4. Ясность 82
2.5. Воля 84
2.6. Интенсивность 85
2.7. Время 89
2.8. Субстанция 92
2.9. Бытие, sum 95
2.10. Определение человека 99
3. Телесная изнанка cogito 107
4. Страсти как связующее звено между cogito и телом 114
Итоги 119
Проблемы 120
Глава II. Конституирование образа человека в трансцендентальной философии 121
5. Основные проблемы, персонажи, темы трансцендентального сценария 121
6. Своеобразие трансцендентальной артикуляция концептуальной связанности мышления и бытия 126
6.1. Интенциональность 130
6.2. Тематизация 135
6.3. Седиментация 138
6.4. Институции действительности мышления 141
7. Временные разметки и генезис Я 146
8. Учреждение идентичности Я в действительности мышления 154
8.1. Тождество и аналитические суждения 155
8.2. Zugleichsein 156
8.3. Переход от аналитического к синтетическому 157
8.4. Синтез множественности и синтетические суждения 160
9. Трансформация Чужого в Другого в процессе учреждения интерсубъективности 163
9.1. Условия возможности учреждения интерсубъективности 166
9.1.1. Первый уровень конституирования интерсубъективности: телесные и временные разметки Другого 172
9.1.1.1. Телесность и конституирование пространства 173
9.1.1.2. Конституирование «временного сообщества» 176
9.1.2. Второй уровень: интенциональное сообщество 178
9.2. «Чужой» в пределах тождества 182
9.3. Кантовская версия конституирования сообществ 185
10. Некоторые концептуальные итоги разворачивания трансцендентального сценария 189
Глава III. Сущность человека и опыт мышления в онтологическом сценарии 192
11. Проблематизация трансцендентального сценария и смещение аналитики 192
12. Поиски бытийного эквивалента трансцендентального Я 198
12.1. Основание действительности мышления 199
12.2. Я в акте онтического полагания и типы человека 204
12.3. Интеллектуальное созерцание и конструирование образа Я 211
12.4. Инстанция не-Я или бытие Другого 214
12.5. Единая воля как абсолютный субъект 218
13. Онтологические инстанции философского сознания 220
13.1. Тезис Парменида и стратегии «мыслящего» 222
13.2. «Физиология» и конституирование Я 226
13.3. «Онтологический человек» в онтологическом ландшафте 231
14. Проблематизация временной формы как проблематизация сознания 238
15. Время как История 250
15.1 Учреждение временности в гегелевской "Феноменологии Духа...250
15.2 Прошлое, настоящее и будущее в онтологических сценариях 256
15.2.1 Антропологические сценарии и временность 262
15.2.2. Деструкция онтологии «современности» 264
15.2.3. Эрозия временности и исчезновение инстанции Другого 269
16. Идентичность Я и Другой 275
16.1. Другой в феноменальности сознания и действительность признания 281
16.2. Опыт самосознания и практики признания 286
Итоги 292
Глава IV. Концептуальные основания семиотического сценария аналитики мышления и человека 293
17. Концептуальные смещения как условия возможности метафизики.297
17.1. Смерть Абсолюта как концептуальное основание введения семиотической аналитики 298
17.2. Феноменализация морали 300
17.3. Распад иерархии и пришествие тождества 302
17.4. Критика ценности здесь-бытия 307
17.5. Критика ценности морали 309
17.6. Критика ценности истины 312
18. Связь философии сознания и онтологии в семиотической размерности 316
18.1. Метафизический сценарий и тематизация «мыслящего» 322
18.1.1. «Стоянки мысли» 323
18.1.2. Эйдосы мышления 325
18.1.3. Мышление как интенсивность 329
18.1.4. Тело "парменидовско-аристотелевского человека" и самодостаточность 331
18.1.5. Топосы тождества мысли и бытия 333
18.2. Семиотичность мышление о бытии 336
18.2.1. Тело и сема 340
18.2.2. Хора 343
18.2.3. Двойная трансценденция 349
18.2.4. Символ 352
18.2.4.1. Структура символического 354
18.2.4.2. Символическое истолкование онтологии 356
18.2.4.3. Экзистенциально-онтические аспекты символического 358
18.3 Десимволизация и его эффекты в интерпретации феноменальности человека 361
Итоги 375
Заключение 379
Библиография 381
- Сомнение
- Определение человека
- Основные проблемы, персонажи, темы трансцендентального сценария
- «Онтологический человек» в онтологическом ландшафте
Введение к работе
Философская антропология как тематизация «человека» в опыте философского мышления
Актуальность темы исследования.
Философская антропология не принадлежит к «древним» способам философского мышления, обретая более-менее отчетливый концептуаль ный и институциональный статус во втором десятилетии XX века. Однако облик этой интеллектуальной инициативы постоянно обновляется и происходит достаточно интенсивное встраивание ее в традиционную философскую проблематику. Сегодня с уверенностью можно сказать, что человек - это тема, которая не сходит со страниц философских текстов, и в то же время тема человека в философии последнего столетия имеет какую-то странную судьбу, - с одной стороны, все больше и больше призывов к рациональности поведения, а, с другой, - все меньше и меньше остается места для разворачивания опыта мышления. При этом вытеснение мышления сопровождается серьезными и часто необратимыми трансформациями самого поля условий возможности когитального акта. Во-первых, само разворачивание мышления уже больше не подразумевает Я (а тем самым и участия человеческого существа), во-вторых, поверхность сознания неудержимо размывается натисками бессознательного, и, наконец, телесность Я как индикация его здесь-бытия разрывается работой самого разного рода трансиндивидуальных устройств. В то же время само существо мышления в модусе сознания как «сознания о ...» теряет свою действенность и действительность: истончаются и исчезают границы все между реальным и сюрреальным. За онтологичностью сознания как «мировоззрением» все отчетливее просматриваются развертки желания, воли, власти, и все ощутимее становится подмена логики сознания логикой акционизма.
Явно неустойчивой, эрозирующей предстает инстанция субъекта сознания которое, в свою очередь, все более сливается с дискурсом бессознательного, тела. Однако подобная фамильярность с мышлением всегда обходится дорого и в первую очередь для самой философии. В своей концептуальной экспрессивности философская антропология всегда является собственно философским мышлением, озаботившимся тематизацией феноменальности Я, человека. При этом уместен и естественен вопрос о необходимости и характере этой взаимосвязанности. Вполне очевидно, что, мы имеем дело с двумя различающимися доменами событий. И совершенно на поверхности лежит то обстоятельство, что весь сюжет «человека», без которого сегодня трудно представить философские штудии, становится своего рода оптическим, а не только эпистемическим, императивом. Несколько глубже про- сматривается другая мотивация: к размышлениям о «человеке» присоеди v няется размышление о матрице тождества, или прочтение различия через тождества, как истоке новоевропейской цивилизационнои матрицы.
Философия - всегда когитальная, интеллектуальная авантюра, заставляющая обратиться к такому типу мышления, который свои скрепы или формы связанности обретает за пределами отдельного человеческого существа, но который в то же самое время позволяет исполнить императив «своего» мышления, мышления Я. Эта двойственность философского опыта придает мышлению оттенок парадокса, что, впрочем, вполне естественно для философии, если вспомнить утверждение Аристотеля, что «и теперь и прежде удивление побуждает людей философствовать1», и одновременно это - требование встать по ту сторону здравого смысла. Но само удивле-ниє, по словам Декарта, вызывается «только редкими вещами» , правда, тогда следует признать, что философия имеет дело со своего рода редкостью мышления, мысли, смысла, да и сама философия - дело редкое. Поэтому можно сказать, что редкая единичность является ее тематической заботой, в которой открывается сингулярность «редкой вещи», сингуляр ность мысли и сингулярность самого noun а, мыслящего. При этом, обращаясь к тематизации феноменальности человека стоит принять во внимание, может быть, возвращаясь к Диогену, а насколько «человек» является редкой вещью? Не обстоит ли все иначе, и человек, наоборот, суть массовое, типовое существо как раз в самой своей сути? Но заботой философии является не это серийное существо, а как раз сингулярность события человека, которое взрывает серии, устойчивые тождества, ведет к «различиям без позитивностей», открывая новые регионы бытия, представая его симптомом, или точнее, семой. С другой стороны, вхождение этого представления в мысль рвет привычную логическую последовательность, непрерывность смысла, отвергает принятые основания. Философия как особый тип мышления, не имеющий эквивалентов в каких-либо иных зонах человеческого мира, состоялась именно как попытка тематизации связанности человеческого и нечеловеческого. Поэтому «мыслящий», noun, оказывается перед вызовом «возвышения», самопревосхождения себя, открывая возможность нового Я.
Итак, есть два персонажа, мышление и «человек». И стоит отметить, что это уже не просто сосуществование, а сосуществование с явно трагическим привкусом. Дело в том, что неизбежно возникает вопрос: «Чем должна заплатить философия, втянувшись в тематизацию человека, допустив человека к себе?» Обычно вопрос звучит таким образом: «Насколько философия является соразмерной человеку?» Однако следовало бы этот вопрос несколько перевернуть: «Насколько человек может выступить темой философского мышления?» «Каковы последствия подобной тематизации именно для философии?» При этом «человек» стремится помыкать мышлением, требует от него послушно перенять его пример, слиться со здравым смыслом, и философское мышление в присутствии «человека» теряется, и эта склонность к здравому смыслу - жест философии, который не совсем ей идет. Однако, храня свою базовую интенцию переступання через здравый смысл, обыденность, философский опыт мстительно сторонится «человека», и за этим стоит исконная неприемлемость и брезгливость философии к «человеческому, слишком человеческому». Конечно, естественен вопрос о том, насколько «человеку» необходима философия. Потому, фактически, «человек» предстает как провал в мышлении, а впрочем, и провал самого мышления.
Правда, как только мы заводим речь о философии, то мгновенно оказываемся перед лицом расходящихся и часто принципиально отказывающих друг другу в легитимности интеллектуальных сценариев, уверяющих при этом, что они вообще не имеют никаких точек касания. Конечно, самый естественный ход в этой ситуации конфликта гетерогенных философских ориентации - остановиться на какой-либо одной из них и использовать ее в качестве органона.
Однако за каждым из этих сценариев (трансцендентальным, онтологическим, семиотическим, - воспользуемся такой несколько огрубленной классификацией) маячит образ человека, собранного определенными концептуальными трансформациями - noun, трансцендентальное Я, личность, индивид, «конкретный живой субъект» и т.п. Конечно, следует быть осмотрительным, если не сказать, острожным в концептуальной артикуляции феноменальности человека, интонировать каждую мысль так, чтобы обрела явность не только интенциональная определенность тематизации, но и тип интенсивности мысли, сопровождающий процедуру тематизации. Поэтому аналитика неизбежно втягивается в различение тех страт, на которых тот или иной тип анализа обретает легитимность, иными словами, речь идет о выявлении порогов, лакун, разрывов, из которых и складывается определенная концептуальная фигуративность и мышления, и человека. Обращение к аналитике мышления означает не извлечение следствий из некой априорной концепции человека, а скорее, обратное, - стремление проникнуть через мышление в событийность человека. Если при этом выпадает удача определить и выявить те наиболее интенсивные феноменальные ряды событий, которые мы с достаточной степенью условности именуем нуем «человеком», понять их, то это неизбежно произойдет не в какой-либо априорной чистой форме «человека», но в пересечении измерений, из которых складывается (связывается) его бытие. Естественно, возникает и опасность, и соблазн того, что мы все время будем говорить о чем угодно, но только не о «человеке».
Поэтому следует определиться именно в со-бытии, в котором отчетливо проявляется связанность человека и мышления, понимая при этом, что Я в этой ситуации не совпадает и не включает мышление в себя как таковое, что проекция Я в размерность мышления ни в коем случае не отменяет, не преодолевает зазор между мыслящим Я и мышлением, что всегда остается какое-то мельчайшее несоответствие, несовпадение. И было бы совсем некорректно, говорить об их тождестве, - более точным было бы, вероятно, понятие подобия, сходства, или, еще точнее, схождения, - мыслящий, ноун, не вос-производит мышление, - он занят тем, что Сократ называл майевтикой, - вспомоществованием рождению смысла, мысли. Тогда и мышление можно прочитать не на кодах «продуктивности-репродуктивности», а как генезис, как поэзис в древнегреческом смысле этого термина3. Мышление рождается в акте связанности Я с трансцендентальными структурностями. Правда, как только мы принимаем этот тезис, то тотчас оказываемся перед целым рядом проблем.
Для того чтобы хоть каким-то образом определиться в операциях те-матизации, вначале стоит попытаться разобраться условиях тематизации связанности «мышления» и «человека» в философском опыте. Это принуждает помыслить мышление на основе «человеческого», пусть даже «слишком человеческого» и, тем самым, поставить кантовский вопрос: «что является условием возможности связанности человека и мышления?» Но постановка подобного вопроса предполагает выход за пределы мышления, человека и их связанности для того, чтобы осуществить своего рода трансцендентальное понимание, позволяющее осуществить схватывание в семиотической размерности диссеминации, рассеивания феноменальности и мышления, и человека.
И начнем с собственно тех условий возможности такой процедуры, которая укоренена в самом философском поле мышления. Понятно, что чисто эмпирически феноменальность человека рассеяна в различных топо-сах и различных измерениях, не предполагая никакой единой привилегированной позиции, которая могла бы гарантировать некое эпистемическое единство знания об этой феноменальности. И ситуация усугубляется тем, что эмпирическим условием тематизации является не столько множественность «образов человека», неустанно продуцируемая самыми разнообразными институциями, практиками и т.п., а как тот регион бытия, в котором раскрывает себя именно принципиально неопределенное и неопределяемое существо «человек»4.
Теоретический парадокс состоит в том, что философия вынуждена каким-то образом определить это «неопределенное существо», по своей сути не поддающееся определению. Однако и в философии, и в философской антропологии, в частности, нас интересует не столько человек как феномен, получающий свое существование в мире, сколько как понятие, которое способно обрести свою отчетливость в опыте мышления. И это связано с тем, что философские понятия предстают как трансцендентальные образования, а потому для нас становится значимым не образ человека или мышления, а «человек» и «мышление» как смысловое событие, событие в поле смысла. Поэтому своего рода принципиальным условием смещения в размерность смысла становится отказ от во-ображения5, отклонение бесчисленного количества «образов» предлагаемых наукой, культурой различными зонами социальности, повседневностью и т.п., благодаря чему и мышление, и человеческое существо оказываются в поле имманентности, где каждое из них оказывается на своем «месте», вступая в сложные и неоднозначные типы связанности. Совершенно невозможно предугадать в отношении того, что мы называем «связанностью», в какой комбинации различия и связи феноменальности человека сложатся с различиями мышления. Скорее всего, было бы разумно утверждать, что эта связанность ни эпистемологически, ни онтологически, ни даже прагматически немотиви-рована, то есть произвольна по отношению и к формациям мышления, и к феноменальности человека.
Состояние и степень разработанности проблемы
Сложность самой феноменальности человеческого существования привела к тому, что попытки его тематизации разворачиваются в весьма широком концептуальном и методологическом диапазоне: во-первых, и это на первый взгляд наиболее очевидная версия, - прочтение человека через традицию, которую связывают с философией сознания: «человек» - это всегда сознание, разум, самосознание, мышление и даже бессознательное, но все же мышление. Во-вторых, своего рода перевернутая концептуальная матрица, ставящая в центр тело, «материальность», благодаря чему декларируется производность сознания, или же работу совершенно неразложимых формаций (образований), однако способных генерировать сознание на той или иной редуктивной основе. В-третьих, в аналитике собственно теоретической философии, занятой категориями, принципами, системами и т.п., человек стал делом «факультативным», если не сказать, никчемным. В-четвертых, предпринимаются попытки связать эту никчемность человека со значимостью морального поступка, морального сознания, однако это уже проблема, плохо разрешимая в любой из приведенных версий. И, наконец, то, на что мы можем ориентировать акт философского мышления так это собственно трансцендентальное исследование самой попытки помыслить человека.
Рассмотрение человеческого существа как homo rationales, как обретающего свою суть в размерности мышления связано с трансцендентальной традицией в философии, которая представляет наиболее разработанную в методологическом и понятийном плане философию сознания.
Сам принцип трансцендентализма, акцентируя исследования на условиях возможности опыта сознания, открывает достаточно богатые тематические горизонты. Уже Кант предлагает такое рассмотрение человеческого существования, которое простирается от опыта познания до «чувства жизни». Развитие этой теоретической позиции с достаточно явным обращением к феноменальности человека представлено в работах Б. Вальден-фельса, Х.-Г. Гадамера, А. Гелена, Э. Гуссерля, Э. Кассирера, Э. Ласка, М. Мерло-Понти, Моханти, Г. Плеснера, Ж.-П. Сартра, О. Финка, М. Хайдег-гера, М. Шелера. Анализ трансцендентальной традиции, захватывающий различные философско-антропологические аспекты, присутствует и в отечественной философской мысли (Ю.М. Бородай, 3. Какабадзе, В.В. Кали-ниченко, М.А. Киссель, М.К. Мамардашвили, Б.В. Марков, А.А. Молчанов, Ю.В. Перов, Я.А. Слинин, А.Черняков и др.).
Онтологический подход к существу человека, раскрывающий основные экзистенциалы его бытия, получил богатое понятийное и методологическое исполнение в работах И.-Г. Фихте, Гегеля, Л. Фейербах, К. Маркса, Ф. Ницше, М. Хайдеггера, Ж. Делеза, М. Фуко, М. Серра. В России онтологическое прочтение человека имеет устойчивую традицию, берущую начало в философии В. Соловьева и получившая развитие в исследованиях С.С. Аверинцева, М. Бахтина, Г.С. Батищева, Э. Ильенкова, Г.Г. Караваева, В. Подороги, М.С. Уварова, и др.
Философское представление семиотического в его отнесенности к человеческому бытию разрабатывалось в рамках различных философских направлений, в частности, в трудах К.-О. Апеля, Х.-Г. Гадамера, Э. Ганса Ж. Делеза, Ж. Дерриды, Э. Кассирера, Ж.-Ф. Лиотара, У. Морриса, Ч.С. Пирса, Р. Рорти, М. Фуко, Ю. Хабермаса, М. Хайдеггера и др. Весьма плодотворным анализ семиотического оказался в отечественной философии, представленный изысканиями С.С. Аверинцева, М.С. Козловой, А.Ф. Лосева, М.К. Мамардашвили, А. Михайлова, A.M. Пятигорского, К.А. Свась-яна П. Флоренского. При этом следует отметить, что широкий круг проблем семиотического измерения и существования человека разрабатывается в лингвистики, психоанализе, социологии, этнологии и т. п. (Р. Барт, П. Бурдье, В.А. Звягинцев, Вяч.Вс. Иванов, Ю.Н. Караулов, Ю. Кристева, Ж. Лакан, К. Леви-Стросс, Ю.М. Лотман, Ф. де Соссюр, В.Н. Топоров, Б. Успенский, К. Юнг, Р. Якобсон и др.).
Цель и задачи исследования.
Философская антропология возникла из трансцендентальной феноменологии и существовавшей в начале XX века онтологической традиции и в определенном смысле в противовес им, активно разворачивая деструкцию философии сознания (Шелер, Гелен, Плеснер) часто замещая философское исследование частнонаучными ориентациями, которым придавался философско-онтологический статус, - подобная тенденция, к сожалению, не потеряла своей значимости и сегодня. Поэтому остается актуальной необходимость корректировки и ориентации философско-антропологического исследования именно в общефилософском контексте, что позволило бы развернуть философско-антропологические изыскание в собственно философском тематическом горизонте, используя фундаментальные понятия и методы, существующие в философской традиции. Философская антропология вполне интенсивно развивается в концептуальном плане, выстраивая собственные отношения с традиционной полем философской проблематики, связанную с философией сознания, гносеологией, онтологией, этикой и т.п. Хотя приходится признать, что собственно эти концептуальные связи остаются чаще всего непроясненными. В связи с этим цель диссертационного исследования - представить концептуальные основания нередуктивной версии исследования феноменальности человека, которая удерживало бы все ее многообразие. Такая теоретическая диспозиция определила и конкретные исследовательские задачи:
• представить исходную философскую диспозицию, в которой были бы эксплицированы фундаментальные проблемы философии: обращенность человеческого существования к связанности мышления и бытия;
• дать анализ тематизации человека в трансцендентальной философии как философии сознания;
• выявить основные проблемы, связанные с онтологическим прочтением человека;
• концептуально обосновать методологическую значимость семиотического подхода в философии, позволяющего нередук-тивно представить многообразие человеческого существования в новом проблемном поле.
Иными словами, конкретная задача исследования состоит в раскрытии эпистемологического поля, на котором мог бы состояться теоретический обмен между тремя методологическими подходами (трансцендентальным, онтологическим и семиотическим), что и обеспечило бы наиболее эффективное развитие философской антропологии.
Теоретико-методологические основы и концепция исследования.
Уже при беглом просмотре философских текстов, посвященных размышлению о человеке, нас поражает огромное, если не сказать, неисчислимое количество имен, теорий, идей и т.п. То, что многие проблемы, относящиеся к взаимосвязи тематизации человека и мышления, уже давно разработаны или продолжает весьма интенсивно разрабатываться и сегодня, это обстоятельство способно только углубить наше беспокойство от носительно сведения или, точнее, связывание всех концептуальных сценариев в одно, но достаточно дифференцированное целое.
Предлагаемое диссертационное исследование основывается на трансцендентально-семиотическом методе, ориентированном на выявление условий возможности экспликации феноменальности человека и его модусов. В то же время смещение фокуса философско-антропологического изучения в семиотическую размерность позволяет нередуктивным образом представить связность мышления, бытия и человеческого существа. Исследование основывалось на синтетическом использовании трансцендентально-феноменологического, онтологического и трансцендентально-семиотического методов, акцентуированных на философско-антропологической проблематике.
1. Концептуальные подходы к исследованию человека
Появлению «сложных» понятий мышления и человека предшествовала подспудная работа метафизики, логики, философии в целом, серьезные трансформации в феноменальности культуры, самой социальной действительности и, конечно, экзистенциальных стратегий. При этом стоит отметить, что сложился он удивительно скоротечно, - вообще-то основные семиотические сценарии выкристаллизировались буквально где-то в последнюю треть XIX века. Виной тому отчасти были серьезные, если не сказать, тектонические, сдвиги в метафизике. В принципе к этому времени в философии сложились две конкурирующие интеллектуальные стратегии, предлагающие весьма различающиеся лики «человека»: трансцендентализм и онтологизм, - и оба сценария, несмотря на активное институциональное распространение, переживали серьезные концептуальные трудности.
1.1. Трансцендентализм
Исторически первым под удар попал трансцендентализм, при чем удар этот был нанесен, так сказать, «изнутри». Дело в том, что уже в ходе разворачивания опыта трансцендентального мышления совершенно неожиданно для самого трансцендентализма открылась странная сумеречная зона феноменальности, расположившаяся между формальными фиксированными сущностями, идеями, понятийными структурностями и оформленными и потому отчетливо воспринимаемыми чувственными вещами. Эти маргинальные событийные ряды порождали неприятный интеллектуальный дискомфорт, связанный с какой-то принципиальной неспособностью достаточно ясно и явно артикулировать их в концептуальном поле философии, - они упорно не желали поддаваться ни ноуменальной, ни феноменальной интерпретации и выражению. Ситуация в собственно эпи-стемическом плане становилась тревожной: отношение «субъект-объект», введение которого позволило свести счеты с наивным онтологизмом и выявить «внутренние» гаранты истинности концептуального мышления, оказалось под неприкрытой угрозой, - между мышлением и реальностью разверзся провал, и наведение мостов оказалось делом весьма проблематичным именно благодаря радикальному различию самих конститутивных принципов мышления и реальности. Все это походило на то, что мышления, охваченное желанием самоопределения на собственной основе, совершив этот акт провозглашения независимости, с удивлением обнаружило, что то, что обладало статусом его содержания, то есть реальность, отторгнуто от него и исчезает за далеким смутным горизонтом, - между мышлением и сущими, поступками людей и т.п. встала какая-то обморочная пелена.
Возникло напряженное противоречие между императивом отчетливости и ясности мышления и явной непрозрачностью самого акта его обращенности к тому, что расположилось по ту сторону его. Но ситуация усугублялась и тем, что здесь становился явным подспудный смысл трансцендентальной ориентации, - это был непросто конфликт между «мышлением» и «реальностью», - все это представало значительно сложнее и трагичнее, так как конфликт был симптомом, отсылающим к разрыву между трансцендентальным субъектом и эмпирическим здесь-бытием самости, человека, взятого в его жизненном мире. Трагичность этого конфликта заключалась в том, что уже Кант, разворачивая понятийные структурности трансцендентального мышления, был вынужден жестко утверждать принципиальную невозможность приложения целого ряда трансцендентальных понятий к «эмпирическому сознанию», которое в свою очередь свидетельствует о самости, а не Я, самости как раз и составляющей «неопределенное эмпирическое здесь-бытие» того, что мы именуем человеком.
В итоге складывается достаточно странная ситуация, - тождество, или идентичность, субъекта - это то, что способно состояться лишь в трансцендентальной размерности, а на долю «многоцветной различающейся самости» остается разорванная множественность. С другой стороны, здесь очень деликатная связка: за свое желание обрести целостность, идентичность, подобная самость должна заплатить определенную цену, - она должна стать «другим», то есть «подключение» к трансцендентальной размерности, к трансцендентальным временным разметкам дает идентичность в виде некой континуальной «истории» субъекта, но именно субъекта трансцендентального, а не «этого живого человека» с его здесь-бытием. Иначе говоря, такая «история» оказывается «историей» не о моем эмпирическом неопределенном здесь-бытии, а о чем-то «другом», или, еще точнее, не обо мне, а о «Другом» как о чистой трансцендентальной форме. Поэтому, как это ни звучит парадоксально, но идентичность оказывается своего рода маской, правда, маской, устойчивой, неизменной, расколотого человеческого существа, разрываемого между неизбывностью (хотя это не совсем очевидно) эмпирического здесь-бытия и трансцендентальным о-формлением, если не сказать транс-формацией, в субъект. Человеческое существо оказывается втянутым в двойничество, в какую-то совершенно необъяснимую путаница, смешение мыслей, мотиваций, желаний и т.п.
Другая проблема, которая оказалась внутренним катализатором эрозии трансцендентализма, - это просто неизбежная по тематическому репертуару новоевропейской философии экспликация инстанции Абсолюта, или Бога. Совершенно естественно, интуиция трансцендентализма налагает табу на онтологическую версию подобной экспликации, ставя нас перед раздражающим фактом онтологической невозможности артикуляции Абсолюта, - Бог выпадает из дискурсивно-эпистемических полей выражения. И Кант совершает достаточно мощный и гениальный шаг, предвосхищающий появившиеся много позднее семиотические сценарии. Речь идет о так называемом «моральном доказательстве бытия Бога»6. Кант, упраздняя онтологическую интенциональность определения Бога, учреждает его как «моральную причину мира», как творца морали, морального законодательства. И это казалось бы немыслимое онтологическое отлучение Бога дает явный выигрыш: обитель Бога отныне исключительно в размерности морали. В определенной мере Кант действительно доводит до логического предела само существо христианства, обращенного к моральному Богу, Богу морали, но за этим неизбежно следует трансформация и концептуальной артикуляции и тематического репертуара философского опыта: инстанция Абсолюта отныне обнаруживается исключительно в точке «прямого замыкания» чистого разума и действительности чистой воли, в результате чего Бог уже больше не дает никаких онтологических гарантий эпистемическому опыту и, более того, больше не способен проявиться в эпистемической размерности, - он оказывается по ту сторону и «объективного» существования, и «объектного» знания. «Действительность высшего творца, устанавливающего моральные законы» исполняется в нравственности, но при этом вопрос о его существовании с позиции теоретического, познающего мышления просто теряет смысл. И тогда становится понятной принципиальный маршрут, предлагаемый Кантом, - путь к Богу пролегает не в «объектной» размерности, а начинается и может быть проложен только в измерении, где безраздельно господствует субъект, а все «объектное» вынесено «за скобки». Однако при этом мышление отнюдь не теряет поддержку «снаружи», - теперь уже не «природа», не «реальность», а Бог берет на себя обязательства обеспечить связанность, последовательность морального сознания. Таким образом, эпистемические затруднения снимаются, - конечно, структуры дискурсивного мышления дают сбои, но весь атрибутивный комплекс Абсолюта мы можем помыслить по аналогии7, то есть символически8. Вывод знаменательный по своей сути, хотя за ним как тень следует превращение Бога в аллюзию, ссылку, намек.
1.2. Онтологизм
И это было состояние, близкое к катастрофе. Поэтому, уже Фихте предпринял попытку транскрибировать основные принципы трансцендентализма на онтологических кодах. Причем эта попытка предпринималась во имя спасения «человека», Я именно как некоего онтологического события. Однако успех онтологического проекта в начале XIX века был краткосрочен и внутренне противоречив. Онтологический сценарий, восприняв ряд интуиции трансцендентальной философии, испытал на себе не менее интенсивные метаморфозы, именно эти трансформации предопределили его новизну в отношении своего предшественника XVIII века. Онтологизм Просвещения и даже XVII века достаточно комфортно включал в себя зна-ковость, обеспечивая гарантии ее успешного функционирования. Принципиальная прозрачность отношений между опытом мышления (представления, а именно оно и принималось за мышление как таковое, которое определялось по своей фундаментальной способности репрезентации), знаком и вещью, или, точнее объектом, обслуживала «соответствие», изоморфизм между философией мышления и онтологией.
Но к середине XIX века субстанционально-онтологический статус инстанции Абсолюта подвергся стремительной и безостановочной эрозии и последовавшей за ней трансформации: Абсолют начал виртуализиро ваться, о чем, впрочем, свидетельствует и рассмотренный выше ход Канта. Итак, Бог покинул онтологическую сцену мира. Сразу же сложились две версии столь знаменательного события. Первая попыталась смягчить ситуацию, переводя существование Абсолюта в собственно виртуальную размерность, сохраняя его бытие как таковое, но лишая его возможности непосредственной актуализации. Классическим вариантом этой версии можно назвать гегелевскую «Феноменологию духа»: Дух, обеспечивая целостность и само осуществление как отдельных феноменов, так и всего феноменального ряда, принципиально не способен не только исполниться хотя бы в одной из феноменальных зон, но и принципиально не признает право ни одной из них выступать достойным его представителем (правда, исключение делается для философии, однако опять-таки в особом ее прочтении). По крайней мере, сейчас нам важен принцип: отказ от своего рода онтической иерофании Абсолюта; если же обратиться к феноменальности, то там есть только следы, только знаки его прохождения. Благодаря этому на человека (причем не на каждого, а только принадлежащего к «мы-феноменологам» как несколько особому человеческому типу), который сам предстает как динамическое образ-ование, возлагается обязанность движения по следам, оставленным Абсолютом, дабы и обеспечить актуализацию этого образования. И, несмотря на гетерогенность следов Духа, Абсолюта, порождающую гетерогенность человеческих типов, ликов, за ней все же маячит возможность обретения высшего единства в Духе.
Вторая версия онтологизма приступила к этой проблеме более радикально, объявив о смерти Бога и бесповоротно отказываясь от всех христианских теологических метрик. Но онтологизм всегда выстраивается на принципе при-сущности, определяя дихотомическую бытийную дистрибуцию между сущностью явлением, тем самым, располагая онтологическое мышление в гарантийных пределах адекватной репрезентации, ex-pressio, вы-ражения: Язык-Логос обязан выразить Бытие, на Бытии же лежит обязанность выразиться в Языке. Это же распространяется и на принцип существования феноменальности, правда, отношение между шествования феноменальности, правда, отношение между Абсолютом и феноменом обладает явно нетранзитивным характером. Понятны последствия и транскрибирования человека на онтологических кодах: он втянут в присущность, в наделенные качества, определяемые, по крайней мере, сущностью, которая локализуемой в виртуальной размерности.
Действительно смерть Абсолюта сопровождается эрозией инстанций, каналов дистрибуции сущности, ответственных за учреждение связанности явления и сущности, то есть при-сущности, но тогда и мысль, и поступок, и сам человек обречены на смещение к нулевой отметке. Однако все оказывается не столь уж страшно. Конечно, сущность, ответственная за определение и поддержание здесь-бытия человека, неспособна непосредственно актуализироваться именно в силу своей виртуальности, но она берет на себя все возможные отдельные актуализации, особенность онтологического статуса которых и состоит в том, все они оказываются бытийной ситуации отсыла, намека, аллюзии на что-то иное, чем они сами есть, - все оказывается выражением чего-то иного, чем оно само. И здесь важно понять, что подобная аллюзийность говорит как раз не о тождестве, а, скорее, о различии: когда мы определяем человека, например, через труд, язык, мышление, игру и т.п., то получается, что человек отсылает к труду, а труд, будучи чем-то иным, чем человек, отсылает к нему, но не совпадает с ним. Такая несовпадающая гетерогенность и порождает запрос на посредника, обслуживающего «общение» столь различных феноменов. Иначе говоря, в этой всеобщей мобилизации на выражение содержательность просто исчезает.
1.3. Семиотическая версия интерпретации понятий
Несмотря на определенную эпистемическую и концептуальную успешность и трансцендентализма, и онтологизма, тем не менее, что-то явно пошатнулось, и стало неспокойно в царстве мышления. Наверное, самым неприятным эффектом стало даже не осознание, а, скорее, ощущение обрыва нерасторжимости мысли и мира. Обнажен разрыв, и в него проваливается мысль. Вот это-то и невыносимо. Еще возможно для сознания вести игру, где действуют тяжелые машины рассудка, но все же предел, конец уже ощущается сначала в редком беспамятстве, а затем и в испуге рассудка. Оставшихся ресурсов мышления было, по-видимому, достаточно, чтобы еще каким-то образом поддерживать акты познания, мышления, но ситуация уже такова, что бытийные гаранты порваны, и как восстановить их, - неизвестно. Уход Абсолюта, конечно же, не прошел бесследно: путаница образов, понятий, событий, вещей, смешение и даже неразличение воображаемого и реального. Смерть Бога - эрозия инстанций, каналов дистрибуции сущности ответственных за учреждение связанности явления и сущности, то есть при-сущности. Но смерть Абсолюта - это и эрозия времени, то есть наррации о субъекте, рассказ о мышлении, субъекте мышления, субъекте как мышлении и ни о чем кроме мышления, если даже мы мышление будем писать с заглазной буквы; это деформация Времени, неясность и непросматриваемость «века» события, это - безвременье. Параллельно идет и распад пространства, удерживаемого и сцепляемого Абсолютом, больше ничто не ставится на свое место, точнее, больше ничему не дается места, - все неуместно, все безместно. Уход Абсолюта порождает смешение, путаницу образов, понятий, событий, идей и т.п.
И по мере иссякания спонтанной интенсивности и сознания, и событийных рядов феноменальности складывается абсолютно новая ситуация. На бытийном ландшафте и в зоне мышления все незаметнее и просто невидимым стало то, что Хайдеггер называл Phenomenon (сущее, которое указывает через самое себя на самое себя) или Schein (сущее, которое указывает на самое себя через другое сущее), а все чаще и чаще стали попадаться события, которые в хайдеггеровской концептуализации именуются Erscheinung, явлением, то есть события, где сущее указывает через самое себя на иное сущее, событие, лишенное само-стояния. Иными словами aliquid stat pro aliquo, одно вместо другого, но это и есть формула знаково-сти.
За этим состоянием мышления вовсе не стоит какая-то немилость обстоятельств, напротив, это симптомы трансформаций, знаки семиотиза-ции мышления, действительности и того события, которое мы именуем «Я», «человек». Пейзаж мышления с вкрапленным в него силуэтом нравственного существа взрезается и рассекается симптомами, знаками, индексами, иероглифами, - семиотическим. Однако семиотическое позволяет не только плутать среди мыслей и феноменов, но в то же время предлагает не столько восстановление бытийных гарантов, сколько заключение совершенно новых. Оно смещает мышление в новую размерность, обладающую собственной глубиной, несводимой ни к глубине мышления, ни к глубине мира, и в то же самое время это - введение в мышление того, что не является им, бессознательного, и это инсталляция в действительность того, что никогда не было действительностью. И это не просто нагромождение понятий, образов, знаков, вещей, - именно семиотическое возвращает очертания мысли и действительности, не нарушая хрупкости структуры мышления и феноменальных рядов событийности. Подобно трансцендентальной и онтологической, предлагаемая версия открывает возможность ревизии и трансформации отношений между концептуальными и экзистенциальными условиями опыта философского мышления. Я не буду здесь затрагивать те аспекты аналитики мышления, совершенно не оспариваемые философией и являющиеся прерогативой собственно научных инициатив, я коснусь прямо и непосредственно лишь проблемы связанности тематиза-ции мышления и человека в философии.
Обращение к семиотическому сценарию ни в коем случае не подразумевает возврата к редукционизму, пусть и семиотическому, - напротив, на место редуктивно-универсалистских конструктов ставится операция «тотализации» (в сартровском смысле этого термина), связывающей именно в семиотическом поле рассеянное, диссеминированное существование человеческого существа, а эффектом этой операции должна быть смысловая связность, консистенция здесь-бытия человека. Хотя стоит отметить, что при этом девальвируются, или, по крайней мере, становится проблематичным целый ряд различного рода понятийных целостностеи таких как «мировоззрение», «идеальный тип», «дух эпохи»9, и, вполне естественно, это захватывает и телеологию в результате гетерогенизации и темпораль-ности, и топологии событийности. Однако подобная операция как раз и позволяет избавиться, или точнее, вполне обоснованно отречься от редукционистских стратегий «антропологического» прочтения феноменальности мышления, тем более что чаще всего и человек, и мышление определяются через то, чем они чаще всего не является. В то же время стоит отдавать себе отчет в том, что тематизация «человека» оказывается небезопасной и для философии, - появляется «антропологическая» версия прочтения самой философии. Человек превращается в зеркало, отражающее все, но не оставляющего своего облика нигде, - человек становится знаковым в самом своем существе.
2. Мышление
Мышление - это, наверное, наиболее интимная, сокровенная и заветная тема философии. И попытки просто и однозначно ее определить или как «отражение объективной реальности», или «идею идей» и т.п. всегда попадает мимо цели. И эта концептуальная неловкость в некоторой степени оказалась тем интеллектуальным мотивом, который начал склонять философию к самоубийственному упразднению темы разума, мышления и т.п. Поэтому сегодня создается впечатление, что философия с какой-то страстью втянулась в нескончаемое развенчивание и упразднение сознания как такового, погружая мышления в бессознательное, власть и т.п., в результате чего феноменальность сознания все более истончается и начинает таять прямо у нас на глазах, или же она, теряя собственные ресурсы, начи нает жить «взаймы», на средства того, что лежит по ту его сторону, - иначе говоря, мы втягиваемся в своего рода «обморок современного сознания». Это одновременно и пародия и палинодия мышления, а не только сознания как такового. Что можно сказать в этой ситуации о сознании, мышлении? -В сегодняшней точке своей истории оно совершенно утратило способность очаровывать, возвышать, соблазнять. Или хотя бы угрожать. Сама структурность феномена мышления, сознания уже больше не подразумевает ни Я, ни человека, - она все сильнее и жестче пробивается выбросами бессознательного, нечеловеческого, разрывается выплесками телесности. Само существо мышления как «сознания о ...» теряет свою действительность и действенность: истончается и исчезает на грани между реальным и сюрре-реальным. За онтологичностью сознания как «мировоззрения» все отчетливее просматриваются развертки и разметки желания, воли, власти, и все ощутимее и более болезненной становится подмена собственной логики мышления логикой акционизма. Неустойчивой и изменчивой становится сущность noun а, мыслящего.
Парадокс состоит и в том, что мышление - не снаружи и не внутри человеческого существа. Крайне сложно определить «местоположение», «пространственно-временные координаты» мышления как события. Мышление не существует «нигде» и «никогда», однако оно занимает особое место в топологических и временных измерениях. Двойственность - не обязательно перекрывание, проецирование пространства и времени, - напротив, необходимо их различение [Кант, Бергсон, Гуссерль (хотя в определенной мере, следуя Бергсону, можно говорить, что Гуссерль подменяет временность топологичностью)]. В акте мышления учреждаются особые измерения, особая действительность, не редуцируемая к так называемому «внешнему» или «внутреннему» миру, выстроенная на связности виртуальной действительности и тонко градуированных актуализациях. Но акт учреждения, смещающий и деформирующий исходные структурности, которые способны функционировать собственно автоматически, то есть как своего рода логические автоматы, всегда затребывает экзистенциальных усилий, актов воли, желания и т.п., или как писал Гегель, движение духа «от чувства через представление к мышлению, - это путь порождения себя как воли, которая в качестве практического духа вообще есть ближайшая истина интеллекта...»10 И в этой ситуации мышление использует «реальное» время и пространство, их фрагменты, создавая новые композиции, сами являющиеся актуализациями виртуальности. Поэтому «внемирность» мышления есть предпосылка для того, чтобы в нем оказаться, сказаться, показаться некий «смысл», затягивающий нечто такое, что «реальнее» так называемых фактов, вещей. Во «внемирности», в «нереальности мышления» проявляется иная сущность мира, действительности, благодаря чему мыслящий, noun, участвует в мышлении, он связан с мышлением через участие, со-участие, methexis. Тогда тематизация человека в опыте философского мышления оказывается сложным комплексом наслаивания определений и трудно проясняемых тематических отсылок.
Если, например, темой является человек, то в чистой рефлексии мы можем заметить, что человек непрерывно дан как некая связность в разнообразной множественности модусов явления, располагающих своими специфическими горизонтами и перспективами. Однако если мы пытаемся тематизировать феномен человека, который в подобной динамичной множественности осмысляется как некая целостность, то соответственно, мы проводим и тематизацию самого способа осмысления. При этом мы с необходимостью вопрошаем и о том, каким образом следует понимать то, что некий феноменальный ряд, который мы именуем человеком, дан философскому опыту мышления. И это отнюдь не подразумевает, что философия ограничивается исключительно какими-то абстрактными рассуждениями о человеке, - скорее, ей приходится обращаться к тому, что Ницше называл «типами человека», расчленяющими феноменальное поле и требующими для каждого типа соответствующий способ мышления. Что из себя представляют различные типы мышления, относящиеся к тому или иному типу человека? - Такой вопрос мы следовало бы задать в отношении каждого типа феноменальности человека.
3. «Человек»
Наука, культура, политика, различного рода институции, практики повседневности постоянно выдвигают требование все более четкой, прецизионной и в то же время все более фрагментарной в этой четкости настройки «образа человека». Однако чем ближе мы оказываемся к абсолютному разрешению, тем больше лишаемся возможность увидеть действительные контуры феноменальности человеческого существования. Сегодня очень трудно говорить о человеке, поскольку стало сложно его увидеть. Чаще всего современный мир стремится вовсе не к тому, чтобы его видеть или, по крайней мере, хоть как-то замечать, а к тому, чтобы его потреблять, «задействовать», так что в итоге от человеческого существа вообще не остается каких-либо следов. Но тем самым «гуманистический дискурс» оказывается дискурсом, не способным развернуть поле видения. Однако самое любопытное во всем этом, что «человек», который лишается «человеческого», не является в то же время каким-то ничто, - напротив он настаивает на своем существовании самим своим уже сюрреалистическим присутствием.
Мы стремимся помыслить человека исключительно через ratio, опыт сознания, но в то же время в феноменальности, которую мы именуем «человек» происходит нечто, что не укладывается в рамки «сознания», «разума» и т.п. в то же время мышление, сознание оказались в такой размерности, в которой часто не остается места человеческому существу. Поэтому с долей условности можно говорить о том, что человек появляется на грани своего распада.
Человек, права человека, гуманизм - все это расхожие фразы уходящего века, - все, что ни происходило в нем, все делалось во имя человека во имя его прав, во имя гуманизма. Однако так много слов, и так много крови: именно одержимость заботой о гуманизме порождает странное, порою до чудовищности, несоответствие: Руссо, Декларация прав человека и... гильотина; Марксов гуманизм «Экономико-философских рукописей», мучительное неприятие страдания «человека» в русской левой мысли и ... красный террор, то же самое и с нацизмом, с фашизмом, либерализмом. Все это симптомы того, что мы не целенаправленно продвигаемся в «царство свободы человека», в «царство неукоснительного соблюдения его прав», а, скорее всего, само обращение к «человеку», мультипликация 4 «гуманистических» дискурсов по сути дела оказывается настойчивым на поминанием о том, что артикуляция феноменальности человека рождается из крика: «Что вы сделали с человеком? Что вы сотворили с человеком?» Исторически, или если хотите, генеалогически, вопрос звучал часто в иных формах, например, - «Что необходимо сделать человеком, дабы он вернулся к своему изначальном и потому собственно человеческому существованию?» Этот вопрос-крик собрал в XVIII-XIX веках всех: и Руссо, и французскую революцию, и Маркса, и либеральное движение, и европейский национализм того времени и т.п. Но в любом случае понятие человека рождено криком, связанным с онтической проблематизацией ситуации, когда невыносимая смесь тел начинает будоражить связанное с ней сцепление мыслей, идей, вызывающих мучительное страдание, - эта смесь разрывает, расщепляет мысль, - она начинает судорожно биться, метаться, ища новых связанностей. Это и есть проблематизация, которая и порождает понятие «человека».
3.1. Тождество, различие, «чужое»
Именно зияющий разрыв между интенциями и эффектами и застав ляет достаточно строго подойти к тематизации человека в философском мышлении. Сама действительность втянула человека в проблематизацию, превратила в проблему. Причем, парадокс заключен собственно в акте ро ждения понятия «человек»: сам человек становится проблемой, его силуэт истончается и пропадает в каком-то бесформенном мороке, а его здесь- бытие теряет устойчивость и проваливается туда, где явно ничего человеческого быть не может. Ситуация становится неприятной, но в то же время банальной. Неприятно было главным образом то, что мы наталкиваемся на вполне порядок, с одной стороны, когда мы говорим о человеке, то определенность совершенно явна: мышление, тело, труд, язык, культура и т.д. Но с другой, - не менее очевидно, что, следуя подобной логике, мы определяем его через то, что по сути своей не совпадает с ним: тело обретает 4 свою определенность через физико-химико-биологическую предметную
А структурность, труд - через сообщество, сознание - через культуру или природу. При этом общество, культура, природа и т.п. сами претендуют на субстанциональность, причем часто универсальную. Поэтому мы и попадаем в концептуальную ловушку: пытаемся определить человека через то, что ему лишь приписывается, через то, чем он наделяется. Скорее, более уместно, хотя и предварительно, человека следовало бы определить как событие в мысли с неправильными и неустойчивыми очертаниями, которые определяются инстанциями, отвечающими за его более-менее явно манифестируемую регулярность и нормативность.
Начиная с XVII века, который открывает новоевропейскую ситуацию, человек стал вещью, продуктом, товаром, объектом среди множества иных вещей-продуктов (при этом не столь уж важно является производство «природным», «духовным» или же собственно «социальным»). Человек - лишь звено в сериях производства и обмена, «общения» вещей. Но именно сериальность, составляющая ядро подобного производства, несет ответственность за упразднение «инаковости». Ее низложение проводилось за счет особых операций изоляции, редукции, вытеснения - все это преследо # вала только одну-единственную задачу - выкинуть из жизненного мира «иное», всегда выступавшее как возможность безумной, часто опасной радикальности иного и его соблазнительности. Старательная аннигиляция ф инаковости как указания, аллюзии на то, что есть по ту сторону «человека», обесценили и такие жизненные стратегии как эрос, агон, полемос, и даже безразличие медленно растаяло и было заменено участливо-благостным тождеством, равенством, снимающим все возможные разли , чия. В итоге явный выигрыш: в сознании, в мире, в самом человеке не ос талось даже шанса для «чужого», как и для всего, что не поддается активной редукции к «другому», а затем и к «alter Ego» как понятному и потому близкому двойнику. Это становится производством и мультипликацией дубликатов, благодаря чему мир превращается в какое-то нарциссическое 4І зеркало. Однако изъятие «чужого» как того, что радикально не совпадает с нашим существованием, нашей идентичностью, оказывается и изъятием самой возможности того, что, мы называем судьбой, - время обращается в линейную серию, неустанно хранящую и воспроизводящую наше неизменное «тожество», - случай со столь любимым греками «вдруг» обречен на вымирание. Сегодня мы предпочитаем, как пишет Бодрийар, «производить» «иное», «чужое», - это дело более безопасное, чем встреча с «чужим», всегда непредсказуемая и угрожающая нашей идентичности, и вместе с тем мы судорожно пытаемся скрыть от самих себя этот акт производства, оттолкнуть от себя саму мысль о том, что тот «другой», с которым мы можем находить благостное участие, - ни что иное как наш «двойник», что это просто экран, которым мы стремимся оградить себя от реальной столкновения с иным. И все-таки, как бы мы ни стремились избавиться от «чужого», оно продолжает нависать над нами, оно - фон, подземелье, горняя высь, - оно всегда то, что зачастую неотчетливо, зыбко, но с неизбывной необходимостью поднимается на самом пределе здесь-бытия нашего горизонта. Номинально провозглашенное отречение от «инаковости» от нюдь не отменяет подспудную, неявную работу, расположившихся по ту # сторону единичного существования устройств и в то же время вольно или невольно обращенных к нему, втягивая человека в ситуацию неразличен ности «своего» и «чужого». Однако это упразднение, пусть и номинальное, Ф чуждой инаковости налагает онтический запрет на способность трансцен-денции, трансгрессии здесь-бытия, и не просто на способности, а на силу, мощь здесь-бытия, - исчезла способность действовать, но осталась лишь способность принимать воздействия, - человек стал радикально существом аффинируемым, или еще точнее, человек превратился в поле, полигон срабатывания различного рода трансиндивидуальных, а часто и вообще не- и внеиндивидуальных устройств, а с этим оказалось потеряно само ощущение, чувство инаковости, потеряны все дистанции, - события, идеи, символы, люди, дискурсы смешались в некое неразличимое тождество, в котором начал терять себя и человек.
Виной тому отчасти было то, что фактически мы затеяли игру в назначение различий через тождество. Но при этом нас не оставляет ощущение какой-то радикальной инаковости снаружи, а впрочем, и с «изнанки» нашего «человеческого, слишком человеческого», мы просто чуем что-то «нечеловеческое», занятое наделением этих различий. При этом где-то внутри мы понимаем, по крайней мере, ощущаем, что, тождество, которое позволяет нам удержать «одно и то же» в акте понимания и артикуляции чужого, чуждого, оказывается очередным изобретением «нашего человеческого другого», всегда являющегося, пусть несовершенным, но все же нашим двойником, миметой. Правда, за этим последовала неизбежная расплата: такое тождество, на первый взгляд ведущее к конгениальному ему порядку, рациональности, совершенно неожиданно смывая все различия и различенности, втягивает все сущие, включая и человека, в какой-то синтетической хаос, как тотальную недифференцированность, где они теряют свою сингулярность и инаковость. В итоге мы попадаем в размерность, в которой все связано с различием сущих на основе тотального и всепроникающего тождества, пронизывающего все бытие, и в которой любой тип реальной инаковости исчезает. Однако при этом в лучшем случае отбрасывается, а в худшем просто упраздняется то, на что натолкнулся еще Кант: различие «чистой и эмпирической апперцепции», - причем первая, то есть «чистая», отвечает за конституирование тождества, идентичности удерживающего непрерывность и связность опыта трансцендентального мышления. Однако из анализа трансцендентальной апперцепции он делает на первый взгляд парадоксальный вывод: «...эмпирическое сознание, сопровождающее различающиеся представления, в себе существует рассеяно и без отношения к идентичности субъекта»11, и отсылает это «эмпирическое сознание» к «многоцветной различающейся самости»12, именно самости, а не Я, самости как раз и составляющей «неопределенное эмпирическое здесь-бытие» того, что мы именуем человеком.
3.2. Поверхность человека, или поверхностное существо
Что же мы пытаемся понять в этом онтическом тумане, размывающем очертания сущих, событий, дискурсов, понятий, символов и т.д.? — Человека как биологическое, социальное, культурное, психическое, etc. событие? — Как ни странно, ответ лежит на поверхности, но именно это «на поверхности» хранит в себе странную двусмысленность. С одной стороны, действительно наиболее очевидно взять понятие «человек» исключительно как событие, которое явно в своем расположении на поверхности философского опыта, столь явно, что становится каким-то навязчивым лейтмотивом мышления. Однако другой смысл настаивает на прямом буквализме этого выражения, - «человек» как событие, предав забвению «высоту» и «глубину», размещается на поверхности, всегда на поверхности чего-либо, удерживая свое существование благодаря этой поверхности, но никогда не совпадая с ней. И это «поверхностное существо», забрасываемое с одной поверхности на другую, хотя и неустанно подвергается неустанным попыткам «прописать» его на той или иной поверхности («человек разумный», «человек трудящийся», «человек цивилизованный» и т.д.), обречено бродить по этим маршрутам, равнодушным к нему, к его существованию, существо, сначала потерявшее свое «здесь», а затем и свое «бытие», и доступы к бытию как таковому.
Даже если обратиться к человеку относительно «классического», то есть средневекового, христианства, то достаточно сложно представить его без разметок «высоты» и «глубины»: все события, сущие, в том числе и человек, по сути, своим опытом бытия вели «рассказ» о Боге, - он был главным действующим лицом, основным сюжетом (фр. sujet), субъектом. А сам человек оказался буквально на поверхности, которая родилась из странных складок «высоты» и подземной «глубины», Бога и Дьявола, - человек просто завис, оказался подвешен между Богом и Дьяволом. Протестантские атаки на «божественные высоты» были попытками обрести имманентность вне этой распятости человеческого существа между Богом и Дьяволом, это - своего рода претензия на переопределение имманентности, - человек был вытолкнут на поверхность и тотчас объявил о своих претензиях на отмену и божественной высоты, и бестиальной глубины. Но возвещение оказалось буквально «не-у-местным». Не менее безуспешным были и попытки разместить высоты и глубины в человеке, - весьма скоро выяснилось, что сам человек - не более как развертывание, развитие складок дисциплинарности, рецептивности, знаковости и т.п. И то, от чего он хотел освободиться, то, что он хотел избежать, под другими личинами оказалось еще ближе к нему, при том в такой опасной близости, когда размываются все очертания, когда все голоса сливаются в неумолкаемый и неразличимый шум, и человек совсем нечетко отделен, отдален от этих инстанций, он сливается до неразличимости с ними, - это близость, которой не требуются имена, близость несказуемого. Хотя человек тешил себя надеждой, что он способен занять место, освободившееся после смерти Бога, возложить на себя право Абсолюта. Но все это было лишь очередной иллюзией, грезой, или, в терминах Лакана, воображаемым, вызванным к жизни желанием «склонять» свое существование по образцу бытия Бога в ситуации тотального его отсутствия и невозможности: «человек — творец», «человек - созидатель», «человек - властелин мира», «человек - вершина развития вселенной» и т.п. Хотя здесь вполне естественен вопрос о том, насколько такое «склонение» сообразно человеку. Но оно, по крайней мере, является чем-то знакомым, узнаваемым и потому понятным. И если отбросить «бо- Л жественное склонение», то мы оказываемся на первый взгляд в какой-то странной, если не сказать безумной ситуации, - повсюду лишь поверхности сознания и поверхности тела, которые совершенно странным образом резонируют друг с другом, - поверхность-сознание и поверхность-тело, можно добавить к этому и поверхность их резонанса, - вот и вся феноме- Ф, нальность «поверхностного» человека, или, говоря языком Фрейда, чело » век с его Я - это только часть Оно, «своего рода продолжение дифферен циации его поверхностного слоя». Не спасает и обращение к телесности человека, - как писал Фрейд, « Я , прежде всего - телесно; оно не только поверхностное существо, но и само - проекция поверхности»13. Вполне очевидно, что этот тезис Фрейда еще более усугубляет ситуацию, превращая человека не просто в поверхность, а в ее «проекцию».
Несмотря на столь плачевный предварительный вывод, мы самым неожиданным образом оказываемся перед возможностью развернуть феноменальность человека, пусть даже «поверхностного существа» с непомерными амбициями, в совершенно новом тематическом горизонте аналитики. Отныне нас интересует не столько формальное определение челове ка, сколько его о-пределение, возникающее на том маршруте, по которому однажды прошел Фрейд, преследуя Оно как интенсивность влечения, как бессознательное влечение, да и не только он один. Ход, собственно говоря, для философии не новый, - достаточно вспомнить кантовскую формулировку морального сознания через волю, способности суждения через «чув- ство жизни», фихтеанское понятие влечения (Trieb), гегелевское развора чивание действительности самосознания, Я, через вожделение (Begierde), но этот ход заставляет нас помимо каких-то устойчивых и неизменных трансиндивидуальных формаций, структурностей обратиться к тому, благодаря чему эти формации и сам человек, даже как «поверхностное существо», и существуют, - к потокам интенсивности. В принципе уже полити- . ческая антропология Маркса вращается вокруг этих потоков: сознание пролетариата и его тела инвестируются в труд и избываются в нем, и благодаря этому избыванию сознание пролетариев вырастает из страданий, телесных мучений, - над одномерной вещной размерностью труда выплескивается сознание пролетариата, пронзенное болью и унижением, - дру гими словами, и Марксов человек со своим сознанием предстает перед на шим взором как опять-таки как дифференцированная часть проекции поверхности «общества», «общественного производства». Но тогда мы должны и понять, и принять то, что и сознание, и человек оказывается уже давно подверглось патологоанатомическому вскрытию как и тело: и в них нет больше глубин, а только слои, наслоения, проекции поверхностей и т.п.
И все же в подобной аналитике скрыто все то же старое методологическое лукавство - это всегда неизбежная редукция, поиск, конституиро-вание «единства» той или иной феноменологической целостности.
Но даже во фрейдовском аналитическом сценарии не все так уж безнадежно редуктивно. Во-первых, стоит отметить, что у Фрейда, не смотря на его явную склонность к позитивистскому редукционизму, совершенно отчетливой предстает проблема: являются ли предикаты бессознательного предикатами Я? Дело в том, что Фрейд настаивает на различии конститутивных принципов Я и Оно, на их «дифференциации». Однако в этом случае мы непременно оказываемся в ситуации, которая не может быть про яснена ни собственно анализом, обращенным к феноменальности созна- ния, ни онтологической аналитикой, - проблема соотнесенности этих двух территорий феноменальности остается методологически не проясненной.
Во-вторых, и Фрейд, и все иные попытки тематизировать феноменальность человека в рамках того, что Гуссерль называл «региональными онтологиями», уводят нас от самих актов конституирования этой темати-зации, просто экранируют их. При чем парадокс заключается в том, что только благодаря подобной экранированности они обретают возможность разворачиваться как «научные» инициативы. И, наконец, что, наверное, наиболее важно, - «человек» прочитывается как событие, имманентное чему-либо, с чем он явно не способен полностью совпасть по своему существу, что приводит к неизбежным замещениям, подстановкам, которые или скрывают или просто-напросто деструктурирует его «свой-ственность»14.Одним из вариантов подобного прочтения, например, являются попытки феноменальности человеческого существа определения через «Другого», через опыт признания Другого и т.п. Но, как писал Аристотель, «...и так же как свободным называем того человека, который живет ради самого себя, а не для другого...» Если все-таки принять во внимание этот аристотелевский тезис, то обращение к «Другому» оказывается нарушение самого конститутивного императива философского мышления, так как, опять-таки по логике Аристотеля, собственно философское мышление выстроено на принципе энтелехии, «исполненности собственной полноты», отсылающем к само-стоятельной позиционности Я, мыслящего.
3.3. Множественная самость
Когда мы говорим «человек», пусть даже склоняясь к каким- то неясным, но все-таки очевидным определениям, отсылающих к сознанию, культуре, труду, социальности, биологии и т.п., то фактически мы говорим об институциях (общества, культуры, экономики, права и т.д. отсюда и вопрос определения человека смещается к его имманентности труду, сознанию, борьбе, любви, игре, смерти и пр. На деле мы уже признали, что человек стал знаком, - мы пытаемся говорить о феноменальности человека, а речь сама собой уже идет, скорее, о «разуме», об обществе, природе и т.п., - человек превращается в знак, в симптом присутствия, манифестации языка, разума, труда и т.д. и в то же время в знак своего отсутствия в онтиче-ском смысле - он наделен лишь отраженным существованием (симулякр, мимета), он имманентен языку, обществу и т.п.
Однако философски важно дать не столько точно и логически выверенное определение человека, сколько намного важнее обратить внимание на тот шум, бормотание, из которого и среди которого и вырисовывается то, что мы называем феноменом человека. Например, у Ницше в «Рождении трагедии...» «яйность» предстает как то, что возникает в ситуации столкновения доиндивидуальных, внеличностных потоков интенсивности дионисизма и трансиндивидуальных чистых форм аполлонизма, порождая человеческое существо как множественную сингулярность. В принципе, еще кантовское «неопределенное эмпирическое здесь-бытие многоцветной многоскладочной самости» отсылает к тому, что мы называем феноменом «человека».
Его феноменальность рассеивается в различных топосах, в различных измерениях, не предполагая никакой единой привилегированной позиции, которая могла бы гарантировать некое эпистемическое или онтологическое единство знания об этой феноменальности, которая в большей мере напоминает сплетение совершенно гетерогенных регионов событийности. И когда мы пытаемся определить феноменальность «человека», чаще всего исходя из каких- то неясных, но все-таки очевидных определений, отсылающих к сознанию, культуре, труду, социальности, природе и т.п., то фактически мы говорим об институциях, которые в свою очередь обладают различающимися конститутивными принципами, порождая, тем самым, не менее различающиеся типы человека, имманентные своим территориям, - говоря несколько иначе, «человек» возникает на месте следов нечеловеческого. Расщепление на типы в больше мере связано не с какими-либо морфологическими чертами, биологическими, культурными и т.д., а с отнесенностью к тому, что стоики называли «тонусом бытия»16.
Именно расщепленность, множественность события, которое мы именуем «человеком», - по сути дела, втягивает нас в промысливание определенных форм, которые фактически уже не имеют никакого отношения к содержательности события человека, - они по отношению к нему безучастны и равнодушны, - это - «человек-форма», или, несколько перефразируя Канта, «пустая форма представления». Поэтому и «человек-форма» предполагает не столько обращение к терминам «природа», «культура», сколько к таким понятиям как "государство", наука", «власть», «культура», которые выражают новый способ классификации, утверждения, перевода дискурсивных актов в социальные. Например, «мышление» как форма связано с формой «человек», которая выстроена на редукции к множеству символических взаимосвязей в социальных полях и понимается как некая страта, как определенный семиотический режим. Поэтому и «человек» редуцируется к сложному состоянию вещей как формациям, например, власти, а в конечном итоге человек сам становится знаком, симптомом определенной формы трансцендентальности, которая дает разметки, но в то же время выстраивает определенные топосы, оставляя следы, благодаря которым возникают скрепы, структурирующие хронотоп человека, индуцированный этими разметками.
В процессе артикуляции такой множественности рождаются своего рода кентавры мысли, которые не всегда оказываются полубожественными существами, а, скорее, концептуальными ублюдками. Этот распад «чело века» на типы, его мультипликация становятся собственно концептуальными ориентирами философского мышления. Образы человека, поставляемые различного рода практиками и эпистемическими инициативами оказываются, - это всего лишь отслоившиеся и затвердевшие эйдосы, порождаемые и выбрасываемые на ту или иную поверхность здесь-бытием самости человеческого существа, множественной дионисийской сингулярностью, способной порождать отчетливые образы в аполлоническом измерении, но никогда не совпадавшей с ними.
Сомнение
По Декарту, к ясности ума путь прост, - и в этом он ясен и строг: мы должны найти в себе силы жестко и неуклонно исполнить эту стратегию раз-личения, установления различий, - и в этой стратегии царит непринужденная дерзость сомнения, недобрый холодок смелости, потому что различие - это то, что рождается в актах сомнения. Декарт превращает сомнения (dubitation) мышления в проблему мышления, разрешение которой и должно определить мыслит Я или нет, а тем самым открыть возможности акта определения самого бытия Я, то есть и само мышление, и бытие предстают как проблема, - более того, мышление, озаботившееся поисками Я превращается в теорию проблематизации. Технически декартов метод основывается на аналитическом сомнении, так как, пишет сам Декарт, «анализ указывает правильный путь, на котором нечто может быть найдено методически и как бы априори»38. Фактически, это «априори» открывает путь к аналитике мышления именно как самостоятельного феномена, обладающего собственными конститутивными принципами. Синтез же ориентирован на апостериори, «хотя сам способ доказательства, - добавляет Декарт, -гораздо более априорен в синтезе, нежели в анализе»39. И все-таки Декарт отдает предпочтение анализу, так как он является, по его версии, и «истинным и наилучшим методом самообучения»40, иными словами, аналитический метод, раскрывая феноменальность мышления и Л в целом и в этом раскрытии проводя жесткое различие между «своим» и «чужим» для выявление территории, свободной и независимой от «чужого» и проповедуя радикальный отказ от коллаборационизма с «чужим», оказывается своего рода техникой само-образ-ования. Декарт пытается установить, открыть тот непростой путь, который ведет к философскому акту, и сомнение в этой ситуации оказывается именно дорогой Я, ведущей к философии, дорогой, которое Я идет, минуя, при этом отторгая и обесценивая иные способы схватывания действительности и самого себя. Или, как точно подметил Фейербах, Декарт «только начиная свою философию с сомнения, с отрицания, положил и мог положить начало и основание новой и свободной, начинающейся с самой себя философии». И хотя, опять-таки по мнению Фейербаха, это лишь «преддверие, «начало философии». «Преддверие», своего рода пролегомены к философии - это техника движения Я к измерению философского опыта. В декартовском диалоге «Разыскание истины посредством естественного света» Евдокс, спрашивая Полиандра о том, «что представляет собой тот, кто способен во всем сомневаться, но не может усомниться в самом себе»43, по сути, стремится продемонстрировать, что вопрос состоит не столько в сомнении как процессе, как некоей операции, сколько в том, для кого же все-таки сомнение становится способом конституирования свой идентичности. Итак, «начало» предполагает участие в охоте на достоверность мышления бытия Я. Но мы должны отдавать себе отчет в том, что сомнение ведет к дисквалификации определенности Я через «иное», данной и заданной в нашем обыденном мире, то есть через вещи, других людей, Бога и т.п. Вот здесь-то и рождается сомнение: да, и Я ли это? мое ли это мышление, наполненное представлениями, которые заимствованы из привычной и столь милой в этой привычности повседневности? мое ли это бытие, определяемое столь множественным иным? Хорошо, рассуждает Декарт, давайте спокойно разберемся с тем, что мы столь привычно называем Я.
Поэтому в определенном смысле можно понимать сомнение и как своего рода переправа, переход, инициация, rites de passage и потому как преображение, трансфигурацию - именно взятая в этом смысле процедура сомнения соприкасается с метафорой или символом смерти. Сомнение словно втягивает нас в какую-то временная смерть, в которой умирает мир и вместе с ним наше привычное и, казалось бы, неотъемлемое существование в мире. Оно соприкасается с метафорой или символом смерти: «декартовский человек» в неудержимом ходе дисквалификации мира словно умирает для мира вместе с умерщвлением самого мира, но только для того, чтобы вернуться к свету, «естественному свету», к самому себе и взглянуть на мир обновленным взором. Сомнение удивительно похоже на ослепление, по крайней мере, на символическое ослепление, за которым может, если хватит сил и воли, последовать прозрение как символ обретения нового зрения, нового видения, столь не похожего на обычное, повседневное. При этом мыслящий обретает именно свое Я, а тем самым и новый статус, - само-стоятельное, авто-номное, суверенное существование, - Я словно возвращается в свой дом (Heim), обретает только ему свой-ственное, «родное» (heimlich) место. Декарту вовсе не нужно чужое место, некстати или случайно занятое Я, его, по крайней мере, на этапе сомнения интересует мир Я. Наверное, к Декарту можно отнести характеристику, данную Вин-дельбандом Августину - «виртуоз самонаблюдения и саморазложения»44, хотя стоит сделать небольшую поправку, убрав «само-», так как Декарт предлагает понять себя, то есть Я, как метафору мира, но мира отделенного от всего остального мира, миров. Однако в результате мы мгновенно получаем не только разграничение миров, но и их мультипликацию, при этом самодостаточность «моего» мира порождает равнодушие, атараксию к другим, непроницаемые по своей сути, - только Бог, по версии Декарта, связывает эти миры в бытийных актах их подтверждения и неустанного воспроизведения.
Но тем самым операция сомнения ведет нас к установлению своего рода нулевой точки отсчета опыта мышления, в которой сцепляются, связывают воедино и когитальное и онтическое измерение, что и позволяет, по мысли Декарта, «из этого полнейшего сомнения... словно из незыблемой и исходной точки, вывести познание Бога», других и «все существующие в мире вещи». Поэтому можно говорить о том, что вся метафизика Декарта конституируется поиском определенности, или предельности Я. Однако особенность обретения этой определенности заключена в весьма специфической мотивации декартовых размышлений - желанием быть самим собой, или, если это желание несколько переформулировать — главное не принять чужое за свое. И это желание Декарт стремится артикулировать в опыте мысли именно для того, чтобы совершить раз-личение и среди множества ликов и масок увидеть свое лицо, лицо вещи, лик Бога. Желание весьма понятное, но весь вопрос состоит в том, как, каким образом попасть в это состояния определенной различенности Я, благодаря чему может состояться Я как самостоятельное событие, не ища гарантов вовне, снаружи.
Определение такой нулевой точки открывает нам рождающуюся действительность утверждения и учреждения Я в виде актов отрицания о-пределения территории вещности, предельности ее протяженности, ее границ, и благодаря этому очерчивания границ перед нами открывается совершенно новая территория феноменальности, складывающейся на основе принципов, лежащих по ту сторону вещей как таковых и в то же время дающие нам почувствовать невозможность «прочитать» себя, свое Я на «языке» предметности, «языке» вещей, внешних «мыслящему», - и тогда в сумерках вещей, событий, лежащих по ту сторону Я, забрезжит блаженная свобода от затасканных, но навязчивых понятий, идей, представлений, возникших в рутине повседневности и складывающиеся в «непоколебимые» тривиальности здравого смысла. Наивная вера в вещи, в ее тождественность, порождает веру и в логику, скользящую по отождествленным вещам и не способную оторваться от них. Декарт как раз и пытается снять репрезентативные обязательства логики мышления. Конечно, намного легче и даже комфортнее мыслить, выстраивая акты мышления на предметно-вещных референция, когда доказательство, обоснование становится производной функцией предметно-вещного языка, а вещь, столь очевидная в здравом смысле, удостоверяет легальность и легитимность мысли, правда, при этом сама мысль, ее действительность оказывается в какой-то обморочной непрозрачной пелене.
Определение человека
Определение человека По-видимому, начиная с Анаксагора и далее и у Сократа, и Платона, и Аристотеля, Боэция можно найти определение человека как рационального существа. Например, Боэций определяет человека как «индивидуаль от ную субстанцию разумной природы» . Этот список можно продолжить и Августином, и Авиценной, Фомой Аквинским, и т.д., доведя его вплоть до сегодняшнего дня. Но Декарт, по-видимому, был первым, кто почувствовал серьезную угрозу опыту философского мышления, истекающую из определения animal rationale. Поэтому он пытается выявить то измерение, в котором феномен, именуемый «человеком», способен расположиться (разместиться) в действительности имманентности, правда, эффектом подобного промысливания у Декарта стало жесткое замыкание Я в зоне коги-тальности, ибо, по его убеждению, именно там оно обладает самостоянием.
Итак, «ratio» выступает как ядро определения «человеческого суще ства». Но что является основанием подобного хода? В принципе до Декарта философия активно пользовалась техникой дефиницирования, которая сложилась еще в схоластической традиции, то есть определение конституировалось через родовые и видовые различия, отсюда и столь расхожее определение «человек - это рациональное животное». В данном случае «животное» выступает как род, а «рациональное» выполняет функции видового отличия. Но тогда, как писал, например, Боэций, «...человек есть не что иное как субстанция телесная, одушевленная, чувствующая, разумная и смертная. Мы обычно определяем человека как разумное смертное животное, включая в [понятие] животного субстанцию, телесность, одушев-ленность и наделенность чувствами» . Определения подобного типа всегда предполагают, что мы знаем, что такое «животное» и «рациональное».
Мы буквально эксплицируем предикаты «человека», следуя родовидовой иерархии, «разворачивая» порядок предикации от высшего рода до индивидуумов. Однако Декарт радикально меняет логику определения, - «человек - это мыслящая вещь, существо которой заключено в Я мыслю », - и здесь начинает действовать то, что можно назвать логикой имплицитности. Декарт постоянно стремится показать, что «Я мыслю» не предполагает формально-логического знания того, что такое мышление. Мышление всегда дано в акте собственного исполнения. Это и есть своего рода импликация, которая пытается не воспроизвести эксплицитное отношение между понятиями, а развернуть акт, который и является актом мышления. Но, тем самым, мы смещаемся из размерности иерархии субстанций и соответствующих им логических понятий к размерности имманентности, где «Я мыслю» оказывается и самим мышлением, и разворачивающим эту действительность мыслящим Я. На подобную логику работает и утверждение принципиальной конечности человека - конечность субстанции, поэтому стремление к имманентности становится желанием обрести и сохранить «свое место»: «теперь мне придется опасаться, как бы я случайно самым нелепым образом не посадил на свое место (in locum mei) кого-нибудь другого и не отклонился бы от истины в том знании, которое для меня должно быть вернейшим (В. - самым достоверным) и очевиднейшим».
Ход мысли совершенно безукоризненный: «на моем месте» обесцениваются все «свидетельства», все иные перспективы, разворачивающиеся за пределами «моего места», то есть неимманентные . Конечно, есть существенное различие в логическом определении в узком смысле и определениях, складывающихся собственно в философской логике, логике философии. И здесь вопрос далеко не в субъекте и предикатах, родах и видах, - Декарт одержим идеей найти не столько определение человека, сколько выявить имманентную ему о-пределенность. Я думаю, подобную логику вполне отчетливо и ясно воспроизвел Гегель. Рассуждающее (rasonierende) мышление, по Гегелю, в своей негативной функции или «поведении» предстает как «самость, в которую возвращается содержание». Однако самость в своем положительном поведении есть - «представляемый (vorgestelltes) субъект, к которому содержание относится как акциденция и предикат». Этот логический субъект как самость оказывается тем фундаментом, к которому «прикрепляется содержание» и в пределах которого совершается движение этого субъекта. Но все обстоит иначе, как только мы обратимся к собственно философскому мышлению, к мышлению в понятиях. Понятие есть собственная самость предмета, которая представляется как его становление. Поэтому субъект не просто покоящееся основание, фундамент, несущее акциденции, а он проникает в различия и в содержание и скорее составляет определенность, т.е. как различаемое содержание, так и движение его, а не противостоит неподвижно этой определенности. Он сам становится о-пределением. Иными словами, «декартовский человек» как субъект логического определения оказывается в движении, колебании, но и содержание уже вовсе не его предикат, «а субстанция, сущность и понятие того, о чем идет речь». Складывается несколько парадоксальная ситуация: «то, что в предложении имеет форму предиката, есть сама субстанция», поэтому предикат и есть субстанция (мышление), но, по словам Гегеля, «субъект перешел в предикат и тем самым снят», тем самым «тяжесть» массы подобного предиката начинает изменять ход мышления, его траекторию, «теперь на место названного субъекта вступает само знающее «Я», которое связывает предикаты и есть удерживающий их субъект»91.
Основные проблемы, персонажи, темы трансцендентального сценария
Попробуем определиться в том круге проблем, которые вызывают к жизни трансцендентализм. Трансцендентальный сценарий пытается дать отчетливую артикуляцию мышления, способного разворачиваться на собственной основе. По словам Канта, «для человеческого разума унизительно то, что он в своем чистом применении ничего не может добиться и даже нуждается еще в дисциплине, чтобы обуздывать свои порывы и оберегать себя от возникающих отсюда заблуждений. Но с другой стороны, его опять возвышает и возвращает ему доверие к себе то обстоятельство, что он может и должен сам пользоваться этой дисциплиной, не допуская над собой чужой цензуры, а также то обстоятельство, что рамки, в которые он вынужден поставить свое спекулятивное применение, ограничивают также и притязания всякого его умствующего противника, так что все, что осталось бы для него от его прежних преувеличенных требований, может быть гарантировано от всяких нападок. Итак, величайшая и, быть может, единственная польза всякой философии чистого разума только негативна: эта философия служит не органоном для расширения, а дисциплиной для определения границ, и, вместо того чтобы открывать истину, у нее скромная заслуга: она предохраняет от заблуждений».
Однако за этим «определением границ» скрывается ощущение того, что уже что-то произошло с мышлением, которое потеряло свою чистоту, что мышление оказалось втянуто в какие-то постоянные подмены философского опыта чем-то иным, что за гносеологическим оптимизмом таится невозможность или, по крайней мере, какие-то затруднения со знанием, что что-то произошло с моралью, которая стремительно замещается конформизмом, а на место опыта самостоятельной чистой воли приходит «общая воля», что что-то происходит с самим чувством жизни, которое трансформируется в чувство «приятного», в чувство «комфорта и безопасности», оказывающееся, по сути, подавлением как раз этого чувства жизни как игры способностей, да и потеря способностей вообще. Именно эти мутации, которые подобно пятнам начали покрывать всю поверхность мыслящего Я, стали интеллектуальной мотивацией поиска территории чистого мышления.
Итак, перед нами расстилается достаточно интересный в своей гетерогенности ландшафт: действительность трансцендентального мышления, действительность опыта и действительность в себе; которые охватываются эпистемической размерностью, где обитает анонимный субъект, увлеченно занятый не сущими, а предметами, объектами, существование которых определяется законами природы, устанавливающие жесткие детерминационные процедуры. Однако, с другой стороны, вполне отчетливо просматривается территория, находящаяся в ведении иной детерминации - территория моральной событийности, в которой господствует то, что Кант называл, «причинностью свободы», то есть территория свободы; и, наконец, маргинальная зона, подвижная, меняющаяся, постоянно нарушающая архитектонику и опыта познания и морального поступания, расположившаяся между двумя первыми и ставшая полем экспликации «чувства жизни». Вполне естественный интерес вызывают к себе интерес «обитатели» этих территорий. Они весьма специфичны, если не сказать, экзотичны: трансцендентальный субъект, Я, Другой, Чужой, а где-то на периферии, хотя и неотчетливо, но все же просматривается «неопределенное эмпирическое здесь-бытие многоцветной и многоскладочной самости». Естественно, главным «героем» является трансцендентальный субъект, однако благодаря тому, что ему приходится иметь дело с тремя различающимися между собой территориями событийности, он оказывается обладает, если так можно выразиться, тремя ипостасями, которые существуют «нераздельно и неслиянно». При этом «лики» трансцендентального субъекта, за каждым из которых стоит определенный онтологический статус, основание, или точнее, онтологическая интуиция, явно различаются не только по своим манифестациям, но и по конститутивным принципам.
С одной стороны, трансцендентальный субъект берет на себя роль конститутивного начала, будучи принципиально анонимным и выступая своего рода пустой трансиндивидуальной позиционностью, с другой, - в эпистемическом объектном поле человеческое существо, эмпирический субъект, предстает в качестве предмета, то есть как рецептивное, полностью определяемое Законом существо. Поэтому мышление в трансцендентальной версии предстает достаточно сложной формацией, включающей в себя не только спонтанность, но и седиментации, пассивные синтезы, самого пассивного субъекта, которые располагаются в самом основании действительности мышления. Здесь вполне уместно вспомнить кантовскую «Антропологию...», где антропология предстает как тематизация событийности человеческого существа рассматривается в двух версиях, - «физиологической» и «прагматической», первая из которых обращена к тому, «что делает из человека природа», а вторая - к тому, «что он как свободно действующее существо делает или может сделать из себя сам», иначе говоря, Кант выделяет своего рода «страту» событийности человеческого существования, на которой господствует рецептивность, и «страту» спонтанности.
Персонажи, которых предлагает трансцендентальный сценарий, весьма разнообразны: Я и мир с различающимися конститутивными принципами, здравый смысл, чистое мышление, трансцендентальный субъект как неожиданно равнодушная к здесь-бытию самости форма (фактически, трансцендентальный субъект выступает как внеперсональная инстанция в маске персоны), «Бог как моральный творец», Я как нравственное существо, как эстетическое существо. И эти персонажи располагаются на ландшафте, где вполне отчетливо просматриваются определенные территории: трансцендентальная зона мышления (рассудок, разум, воображение, время пространство), на которой в качестве основной институции доминирует рассудок; моральная зона, на которой господствует воля как способность желания, разворачивая действительность нравственного поступка; и, наконец, территория «чувства жизни» или «суждения вкуса», на которой запускаются в игру все способности человека.
В целом трансцендентальная размерность философского мышления - это метафизика именно в смысле «метафизики» Аристотеля, то есть это то, что раскрывает синтезы, связь с условиями, но условиями, всегда включенными в это трансцендентальное поле, или в то, что предполагает превращение самое себя в условия собственного существования. В целом смещение от декартовского сценария к трансцендентальному мотивируется стремлением выявить условия возможности а) представления предмета (и тем самым мира, человека) в опыте знания, б) представления акта воли, а, тем самым, морального поступка; в) самого субъекта, способного осуществлять суждение на основе чувства жизни. Это определило особенности и тематической ориентации, и концептуальной артикуляции.
Во-первых, трансцендентализм, подобно Декарту, втягивается в поиски территории собственно философского мышления и тем самым, и того, кто философствует, жестко отграничивая от здравого смысла, sensus communis а, от художественности и религиозности только для того, чтобы обрести статус чистого философского мышления, способного разворачиваться на собственном основании.
«Онтологический человек» в онтологическом ландшафте
Онтология как наружность, "наружное" архаико-физического сценария собрана из дистанций, расстояний dynamis oe (сил-возможностей) Arkhe. Эти рас-стояния расставляют сущие, сохраняя структурную определенность архаико-фюзического сценария, особенно его топографичность; разметку пространств под дюнамико-генетическое движение сущего к вынесенному за его пределы telos y. Хотя надо отметить, что онтология предпринимает коррекцию: выделяется некий привилегированный physis, который берет на себя функцию центрирования и гомогенизации действительности. Этот выделенный physis становится утверждением Другого, его тотального отношения к любому сущему, любому событию, то есть инстанции, которая принимает на себя роль начала отсчета любой возможной системы координат. Благодаря этому закладывается такая топографическая структурность, когда Другой оказывается способен разметить любое сущее как нормальное или патологическое, реальное или иллюзорное, безумное или разумное и т.д. Другой как универсальная мера, фундаментальный эквивалент и гарант существования любого сущего становится устройством идентификации и идентичности сущих. И этот Physis выстраивает генеалогию всех сущих, становится настоящим под-лежащим (Ьурокеітепоп ом) для всего. В чем особенность такого шага?
Аристотель в XI книге "Метафизики" описывает генеалогию сущего, показывая сборку его топоса: есть то, что лежит за пределами событийности сущего, но приводит его в движение; есть время в котором это сущее осуществляет движение; то, из чего, и то к чему, оно движется224. Это, в принципе универсальная матрица сущего, это матрица их генеалогической идентичности, связности, родства и близости. Однако связывает то, что само стоит по ту сторону любого сущего, и тем самым для человека предстает вне человеческим, живущим по закону, несоразмерному Я, определяя и собирая это Я совершенно нечеловеческим способом. Однако этот не-, вне и дочеловеческий Physis собирает одним и тем же образом всех, давая каждому место и время. Поэтому существа, заключенные на онтологической территории, обретают единый язык-речь, разворачивающую каналы общения, которые сливаются в общности. Иначе говоря, установление инстанции Другого, аннексировавшего Сущность, Истину, Бытие, разворачивает коммуникативное пространство и его ценностные эстетические и этические дубликаты, гарантируя при этом равенство позиционностей Я перед лицом Другого.
Онтологическое позиционирование Другого берет на себя роль предшествование, предопределение генезиса/движения сущих. Собственный physis, присущий тому или иному сущему, изымается, - все как бы выворачивается наизнанку: physis оказывается не по эту сторону сущего, наоборот, он вне его, то есть physis предстает перед ним в виде Истины-Бытия-Сущности, а сущее превращается в объект, предмет, вещь, которые вроде бы сохраняют свою преднамеренность, но эта преднамеренность лежит вне их. Другой - это устройство тотализации истины, сущности, бытия за пределами существования/экзистенции и сознания онтологических объектов. Это предшествование строит развертку онтологического события таким образом, что онтологическая "вещь" - всегда то, что приходит после Другого, из него, что является филиацией Другого, который благодаря этому утверждается в статусе Отца (взятом в лакановском смысле). Другой поэтому - это не просто прошлое, да и не столько прошлое, это - вечное, неустранимое, неизменное и неизменяемое. Онтология выстраивается вокруг Другого, создавая его культ и продуцируя особые ритуалы сакрализации этой топики и достижения, удержания и хранения истины. По сути дела, она принципиально инцестуозна: онтологическое событие всегда привязано к Другому как "Предку-Прародителю", который гарантирует рождение, дает средства (и даже часть самого себя) для становления, указывает цельelos, направляя на путь истины и не давая отступить к онтологическому ничто, неистине. Онтологический Другой на этих топосах и маршрутах захватывает и удерживает сущее: он вспарывает, взрезает сущее для того, чтобы встроить в него свои дубликаты, субституты, разметить и проложить каналы для собственного входа и выхода. После подобной онтологической обработки (разделки) сущее - всего лишь дубликат, имитация, некий определитель-индикатор присутствия Другого, при-сутствия при сущности.
Онтологическое событие обнаруживает тем самым свою принципиальную пустоту, - оно может, или, точнее, должно быть заполнено чем-то иным или указать на нечто иное, чем оно само. Эта пустота становится принципом существования события (людей, вещей, идей и т.п.), его существом, "естественностью", его готовностью иством, "естественностью", его готовностью и способностью быть наполненным. Поэтому онтологическая топография содержит зоны пустых, нерожденных и мертвых событий, зоны dynamis a (силы-возможности-способности- могущества), зоны, где Другой как властвующая сила способен заставить любое сущее стать своим повтором, мультиплицируя его в топосах отсутствия, рождения и смерти. Другой создает для каждого и тем самым для всех событий телеологический горизонт становления/рождения и движения. С одной стороны, Другой - это отсутствие, принципиальное неприсутствие сущего в этом топосе, пустота, фикция, но фикция на службе разворачивания реальности. С другой - именно в этом отсутствии он утверждает себя в симулятивных, миметических, имитационных актах, исполняемых сущими в их становлении/рождении. Люди, боги, идеи, вещи, символы, события - все это только повтор, мимезис Другого, это постоянный его уход для того, чтобы указать на дистанцию между собой и сущими, и это столь же неизбежный возврат во имя того, чтобы удержать, придержать сущее на этом маршруте, маршруте присущности. В этой постоянной пульсации уходов и возвратов онтологический человек движется по дороге, на которой Другой оставил свои следы, отпечатки. Поэтому сознание возникает только на месте следа-воспоминания о Другом. Но это сознание - забвение самого себя, само-отверженное забвение во имя Другого, забвение, превращающее Я в территорию, открытую для вторжения Другого. "Отдельный индивид должен пройти ступени образования всеобщего духа, но как формы уже оставленные духом, как этапы пути, уже разработанного и выравненного... Это прошлое наличное бытие - уже приобретенное достояние того всеобщего духа, который составляет субстанцию индивида и, таким образом являясь ему внешне, - его органическую природу"225 Онтология предоставляет человеку его потерянное место, место потери, пропажи, исчезновения, оттого его сознание устроено как бы на принципе Шахразады: Шахразада жива, покуда льется ее рассказ; прерывание - смерть для нее. Это совершенно особый тип коммуникации между Другим и Я, диалог палача и его жертвы, в котором Другой постоянно вопрошает Я: "Кто ты такой? Где ты находишься? Что ты сделал? Что ты должен делать?" Другой вопрошает, и благодаря этому вопрошанию Я вызывается к жизни. Именно поэтому в онтологии нереальность собственного существования сущего, отсутствие собственного основания для существования требуют безостановочной речи-мышления, обращенного к Другому и подтверждаемого им.