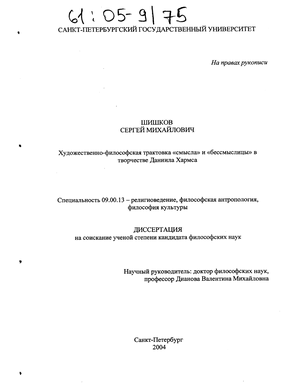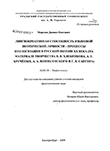Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Философские основы творчества Д. Хармса в контексте философии чинарей
1. Возвышенное как метафизическая проблема
2. Бессмысленное в трактовке и оценке Хармса
3. Критика рационализма
4. Эзотеризм и иррациональное в творчестве Хармса
5. Знаки в творчестве Хармса
Глава 2. Философско-художественная теория Д. Хармса
1. Время, счет и их место в поэтической системе Хармса
2. Цисфинитум (третья цисфинитная логика бесконечного небытия) 61
3. Круг, ноль и бесконечность Стр. 69
4. Абсурд и черный юмор как средства художественной деструкции 77
Заключение Стр. 94
Список литературы Стр. 97
- Возвышенное как метафизическая проблема
- Эзотеризм и иррациональное в творчестве Хармса
- Время, счет и их место в поэтической системе Хармса
- Абсурд и черный юмор как средства художественной деструкции
Введение к работе
Последние десятилетия XX века характеризуются всплеском интереса к творчеству Д. Хармса, который выразился не только в многократном издании его произведений, выходе в свет полного собрания сочинений, но и многократными попытками изучения его творчества. Появляются литературоведческие и культурологические труды, посвященные исследованию его творчества, причем ученые, рассматривающие в том или ином ракурсе его наследие, с необходимостью сталкиваются с чисто философскими проблемами. Это происходит оттого, что сами по себе тексты Хармса глубоко философичны, дразнят воображение очевидной глубиной и многомерностью, но одновременно и затемненностью смысла. Кроме того, для современной культуры Хармс притягателен именно потому, что говорит с ней на одном языке.
Язык современной культуры обусловлен теми интеллектуально-культурными интенциями, которые обозначились главенствующими в переменах 80х-90х годов. Если вспомнить недавнее прошлое, то в общей атмосфере культурного хаоса того времени заметно сильное проявление именно тех направлений, которые условно можно обозначить как «абсурдистские». Ю.М. Лотман в статье «Механизм смуты» говорил о различиях бинарной и тернарной системы, размышляя о смутах в русской истории, как глобальных кризисах, уничтожающих прошлый уклад жизни и кладущих основы абсолютно нового1. Последняя русская «смута» характеризуется прежде всего своей «мягкостью», и сравнивая ее с иными историческими катаклизмами можно сказать что хотя это и смута, но «бархатная» - так как произошедшая структурная перестройка, потрясая основы общественной организации, обошлась почти без кровопролития. Если это и означает некоторое изменение в плане преобразования бинарной
системы в тернарную, то не последнюю роль в этом играла (по крайней мере выполняя функции маркировки) та всеобъемлющая ирония, которая в нашей культуре проявилась впервые в творчестве Д. Хармса. Тем и обусловлен возросший интерес к его произведениям именно в 90е годы прошлого века, что в культуре появились соответствующие настроения, которые в общих словах можно описать как иронично-абсурдистскую трактовку мира, стремление избавиться от «культурных идолов» в поисках аутентичного, живого смысла. Важно заметить, что пафос абсурдистской иронии является антибуржуазным по преимуществу, и тем не менее, органически присущ именно буржуазной культуре, ее формализованности, высокому уровню юридического, бюрократического регулирования. Нонсенс зачастую -антипод «юридической» логики, ее оборотень. Поэтому левые настроения в данном случае не говорят о радикальной оппозиции в смысле бинарной системы - как оппозиции стремящейся овладеть политической властью, а скорее о культурной рефлексии, провоцирующей изменение интеллектуальной атмосферы в обществе, подготавливающей те самые «постепенные» изменения, которыми по Лотману и характеризуется тернарная структура.
Не менее важное значение для современной философии имеет и тема соотношения смысла и бессмысленного, к которой вплотную подходил в своем творчестве Хармс. Друг Хармса, философ Я.С. Друскин говорит о «бессмыслице» как о главном термине для понимания его поэтики. Причем можно уточнить, что бессмысленное у Хармса - это одна из определяющих сил, источников жизни в ее темной, скрытой от человеческого разума основе. Это как точка, разворачивание которой дает иные важные, соотносимые с главной, темы - Время, Бог, смерть. Здесь поэтическое слово Хармса поднимает существенные для каждого проблемы выявления скрытого и потому наиболее важного смысла, спрятанного «по ту сторону»
1 См.: Лотман Ю.М. История и типология русской культуры // Механизм смуты. СПб., 2002, с. 33-47
конвенциональных конструкций. И Хармс, и наиболее близкий ему поэт А.В. Введенский стремились прежде всего преодолеть условность языка, увидеть в нем абсолютное. Друскин сказал: «Не передаваемые словами мысли, может, даже немыслимые мысли и состояния сознания, сам язык - вот две основы и отдельной человеческой жизни, и всей человеческой культуры. Первое, может, доходит и до самой глубины жизни и истинной реальности, но не может быть сказано словами, второе передает жизнь, реальность словами, но передает эту реальность переломленной через язык...Язык делит мир на части, чтобы понять его. И понимает части разделенного языком мира». Вся суть парадокса, так притягательного для современной логики и логической философии скрыта в этом положении. Пытаться средствами языка описать то, что принципиально не может быть этими средствами выражено - вот существо поэтики Хармса. И значимость, необходимость предпринимать такие попытки не только в искусстве, но и в философии, подтверждается новейшей историей философии, сближением философии в своих методах с литературой, проявившемся во второй половине XX века. Попытка отказа от выражения невыразимого, имевшая место в философии венского кружка, в логическом атомизме другим своим полюсом имела усиление интереса к парадоксу и бессмысленному.
Темы парадокса и смысла остаются крайне значимыми и для философии, и для культурологии, и для семиотики, а научное исследование творчества Хармса, полагаем, позволяет выйти к неким новым горизонтам их освоения.
Творчество Д. Хармса исследуется в работе прежде всего в ракурсе философского знания. Именно этот подход недостаточно разработан в науке, хотя все исследователи творчества Хармса затрагивали его отношение к философской проблематике. Исследованию творчества Хармса посвящен целый ряд работ, причем в основном изыскания проводились в области
искусствоведения такими учеными как А.Г. Герасимова, Н.В. Гладких, Н.В. Глоцер, Л.Ф. Кацис, А.А. Кобринский, М.Б. Мейлах, В.Н. Сажин и др.
Наиболее значимыми источниками являются авторские монографии, целиком посвященные тем или иным аспектам творчества Хармса. Поскольку их немного, все они могут быть названы и кратко охарактеризованы.
Прежде всего это фундаментальный труд швейцарского русиста Ж.Ф. Жаккара «Даниил Хармс и конец русского авангарда», переведенный и изданный у нас в 1995 году. Эта книга представляет собой весьма основательное историко-литературное исследование, в котором детально и последовательно описывается литературно-культурный контекст эпохи творчества Хармса, выявляются литературные влияния на Хармса со стороны В. Хлебникова, А. Кручёных, Н. Туфанова, прослеживается взаимосвязь концепции творчества самого Хармса с теориями К. Малевича и М. Матюшина, а также отмечаются следы воздействия на Хармса других поэтов и философов, входивших в литературно-художественные группы Чинарей и Обэриу. В книге Жаккара детально исследуется взаимосвязь поэтики Хармса и европейского театра абсурда Э. Ионеско и С. Беккета. Эта работа имеет большое значение как первый полноценный научный труд, исследующий творчество Хармса, характеризуемый блестящим знанием материала не только как такового, но и во всем многообразии его контекстуальных связей, полнотой и последовательностью изложения.
Вторая работа, связанная с изучением наследия Хармса -«Беспамятство как исток: читая Хармса» отечественного культуролога М. Ямпольского. В данной работе сделана попытка во первых исследовать тексты Хармса с позиций интертекстуальности, причем такая постановка задачи представляется весьма интересной, поскольку Хармс сознательно стремился построить как бы вневременной текст, вопреки концепции линейного развития литературы и преемственности автора, его зависимости
от предшественников. Предметом интереса Ямпольского также выражение в текстах проблемы времени. Парадокс, заключающийся в том, что классическое представление истории как континуума, имеющего единую продолжительность, является чистым умозрением и реальная практика каждого индивида исходит из «атомарных событий», был интерпретирован Хармсом в его «случаях», которые изначально строились как вневременные, абсолютные события, не укорененные в едином строе происходящего. Главной темой в исследовании творчества Хармса для Ямпольского являются темы времени и памяти в их взаимосвязи, возникновение текста «из ничего», не обусловленность его конкретно-историческими событиями. Предметом исследовательского интереса становится принципиальный отказ поэта от связей с предшествующим литературно-историческим «полем значений». Отсюда возникает и новая роль знака - не отсылки к «уже известному», не цитаты, как выражения меланхолической рефлексии над разрушением мира, а иероглифы, выражающие некие абсолютные, вневременные смыслы.
Последнее на момент написания настоящей работы значительное исследование творчества Хармса - компаративистский труд Д.В. Токарева «Курс на худшее: абсурд как категория текста у Даниила Хармса и Сэмуэля Беккета», вышедший в 2002 году в издательстве НЛО. В данной работе исследуется выражение Хармсом и Беккетом одной и той же идеи -абсолютизации абсурдности мира и человека. Автора интересует прежде всего механизм действия причин, побудивших поэта отказаться от теории выявления в слове вневременного, божественного смысла и устремиться к созданию литературы, которая видит «единственный смысл своего существования в самоуничтожении, в достижении молчания белой страницы».2 Работа Токарева является наиболее близкой к собственно философской проблематике творчества Хармса, чем два вышеуказанных
2 Токарев Д.В. Курс на худшее: абсурд как категория текста у Даниила Хармса и Сэмуэля Беккета. М., 2002, с. 14
труда. Хотя и Ямпольский, чья книга изобилует апелляциями к тем или иным философским источникам, отмечает: «гораздо большее место, чем это принято в филологических текстах, в книге занимает философия. Это обусловлено пристальным вниманием Хармса именно к философским, метафизическим понятиям, к сфере «идей». Существенно однако то, что философия интегрируется Хармсом не в некую философскую систему, а в ткань художественных текстов»3. Тем самым заявлено, что исследование творчества Хармса невозможно без привлечения философской проблематики. Тем не менее, до настоящего момента такого специального исследования не было предпринято, что и обусловливает новизну предпринятого научного исследования.
Важнейшими источниками для настоящей работы являются тексты философов-чинарей - Я.С. Друскина и Л.С. Липавского, вошедшие в двухтомник «Сборище друзей, оставленных судьбою». В указанный сборник вошла значительная часть философских текстов, которые имеют первостепенное значение для понимания творчества Хармса, в том числе такие статьи Друскина как «Чинари» и «Звезда бессмыслицы», в которых философ вплотную приближается к теме бессмыслицы в творчестве Введенского и Хармса.
В современной философии смыслу в его сочетании с парадоксом посвящена одна из наиболее значимых работ Ж. Делёза («Логика смысла»). Исследуя понятие смысла, раскрывая его в новой интерпертации, Делёз отталкивается от книг Л. Кэролла, указывая, что в творчестве последнего присутствует «игра смысла и нонсенса, некий «хаос-космос». Бракосочетание между языком и бессознательным - уже нечто свершившееся». Для Делёза важнейшим при создании теории смысла становится представление о времени, о становлении - тем самым можно говорить об универсальности возникающих в философии смысла тем, через
3 Ямпольский М. Беспамятство как исток (читая Хармса). М., 1998, с. 14
которые прежде всего преломляется понимание: становление, событие, время, происходящее.
Кроме сочинений Делёза, из непосредственно философских источников следует назвать труды Р. Барта, А. Бергсона, Н.А. Бердяева, Э. Гуссерля, Н.О. Лосского, Р.У. Эмерсона, К.Г. Юнга и др., а также современных отечественных ученых, исследующих философскую проблематику в искусстве - В.П. Бранского, А.А. Грякалова, В.М. Дианову, И. Евлампиева, А.Л. Казина, М.С. Кагана, Ж.Ф. Коновалову, А.А. Курбановского, Ю.В. Перова, В. Подорогу, Г. Померанца, М. Рыклина, В.В. Савчука, К.А. Свасьяна, Е.Г. Соколова и других.
Целью диссертационного исследования является анализ трактовки понятий смысла и бессмысленного в творчестве Хармса. В связи с этим ставятся следующие задачи:
выявление философской проблематики в текстах Хармса;
исследование философских источников его теории творчества;
установление значения осуществленной Хармсом критики рационализма;
исследование творчества Хармса как элемента смеховой культуры;
определение значения творчества Хармса в общем контексте философских исканий русского авангарда.
Исследование проводится в междисциплинарном пространстве философии культуры, эстетики и литературоведения, что обусловливает применение соответствующего комплекса методов и стратегий. При написании работы использовались:
метод исторического и теоретико-философского анализа;
методы системного анализа, дающие возможность рассматривать различные, не связанные явно между собой эмпирические данные как элементы единой мировоззренческой структуры;
- компаративистский метод, позволяющий сопоставлять единовременные и разновременные явления и выявлять логику их трансформации.
В исследовании впервые ставится задача собственно философского анализа текстов Хармса. Философскую «нагруженность» текстов Хармса отмечают все исследователи, так или иначе причастные к изучению его творчества. Отсутствие в наследии Хармса философской системы в «чистом» виде тем не менее не исключает возможности изучения присутствующих в его текстах идей философского характера, явно философской проблематики текстов. Такой подход оказывается продуктивным как для более глубокого понимания творчества писателя, так и для изучения роли и значимости затронутых им тем в современной отечественной культуре и философии.
По своей структуре настоящая работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы. В первой главе - «Философские основы творчества Д. Хармса в контексте философии чинарей», речь идет о наиболее важных с философской точки зрения темах в творчестве Хармса, отразившихся также в философии участников кружка чинарей. Во второй главе, «Философско-художественная теория Д. Хармса» речь идет о понятиях, выдвинутых Хармсом и имеющих философское значение. Исследуются философские взгляды чинарей на время, число, а также созданные ими понятия «некоторого отклонения с небольшой погрешностью» и цисфинитной логики.
Возвышенное как метафизическая проблема
Нечто весьма притягательное в обэриутах, то, чем создается их своеобразная магия, можно при первом приближении определить как ощущение причастности к величественной тайне, возникающее при чтении их текстов. В самом строе языка, в употреблении устаревших слов, архаических оборотов (в сочетании с вполне актуальным смыслом) проявляется некоторая возвышенность особого характера. Именно это швейцарский исследователь творчества Д. Хармса Ж.-Ф. Жаккар определяет как возвышенное, находящееся «в самом произведении искусства, рассматриваемом как автономный предмет в качестве эстетического отображения некоего философского видения»1. В чем заключается то возвышенное, которое позволяет говорить о философском видении или философии у Хармса? Возможно, в явном противопоставлении поэтом себя окружающей социальной реальности. Противопоставляя себя ей он, однако, не был представителем сторонников «старого строя» - ни монархистом, ни демократом. В нем вообще меньше всего заметен какой-либо политический интерес, а также и вообще сколько-нибудь выраженная социальность. Претензии его к советской власти были скорее эстетического характера. Отталкиваясь от окружающей неприятной действительности Хармс и другие обэриуты направляли себя на поиск «возвышенного». Чтобы более четко определить, что имеется в виду под «возвышенным» в контексте настоящей работы, следует сразу оговориться, что здесь не имеется в виду возвышенность стиля в обычном понимании этого слова, а также героизм, самоотречение, иная элитарность которые можно было бы определить как социально-возвышенное. Аналогичную проблему определения понятия ставил и Ж.-Ф. Жаккар, указывая при этом на возвышенное как эстетическую категорию и отделяя это проявление от всех других. Под возвышенным как философско-эстетической категорией понимается особенность настроения, выраженного в художественном тексте путем определенной смысловой и стилистической работы, приводящая к ощущению прикосновения к вещам глобального порядка, к предметам, перед которыми следует искренне преклонятся в силу их статуса. Так, примером может послужить фрагмент из сценки № 17 «Случаев», под названием «Макаров и Петерсен»:
Макаров: Тут, в этой книге, написано о наших желаниях и об исполнении их. Прочти эту книгу, и ты поймешь, как суетны наши желания. Ты также поймешь, как легко исполнить желание другого и как трудно исполнить желание свое.
Петерсен: Ты что-то заговорил больно торжественно. Так говорят вожди индейцев. Макаров: Эта книга такова, что говорить о ней надо возвышенно. Даже думая о ней, я снимаю шапку. Необходимо указать на различие возвышенное и пафосного, последнему Хармс был абсолютно чужд, отрицая всякую необходимость социализации, карьеризма и т.п. В записной книжке его есть запись от 31.10.1937: «Геройство, пафос, удаль, мораль, гигиеничность, нравственность, умиление и азарт - ненавистные для меня слова и чувства. Но я вполне понимаю и уважаю: восторг и восхищение, вдохновение и отчаяние, страсть и одержимость, распутство и целомудрие, печаль и горе, радость и смех». Добродетели первого порядка относятся к сфере социального, и разделение это, видимо, как раз отталкивается от дихотомии социальное - личное. Ощущение возвышенного также возникает в связи с невозможностью представить себе какой-либо объект, согласующийся с данным понятием, но при этом речь не идет об объекте всякого рода - это должен быть объект, обладающий такой полнотой положительных качеств, что представить его себе в виде конкретного образа оказывается выше человеческих к тому способностей. В этом чувстве имеется значительная доля религиозного, самые высокие из религиозных представлений также сводятся к такого рода невозможности представить себе благое существо, хотя на его бесконечное величие указывают постижимые в какой-то степени атрибуты, которые в данной ситуации являются его символами. Вот отрывок из стихотворения «Месть» (1930): над высокими домами между звезд и между трав ходят ангелы над нами морды сонные задрав выше стройны и велики воскресая из воды лишь архангелы владыки садят Божие сады там у Божьего причала (их понять не в силах мы) бродят светлые.
Эзотеризм и иррациональное в творчестве Хармса
Возвращаясь к вопросу о значении знаков в творчестве Хармса, особое внимание хотелось бы уделить образу окна, возникающему в нескольких его наиболее важных стихотворениях. Окно («форточка возвышенных умов») обозначает возможность связи с трансцендентным, выхода за пределы обыденного мира, выход к сверхсознанию. В одном из стихотворений Хармса есть герой по фамилии Окнов, в черновом же варианте стихотворения им является сам Хармс. Так что «Окнов» в какой-то мере выступает псевдонимом поэта. Наиболее ярко образ окна проявляется в замечательном по своей лиричности стихотворении «На сиянии дня месяца июня»:
На сиянии дня месяца июня говорил Даниил с окном слышанное сохранил и тким образом увидеть думая свет говорил солнцу: солнце посвети в меня. проткни меня солнце семь раз ибо девятью драми жив я следу злости и зависти выход низ пище хлебу и воде рот мой страсти физике язык мой ве и дханию ноздрями путь два уха для слушания и свету окно глаза мои В этом стихотворении, особая философская возвышенность которого достигается отчасти за счет употребления старославянских слов (автограф был написан с использованием дореволюционной орфографии), поэт трактует телесность человека с помощью магии чисел, обращения к символу жизни и языческому божеству - солнцу и указанию на наиболее важное для него чувство - зрение, которое он посвящает окну - символу выхода к трансцендентному. Образ человека, сочетание анатомии с числовой символикой, с преклонением перед солнцем напоминает ренессансное представление о человеке, понимание телесности как способной к безгрешному существованию субстанции, радость жизни, органично сочетающуюся с верой.
У Хармса есть и графический символ окна - монограмма, составленная из имени Эстер (первая жена поэта, Эстер Александровна Русакова, 1909-1943), написанного латинскими буквами Esther. При этом основой монограммы будут Е и Н. Весьма интересной является интерпретация этого графического символа в книге М. Ямпольского «Беспамятство как исток: читая Хармса». Латинское «Н» в слове «Эстер» - непроизносимая буква и это качество одновременно напоминает о прозрачности «невидимости» окна. Как отмечает М. Ямпольский, название этой буквы на иврите означает «окно», а в финикийском алфавите буква «хейт» имела форму придуманной Хармсом монограммы. С учетом того, что Хармс увлекался каббалой, изучал иврит и более того, был большим поклонником алфавитов, начертаний и изображений букв, а также разных других графических символов, и даже изобрел собственную тайнопись, не будет ничего удивительного в том, что происхождение этой монограммы определено М. Ямпольским с абсолютной точностью. Далеко не случайным является и упоминание М. Ямпольским в связи с символическими увлечениями Хармса Monas Hieroglyphica английского математика и мистика Джона Ди, жившего в XVI веке. В увлечении Хармса символикой, как и в других его занятиях, прослеживается стремление создавать некие универсалии, позволяющие овладеть мощным источником знания, просветления. В книге Monas Hieroglyphica Джон Ди описал иероглиф с таким же названием, который включал в себя знаки планет, зодиака, стихий, основных геометрических фигур, алфавиты. Это был своего рода универсальный магический символ, содержащий в себе как бы все знания без обращения к слову, создающему дистанцию между сознанием познающего и познаваемым объектом.
От монограмм и других интересов чинарей, связанных с графическими символами разного рода уместно будет перейти к понятию иероглифа, важному для трактовки творчества Хармса и Введенского. Иероглиф соединяет в себе черты графемы, монограммы и поэтического текста. Это случай, когда образ, слово выступают как сверхсмысловой элемент текста, несут несоизмеримо большее значение чем непосредственный их смысл (который строго говоря, по законам жанра, отсутствует).
Важно для Хармса и чинарей вообще понятие символа, иероглифа как предмета чувственного мира, отсылающего к сверхчувственной реальности. Известно увлечение Хармса учением Пифагора. Вот что рассказывает о Пифагоре Ямвлих: «Когда отечество всенародно призвало его приносить пользу всем согражданам и поделиться своими знаниями, он не отказался и постарался представить свой способ обучения с помощью символов, подобный тому способу, которым обучали в Египте его самого, хотя самосцам была не по душе такая манера обучения и они не усвоили ее с пониманием и так, как должно»19 Возможно, для чинарей символ-иероглиф был возможностью связать разные уровни реальности, идеальное и материальное, использование символа в том смысле, на который указывает Р. Генон: «Подлинным основанием символики является соответствие, связующее вместе все уровни реальности, присоединяющее их один к другому и, следовательно, простирающееся от природного порядка в целом к сверхъестественному порядку»20
Термин «иероглиф» в его специальном для чинарей смысле ввел философ Л. Липавский. По словам Я.С. Друскина, «Иероглиф - некоторое материальное явление, которое я непосредственно ощущаю, чувствую, воспринимаю и которое говорит мне больше того, что им непосредственно выражается как материальным явлением. Иероглиф двузначен, он имеет собственное и несобственное значение. Собственное значение иероглифа -его определение как материального явления - физического, биологического, физиологического, психо-физиологического. Его несобственное значение не может быть определено точно и однозначно, его можно передать метафорически, поэтически, иногда соединением логически несовместимых понятий, то есть антиномией, противоречием, бессмыслицей. Иероглиф можно понимать как обращенную ко мне непрямую или косвенную речь нематериального, то есть духовного или сверхчувственного, через материально или чувственное»21 «Искусство отличается от природных ритмических состояний тем, что оно создает иероглифы» пишет Л. Липавский в одном из своих трактатов.
Время, счет и их место в поэтической системе Хармса
Странный неологизм «Вут» должно быть означает разделение времени, по аналогии с делением пространства на «там» и «тут». Хармс измеряет время, разделяя его и относит его в прошлое, говоря, что какая то часть «всегда только была». Когда час проходит, он говорит, что его «теперь нет», а он «всегда только был» и «всегда теперь быть». Интересно это сопоставить с «новой теорией времени», сформулированной в трактате Друскина «Происхождение второго мира в связи с новой теорией времени». Сама эта теория выражена в нескольких строках: «Когда что-нибудь было, то его не было, так же как и того, что будет, но оно есть сейчас. И обратное: когда что-нибудь есть сейчас, то, что было раньше, того не было раньше, так же как и того, что будет потом».
Похоже в стихах Хармса и в трактате Друскина говорится об одной и той же вещи. И похоже, эта вещь является чем-то подобным вечности. Если следовать Хармсу «бесконечным небытием». Если под «логикой» понимать ход рассуждения в стихотворении - превращение будущего времени в «вечное теперь», то цисфинитум будет указывать на «нулевость», пустоту этого «вечного возвращения». При этом выявленная «пустотность» не несет отрицательного оттенка смысла.
Что еще важно в понятии цисфинитума - это обозначение цисфинитной логики как логики, принадлежащей искусству. В письме к Л. Липавскому Хармс говорит о творческих дисциплинах, противопоставляя их научным, опирающимся на научную логику. Творческие отличны тем, что не опираются на постулаты логики. Творческая наука основана на новой, нулевой системе счисления, область исследования такой дисциплины и называется «цисфинитум». Цисфинитум тем самым является областью, в которой счисление осуществляется с помощью нуля. Сам цисфинитум есть видимо, все таки временная категория, т.е. «бесконечное небытие», «вечное сейчас».
Термин «цисфинитная логика» появляется еще в одном стихотворении Хармса - «Звонитьлететь». Что важно, оба стихотворения с упоминанием в названии цисфинитума являются программными - в них выражена творческая теория Хармса, разработкой которой он занимался в конце ЗОх годов. В общих словах это концепция такого искусства, которое сможет стать высшим способом познания и принципом существования в мире. Реального искусства, характеризующегося приматом своей реальности даже и перед тем, что обычно именуют «реальностью».
В стихотворении «Звонитьлететь» описана ситуация освобождения (изменения) взгляда на предметы, которые сначала освобождаются от притяжения и летят. В процессе полета с ними происходит и временная трансформация. Цисфинитум всегда соотносится поэтом с временными формами глаголов. Предметы полетели (несовершенная форма), далее идет инфинитив «полететь», превращающийся в настоящее глагола совершенной формы «лететь», который употребляется сначала в обычной форме а затем в инфинитиве. Затем то же происходит с глаголом «звенеть». В итоге предметы «летят и звенят» в пространстве. Третья цисфинитная логика помещает предметы в «бесконечное небытие» и это заставляет их лететь и звенеть. Полет, скорее всего, символизирует свободу. Звон, возможно (звон колокола) - радость и просветление. В любом случае Хармс в этом стихотворении подчиняет предметы придуманной им самим новой логике, помещая их во вневременной континуум, где они обретают качества, свидетельствующие об абсолютной свободе.
Цисфинитум напрямую связан с нулем, имеющим у Хармса сложную символическую нагрузку, едва ли не определяющим понятием. О ноле говорится в нескольких теоретических трактатах Хармса. Нужно заметить, что теоретические трактаты и письма имели программное значение для Хармса. В них он пытался выразить и осмыслить, обосновать важные для своей теории вопросы, вывести понятия. То есть они не являются формой творчества, а представляют собой теоретическое осмысление и программу его.
По мнению Ж.-Ф. Жаккара во многом символику ноля для Хармса актуализировали идеи творчества К. Малевича. В основе теории супрематизма как раз и лежал принцип отказа от «привычных» разуму форм, принцип отталкивания от «нулевой» точки в восприятии мира.14 О значении нуля К. Малевич говорит в манифесте «Супрематическое зеркало», где указывает на наличие неизменной сущности всех явлений природы, на то, что область исследования нуля неисчерпаема и неограничена, что ноль возведен в ранг основного принципа науки, искусства и религии. Малевич также вывинул ряд идей, достаточно сильно повлиявших на творческие установки Хармса. Наиболее примечательным является интерес к проблеме бесконечного и ее религиозная трактовка. Общим для Хармса и Малевича было противление идеям жесткого разграничения, определения предметов в реальности (в противовес «текучести» у Хармса). Вот что пишет по этому поводу Ж.-Ф. Жаккар: «как у одного, так и у другого наблюдается отказ от понятия предела какой-либо системы: если предмет окончен, его законченность является в действительности лишь суммой запретов, предназначенных для того, чтобы определить границы.
Абсурд и черный юмор как средства художественной деструкции
Хармс предполагает освобождение предметов путем снятия внешнего, искусственного ограничения - «меры». В следующем тексте, «Сабля», эта идея развивается так: ...нам начинает казаться, что мы обладаем всем, что есть вне нас. И все существующее вне нас и разграниченное с нами и всем остальным, отличным от нас и его (того, о чем мы в данный момент говорим) пространством (ну хотя бы наполненным воздухом) мы называем предметом. Предмет нами выделяется в самостоятельный мир и начинает обладать ч всем лежащим вне его, как и мы обладаем тем же. Самостоятельно существующие предметы уже не связаны законами логических рядов и скачат в пространстве, куда хотят, как и мы. Следуя за предметами скачат и слова существительного вида20 Здесь сочетается идея освобождения языка и мышления путем признания условности вводимой человеком «меры». Тогда предметы и слова освобождаются, «летят». Все идеи как бы выстраиваются в определенную гармонию: ноль как полное неизвестности, всевмещающее ничто, несвязанность чисел в числовом ряду, скачущие предметы и слова, относительность «меры» и введение новой меры, отвечающей требованиям относительности - парадоксальной сабли - все это и создает своеобразную хармсову цисфинитную логику отражения мира в творчестве, овладения миром в творчестве. Поэту отводится миссия «регистрации мира», поскольку мир начинает существовать отдельно. Регистрация мира - еще одна метафора творчества, причем несущая в себе особенное понимание Хармсом как самого творческого процесса так и значения этого процесса для мира. Регистрация мира осуществляется по аналогии с тем, как единица «регистрирует» остальные числа. Единица, говорит Хармс, регистрирует другие числа своим качеством. Но что такое соответствующее качество для регистрации мира поэтом? Хармс называет его оружием: «Работа начинается с отыскания своего качества. Так как этим качеством нам придется потом орудовать, то назовем его оружие» Таким оружием для поэта является сабля. Сабли, говорит Хармс, были у Гёте, Блейка, Ломоносова, Гоголя, Пруткова и Хлебникова. Сабля в данном случае может означать право поэта делить мир словами произвольно - исходя из особого чувства ритма мира. Следующее понятие в теории творчества Хармса - создание им категории «сущего» значения предмета. Эта мысль развивается им в трактате «Предметы и фигуры, открытые Даниилом Ивановичем Хармсом». Хармс говорит о пятом значении предмета, перечисляя первые четыре -начертательное (геометрическое), целевое (утилитарное), значение эмоционального воздействия на человека и значение эстетического воздействия на человека. Пятое значение (свободная воля предмета) находится вне связи предмета с человеком. Это своего рода попытка создать ноуменальный мир предметов, где они существуют вне связей с обычным восприятием. Важен вывод Хармса о том, что человек, наблюдающий совокупность предметов, лишенных всех четырех рабочих значений, перестает быть наблюдателем, превращаясь в предмет, созданный им самим. Речь идет о возможности глобального отстранения человека от обычных реалий своего существования. Это и есть бессмысленный аспект существования, но бессмысленный здесь значит - обладающий сущим значением, существованием как таковым, бытием вне связей с «подручностью» вещей и предметов. Интересны завершающие трактат рассуждения: 11. Любой ряд предметов, нарушающий связь их рабочих значений, сохраняет связь значений сущих и по счету пятых. Такого рода есть ряд нечеловеческий и есть мысль предметного мира. Рассматривая такой ряд, как целую величину и как вновь образовавшийся синтетический предмет, мы можем приписать ему новые значения, счетом три: 1) начертательное, 2) эстетическое и 3) сущее. 12. Переводя этот ряд в другую систему, мы получим словесный ряд, человечески БЕССМЫСЛЕННЫЙ.21 По сути в своем творчестве Хармс стремился именно к созданию связи сущих значений предметов, почему оно и было бессмысленным с человеческой точки зрения. Отсюда можно предположить, что поэт стремился к достижению надчеловеческой логики и овладеть ей пытался именно через слово. Хармс Д. ПСС, том 1, с. 307 Выведение аспекта в котором всё - предметы, люди, т.е. все явления существуют вне связи со своей феноменальной стороной похоже снова приводит Хармса к заочной полемике с Кантом. Хармс будто показывает возможность выхода в мир «вещей в себе», мир «сущих» значений предметов. Хотя выше, при обсуждении проблемы иллюзорности явлений, поставленной, казалось бы в тексте «О явлениях и существованиях № 1», не шла речь о «сущих» значениях предметов. Либо здесь содержится определенное противоречие, . либо «сущее» значение предмета также относится к его феноменальной стороне. Скорее, не смотря на то, что рассуждение Хармса в п. 11 цитированного текста может показаться попыткой выйти за пределы человеческого восприятия к восприятию «ноуменов» (мысли предметного мира), речь все же идет об определенной стороне именно восприятия феноменов.