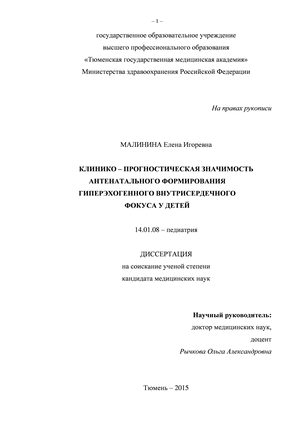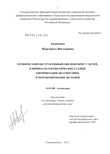Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Обзор литературы 10
1.1. Гиперэхогенный внутрисердечный фокус у плода и новорожденного: определение, история изучения, гипотезы формирования, прогностическая значимость 10
1.2. Роль пренатальной гипоксии и матриксных металлопротеиназ в механизме формирования гиперэхогенного внутрисердечного фокуса у плода 20
1.3. Состояние последа как отражение течения антенатального периода 28
Глава II. Материалы и методы исследования 38
Глава III. Результаты собственных исследований 44
3.1. Особенности течения антенатального периода новорожденных с пренатально диагностированным гиперэхогенным внутрисердечным фокусом 44
3.2. Патоморфологическая характеристика последа новорожденных с гиперэхогенным внутрисердечным фокусом 65
3.3. Влияние патологических факторов на уровень концентрации матриксных металлопротеиназ-2,-9 в пуповинной крови новорожденных с пренатально диагностированным гиперэхогенным внутрисердечным фокусом 73
3.4. Факторы неблагоприятного прогноза течения перинатального периода детей с «гольфным мячом» 81
3.5. Особенности течения неонатального периода детей с пренатально диагностированным гиперэхогенным внутрисердечным фокусом 84
3.6. Катамнестическое исследование детей с гиперэхогенным внутрисердечным фокусом 95
Заключение 105
Выводы 121
Практические рекомендации 123
Список литературы 125q
- Роль пренатальной гипоксии и матриксных металлопротеиназ в механизме формирования гиперэхогенного внутрисердечного фокуса у плода
- Состояние последа как отражение течения антенатального периода
- Патоморфологическая характеристика последа новорожденных с гиперэхогенным внутрисердечным фокусом
- Факторы неблагоприятного прогноза течения перинатального периода детей с «гольфным мячом»
Роль пренатальной гипоксии и матриксных металлопротеиназ в механизме формирования гиперэхогенного внутрисердечного фокуса у плода
Более значимыми для диагностики трисомии 21 считаются такие ультразвуковые признаки, как гипоплазия носовой кости – 41,9% случаев, утолщение затылочной складки – 25,0%, укорочение бедренной и плечевой кости – 24,2%, умеренная вентрикуломегалия – 15,3%, гиперэхогенный кишечник – 12,9%, умеренная пиелоэктазия – 12,1%, а также сердечные дефекты – 33,1% и пороки пищеварительной системы – 26,6%. Установлено, что ГВФ выявляется у плодов с трисомией 21 в 16,1% [85, 104].
Таким образом, если изолированный ГВФ у пациенток моложе 35 лет при отрицательном биохимическом скрининге незначительно повышает риск трисомии 21 у плода и не требует проведения пренатального кари-отипирования, лишь существенно увеличивая волнение и тревожность бе - 15 ременной [2, 11, 36, 47, 58, 82, 104], то сочетание ГВФ с другими ультразвуковыми маркерами связано со статистически значимым риском по три-сомии 21 (стандартизованный относительный риск 4,4 (95% ДИ) (3,2-6,0); р 0,05) [96, 91, 82].
По другой гипотезе в основе формирования гиперэхогенных внутри-сердечных фокусов лежат диспластические процессы в соединительной ткани, в том числе в соединительно-тканных структурах сердца плода, обусловленные мультифакториальными причинами. Так, Odeh M. с соавт. считают, что 87,5% гиперэхогенных внутрисердечных фокусов, определяемых антенатально в желудочках сердца плода, обусловлены наличием зачатков аномально расположенных трабекул. По мнению Levy D. W. и How H. Y. с соавт., ГВФ представляет собой агрегацию хордальной ткани, которая не подверглась фенестрации с образованием волокнистых тяжей во время эмбрионального развития атриовентрикулярного аппарата сердца плода [27, 48, 102].
Ряд исследователей полагает, что патоморфологическими субстратами гиперэхогенных внутрисердечных фокусов являются очаги микрокаль-цификации, образующиеся вследствие нарушений микроциркуляции терминальных ветвей коронарных артерий и развития ишемических и дегенеративных изменений в папиллярных мышцах [27, 52, 102, 99, 92].
В ряде работ возможной причиной формирования ГВФ называется диастолическая дисфункция миокарда, связанная с нарушением его перфузии [65, 64, 63, 73]. Так, Facio M. C. с соавт. отметили снижение соотношения (Е/А) скоростей потоков через митральный и трикуспидальный клапаны в раннюю диастолу (Е) и фазу систолы предсердий (А) как показателя диастолической функции желудочков. Они предполагают, что уменьшение преднагрузки происходит за счет низкого показателя активного расслабления миокарда плода или дисфункции клапанов, что есть возможный результат ишемических изменений не только в папиллярных мышцах, но и в миокарде, а ГВФ является маркером этих изменений. Диастолическая дис - 16 функция, по их мнению, может носить транзиторный характер либо сохраняться на протяжении первых 3 лет жизни, по данным постнатальной ЭХО-КГ, и предшествовать развитию систолической дисфункции [63].
В последние годы обращает на себя внимание высокая частота сочетания ГВФ с наличием вирусной и урогенитальной инфекции у матери, а также с УЗ-признаками инфицирования органов плода, плаценты и плодных оболочек [1, 17, 38, 31], что делает перспективным исследование возможного влияния инфекционных факторов на нарушение микроциркуляции у плода с последующими структурными дегенеративными изменениями органов.
Проблема внутриутробной инфекции является одной из ведущих в акушерской практике в связи с высоким уровнем инфицирования беременных, рожениц, родильниц, риском развития нарушений у плода и рождения больного ребенка. Беременная обследуется на перинатально значимые инфекции однократно при постановке на учет, и если IgM не были выявлены, то при отсутствии клинических проявлений, т.е. при латентном или субклиническом течении инфекционного процесса, терапия не назначается. При выявлении IgG в различных титрах ситуация интерпретируется субъективно каждым специалистом вследствие отсутствия четкого представления о степени корреляции титров и реализации инфекции во время беременности [5, 17, 33, 39].
К числу наиболее распространенных заболеваний, определяющих внутриутробное инфицирование, эмбрио- и фетопатию, акушерскую патологию, относится герпесвирусная инфекция. Опасность для плода при возникновении вирусемии, даже кратковременной, объясняется тем, что ткани хориона, плаценты, эмбриона и плода являются благоприятной средой для размножения.
Доля серопозитивности женщин детородного возраста составляет 50-95% и зависит от возраста, социального статуса, уровня благополучия и сексуальной активности [39].
Как герпетическая, так и токсоплазменная инфекция в нашем исследовании представляет особый интерес, потому что сопровождается развитием микрокальцификации внутрисердечных образований – сухожильных хорд и папиллярных мышц. Инфицированность токсоплазмой до беременности формирует у женщины иммунитет, который надежно предохраняет плод при повторных контактах с токсоплазмой в случае возможной реин-фекции в период беременности, за исключением редко встречающихся иммунодефицитных состояний. Во время беременности инфицируется не более 1% женщин, которые в 30-40% случаев передают инфекцию плоду. Размножение возбудителя токсоплазменной инфекции ведет к воспалительным реакциям с некрозом и обызвествлением тканей [39].
Прочность связи специфических антител с соответствующими антигенами характеризует показатель авидности. Клиническая значимость авидности состоит в определении факта острой или реактивации хронической инфекции. При значении индекса авидности 50% подтверждается острое инфицирование от 10 до 100 дней назад (низкоавидные антитела); 51-69% подтверждают факт острой инфекции от 101 до 160 дней назад (переходные); 70% – после острой инфекции или контакта прошло более 161 дня, антитела являются протективными [33].
Стрижаков А. Н. с соавт. в 2006 году указывает, что информативным критерием внутриутробного инфицирования плода является сочетание инфекционного процесса генитального тракта у беременной с тремя какими – либо эхографическими признаками: многоводием, маловодием, наличием гиперэхогенной взвеси в околоплодных водах, изменениями в плаценте, пиелоэктазией, вентрикуломегалией, гиперэхогенными включениями в печени, нарушениями ритма сердца у плода [31].
Жуков И. В. в своих публикациях 2010 года связывает появление ги-перэхогенных внутрисердечных фокусов в сердце плода с изменениями в иммунной системе. Известно, что иммунологическим взаимоотношениям матери и плода принадлежит значимая роль в адекватном функционирова - 18 нии системы «мать – плацента – плод». Основным органом иммунной системы плода, бесспорно, является тимус. Течение гестационного процесса и внутриутробное состояние плода отражается на гистоморфологическом строении тимуса, особенно при воздействии патологического агента в 22-24 недели. Доказано, что на фоне угрозы прерывания, гестоза отмечается повышение эхогенности паренхимы с наличием множественных гиперэхо-генных включений в тимусе, а также его гипоплазия и развитие дистрофических изменений, что сочетается с гемодинамическими нарушениями в плаценте. Гемодинамические нарушения приводят и к нарушению кровоснабжения коронарных артерий, особенно во втором триместре, с образованием микрокальцификатов на папиллярных мышцах и хордах, визуализируемых как гиперэхогенные внутрисердечные фокусы. Автор полагает, что гипоплазия тимуса встречается чаще (р 0,05) у плодов с ГВФ и сопровождается формированием вторичных иммунодефицитных состояний после рождения [16].
Состояние последа как отражение течения антенатального периода
При первичном выявлении в поздние сроки размер ГВФ составил 2,18±0,76 мм, локализовался фокус преимущественно в левом желудочке в 85,17% (18), реже в обоих желудочках – в 14,29% (3). У 1/3 плодов ГВФ сочетался другими ультразвуковыми маркерами: вентрикуломегалией 4,76% (1), пиелоэктазией 14,28% (3), кистами сосудистого сплетения в головном мозге 4,76% (1), гиперэхогенным кишечником 9,52% (2).
Снижение маточно-плацентарного кровотока, по данным допплеро-графии маточных и пуповинных артерий, проводимой в третьем триместре, установлено в первой группе у 18,69% (40) беременных, что в 2 раза чаще по сравнению со второй – 9,34% (10) (р=0,033).
По результатам анализа протоколов ультразвукового скрининга, изменения количества околоплодных вод отмечались чаще 21,96% (47) у беременных первой группы (р 0,001). Маловодие статистически значимо преобладало в первой группе определялись в 14,95% (32), во второй в 5,6% (6) (р=0,016), многоводие также было более характерным для беременных первой группы, но недостоверно в 7,01% (15) первой и 1,87% (2) второй группы соответственно (p=0,064).
К концу беременности сохранилось 50,46% гиперэхогенных внутри-сердечных фокусов, диагностируемых при антенатальном ультразвуковом скрининге, а после рождения – 24,76% ГВФ, выявленных преимущественно во второй половине беременности, размером более 2 мм в диаметре, независимо от их локализации.
Таким образом, гиперэхогенный внутрисердечный фокус может визуализироваться при ультразвуковом скрининговом исследовании в любом сроке, чаще выявляясь впервые в раннем фетальном периоде – 90,19%: 6,08% в результате первого скрининга и 84,11% – второго. Его обнаружение сопряжено с констатацией ухудшения маточно – плацентарного кровотока (р=0,033) и наличием других малых ультразвуковых маркеров хромосомных аномалий в 24,76% (р 0,001).
Первый биохимический скрининг на врожденные аномалии, а именно: определение связанного с беременностью плазменного протеина А (РАРР-А) и свободной -субъединицы хорионического гонадотропина в 10–12 недель беременности, проведен у 76,17 % (163) женщин первой группы и 56,07% (60) второй, из них отклонения от нормативных показателей зафиксированы у 13,08% (28) беременных первой и 14,95% (16) второй групп (р=0,130) (рис. 4).
Для диагностики хромосомных аберраций плода наиболее часто используется определение -ХГЧ, повышающегося при болезни Дауна на 10 12 неделе беременности в 2 раза и более при одновременном снижении РАРР–А. Подобные изменения наблюдались лишь у 1 (0,61%) пациентки первой группы, при последующем кариотипировании хромосомной патологии не выявлено, подтверждая тот факт, что биохимические маркеры могут изменяться не только при патологии плода, их концентрация в крови беременной может меняться при различных акушерских ситуациях и экс-трагенитальной патологии.
Значительно чаще выявлялось изолированное снижение уровня плацентарного протеина А, связанного с беременностью (РАРР-А) у 9,20% (15) исследуемых первой группы и 14,70% (9) второй (р=0,220), что свидетельствовало о фетоплацентарной недостаточности, угрозе выкидыша или преждевременного прерывания беременности. Повышение уровня РАРР– А, характерное для многоплодной беременности, увеличение массы плаценты или плода, низкое расположение плаценты зафиксировано у 7,36% (12) матерей первой группы и 15% (9) матерей второй группы (р = 0,114).
Результаты второго биохимического скрининга (исследование крови на -фетопротеин, хорионический гонадотропин) в 16-20 недель беременности имелись у 78,5% (168) женщин первой группы и 57,94% (62) второй.
Повышение -фетопротеина (АФП) и хорионического гонадотропина (ХГЧ), сопряженных с высоким риском развития болезни Дауна и открытыми пороками ЦНС, констатировано у 1,19% (2) беременных первой и 4,83% (3) второй группы при р=0,122, но, как и в предыдущих случаях, не было подтверждено при последующим наблюдении, а лишь свидетельствовало о возможном неблагополучном состоянии плода, обусловленном нарушениями в фетоплацентарном комплексе. Изолированное повышение уровня АФП при нормальном или повышенном содержании ХГЧ имело место у 1,78 % (3) женщин первой группы и 1,61% (1) второй группы (р 0,05), что характерно для угрозы прерывания, а низкие показатели АФП и ХГЧ, свидетельствующие о плацентарной недостаточности, отмечены в 2,97% (5) случаях в первой группе и не встречались во второй группе при р=0,327. Кроме того, на показатели биохимического скрининга влияет прием лекарственных препаратов, в частности, гестагенов: изменяется уровень ХГЧ (низкий уровень при приеме гестагенов в первом триместре, высокий – во втором триместре) при нормальных цифрах АФП, что имело место у 6,55% (11) матерей первой группы и 6,42% (4) матерей второй группы при р 0,05.
Таким образом, параклинические данные косвенно подтверждали плацентарную недостаточность у 20,24 % (34) матерей первой группы и у 22,58% (14) матерей второй группы (р=0,716), без статистически значимой разницы в группах. У 1,78% (3) женщин первой и у 4,83% (3) женщин второй группы (р=0,347), требовалось исключение хромосомной патологии плода, не подтвержденной при проведении пренатального кариотипирова-ния. Обнаружение ГВФ, рассматриваемого многими авторами как маркера хромосомной патологии, в частности, синдрома Дауна, не коррелировало с изменением биохимического скрининга (r=0,08, p=0,762), результатами пренатального кариотипирования (r=0,125, p=0,682) и отражало неспецифические изменения в системе «мать – плацента – плод».
- 51 При разнообразии возрастных категорий (от 14 до 41 года) средний возраст беременных с наличием гиперэхогенного внутрисердечного фокуса в сердце плода составил 27,6 ± 4,86 лет, 95% ДИ (27,04 – 28,186). Основная часть исследуемой группы представлена женщинами детородного возраста, принято считать, что это 20-35 лет. Процент возрастных первородящих женщин старше 35 лет был невысок – 0,46% (1), как и юных первородящих младше 17 лет – 1,87% (4)
Учитывая, что при повторной беременности ухудшается состояние микроциркуляторного русла маточно-плацентарной системы – увеличивается функциональная активность подсинцитиальных капилляров эндометрия, что имеет значение в формировании и развитии плаценты [6], определялось количество первобеременных и повторно беременных. В исследуемой группе преобладали первобеременные – 51,86 % (111), так же, как в контрольной группе – 55,14% (59) (р=0,310). Установлено, что количество первобеременных в исследуемой группе превышало российские показатели – 33,6% – 32%, а возраст женщин, рожающих первого ребенка, оказался на 2-3 года старше, чем по России в 2012 году – 25 лет (рис. 5).
Обращает внимание в несколько раз превосходящая популяционную (1,2%) (Сидельникова В. М. и соавт., 2004; Савельева Г. М. и соавт., 2004)
У женщин преимущественно первой группы исследования в 60,9% (130) определялась II и III группа крови, хотя, по данным «Вестника службы крови России», Донсков С. М. с соавт. указывают на большую распространенность у женщин Уральского ФО I группы крови, что имеет место в контрольной группе – 78,83% (79).
Патоморфологическая характеристика последа новорожденных с гиперэхогенным внутрисердечным фокусом
Выявление очагов кардиосклероза при гистологическом исследовании сердца плода коррелировало с наличием ГВФ в правом желудочке по данным пренатального ультразвукового скрининга (R=0,448, p=0,028), что подтверждает литературные данные.
Обнаружение гиперэхогенных внутрисердечных фокусов в правом желудочке или множественных у плода коррелировало с мужским полом ребенка (R=0,447, p=0,028).
Наличие ГВФ в аутопсийном материале отражает, вероятно, общие процессы нарушения фетоплацентарного кровотока, которые в сочетании с внутриутробной инфекцией плода, значительно увеличивают риск формирования врожденной патологии, преимущественно ЦНС и сердечнососудистой системы, а также формирование малых аномалий развития в раннем фетальном периоде. При обнаружении нескольких ультразвуковых маркеров, одним из которых является ГВФ размером 2,67±0,9 мм в сочетании со структурными изменениями других органов, особенно ЦНС и системы кровообращения, во втором триместре беременности, необходимо более тщательное обследование плода на внутриутробные инфекции, а также динамическое наблюдение за беременной с проведением допплеро-графии маточных артерий и своевременная коррекция выявленных нарушений для минимизации риска перинатальных потерь. Особенности течения неонатального периода детей с пренатально диагностированным гиперэхогенным внутрисердечным фокусом
При анализе течения раннего неонатального периода все 214 новорожденных первой группы родились без фенотипических признаков хромосомных аномалий. Распределение новорожденных по сроку гестации представлено в графике (р 0,05) (рис. 13).
Гендерное распределение новорожденных в обеих группах отличалось, но разница была статистически незначима: количество мальчиков в группах составило 51,87% (111) в первой и 56 (52,34%) во второй, девочек – 103 (48,13%) и 51 (47,66%) соответственно (р 0,05). Среди новорож - 85 денных, у которых гиперэхогенный внутрисердечный фокус сохранился после рождения, выявлена слабая корреляционная взаимосвязь с женским полом (r=0,166, p=0,025).
Средняя масса новорожденных в первой группе составила 3233,79±34,57 г и варьировала от 988 г до 4580 г (95% ДИ 3165-3301), во второй группе – от 1018 г до 4420 г (95% ДИ 3112-3200), составляя в среднем составляя 3211,84±49,90 г (р=0,443). Только в 0,3% (1) случаев в первой группе была зафиксирована экстремально низкая масса ребенка (менее 1000 граммов). Средняя масса мальчиков в группе новорожденных с изучаемым ультразвуковым маркером составила 3237,48±50,58 г, что на 4,79% меньше российских показателей (3400-3500 г) (р 0,05). Средняя масса новорожденных девочек 3226,63±48,87 г не отличалась от российских показателей (3200-3400).
Характеристика неонатального периода детей с ГВФ и без изучаемого ультразвукового маркера отражена в таблице 14. Первая группа представлена двумя подгруппами: с ГВФ не сохранившимся в неонатальный период – 75,24% (161) и сохранившимся – 24,76% (53).
Новорожденные первой группы оценены по шкале Апгар в 7,72±0,739 баллов, во второй – 7,398±1,123 (p 0,05), с вариабельностью от 5 до 9 баллов в обеих группах, число детей с оценкой по шкале Апгар 7 баллов, т.е. подвергшихся воздействию гипоксии легкой степени, составило в первой группе 10,28% (22), во второй – 15,88% (17) (р=0,273). 28,97% (93) новорожденных обеих групп переведены на второй этап выхаживания в отделение патологии новорожденных, из них 78,49% (73) были дети с гиперэхогенным внутрисердечным фокусом, обнаруженном при антенатальном скрининге (р=0,041). Тяжесть состояния новорожденных при переводе в ОПН была обусловлена различными циркуляторными, респираторными либо инфекционно-воспалительными изменениями. В асфиксии, требующей респираторной поддержки (ИВЛ или NSPAP), роди - 86 лись 7,16% (23) новорожденных двух исследуемых групп без статистически значимой разницы (р=0,444).
Количество детей с задержкой внутриутробного развития как основного проявления внутриутробной гипоксии преобладало в первой группе – 17,28% (37) в сравнении со второй – 8,41% (9) со статистически значимой разницей при р=0,048.
Суммарно клинические признаки вовлечения в процесс сердечнососудистой системы, такие, как «мраморность» кожных покровов с перио-ральным акроцианозом, приглушенность сердечных тонов, эпизоды нарушения ритма сердца, встречались с равной частотой в 44,85% (96) случаев в первой группе, и 42,99% (46) во второй (р=0,905). Однако отмечено достоверное преобладание аритмий в подгруппе с сохранившимся после рождения ГВФ как возможным отражением большего несовершенства, незрелости вегетативной иннервации и проводящих структур сердца. Эпизоды нарушения ритма в родах встречались статистически значимо чаще у новорожденных с антенатально выявленным ГВФ – 23,83% (51), чем в контроле – 11,21% (12) (р=0,036), особенно в группе с сохранившимся после рождения ГВФ – 45,28% (24) (р=0,002). У 43,92% (141) новорожденных обеих групп выслушивался негрубый систолический шум по левому краю грудины без статистически значимой разницы в группах (р=0,966).
Синдром дезадаптации сердечно-сосудистой системы диагностировали в 3,2 раза чаще у детей первой группы 14,95% (32) в сравнении со второй 4,67% (5) (р=0,005). Основанием для постановки диагноза, по критериям Котлуковой Н. П. с соавт. «Синдром дизадаптации сердечнососудистой системы у новорожденных, перенесших перинатальную гипоксию, его клинико-патогенетические варианты и роль в формировании патологии сердца у детей раннего возраста», послужило наличие в анамнезе перинатальной гипоксии, клинические симптомы поражения сердца, изменения на ЭКГ, сопутствующая патология со стороны ЦНС [44].
Факторы неблагоприятного прогноза течения перинатального периода детей с «гольфным мячом»
При ультразвуковом исследовании органов брюшной полости у большинства детей с антенатально диагностируемым ГВФ 88,94% (169) и в контроле 89,47% (85) не выявлено какой–либо структурной патологии внутренних органов, но у остальных зафиксированы следующие изменения: гепатомегалия – 3,15% (6), дистопия правой почки – 0,52% (1), гидронефроз – 0,52% (1), гиперэхогенные образования в печени – 1,05% (2) только в первой группе, пиелоэктазия – 6,84% (13) и 3,33% (3) в первой и во второй группе соответственно.
Таким образом, изолированный ГВФ не является маркером хромосомных аномалий, но при его наличии увеличивается риск развития соединительно-тканых дисплазий в виде малых аномалий развития сердечнососудистой системы, функциональных отклонений нервной системы.
Комплексная оценка состояния здоровья проведена 108 (50,46%) детям первой группы с антенатально выявленными ГВФ: 53 с сохранившимся ГВФ после рождения и 55 без ГВФ в неонатальном периоде, 46 детей без антенатально установленного ГВФ составили группу сравнения.
Установлена неспецифичность жалоб, предъявляемых родителями: «частые ОРВИ» – 9,43% (5), «беспокойный сон» – 7,54% (4), «укачивание в транспорте» – 5,66% (3), «плохой аппетит» – 5,11% (7), «нарушение речи» 16,98% (9). При объективном обследовании общее состояние расценивалось как удовлетворительное, реже – средней степени тяжести, обусловленной наличием сопутствующей патологии. Среднее физическое развитие констатировано у большинства детей – 83,02% (44), избыток массы тела у 3,77% (2), белково-энергетическая недостаточность первой степени у 5,11% (7). Часто подчеркивались бледность кожных покровов – 66,03% (35), наличие пятнисто-папулезной сыпи аллергического характера, с экскориациями и лихенификацией – 32,07% (17). Видимых изменений области сердца, наличия патологической пульсации, расширения границ относительной сердечной тупости не определялось ни у одного ребенка. При аускультации у 41 ребенка выслушивался систолический шум на верхушке или вдоль левого края грудины, преимущественно «хордального» тембра. У всех детей пальпаторно определялась пульсация на бедренных артериях. У двух детей определялся систолический шум «дующего» тембра органического характера, нарушения ритма в виде брадиаритмии с ЧСС от 88-100 у 7 детей, тахикардия у 2.
Наличие статистически значимой (р 0,01) распространенности малых аномалий развития сердца – 98,18% особенно в группе детей с сохранившимся после рождения ГВФ, аномально расположенных хорд – 96,36%, превышая частоту встречаемости МАРС в группе детей без изучаемого ультразвукового маркера – 56%. При проведении ЭКГ 108 детям с гиперэхогенными внутрисердечными фокусами значимые феномены – неполная блокада правой ножки пучка Гиса – 57,41% (62) и нарушения процессов реполяризации желудочков – 54,69% (59) (р 0,03). Дисфункция синусового узла вагозависимого характера в виде предсердной брадиарит-мии, синусовой брадиаритмии, миграции водителя ритма значимо превалировала в группе детей с ГВФ 37,96 % (41) (р=0,041). Мышечные ДМЖП (2) и ОАП (1), выявленный при проведении УЗИ в неонатальном периоде, спонтанно закрылись к двум годам. С малыми аномалиями развития сердца (аномально расположенные хорды, ООО, пролапс митрального клапана, аневризма МПП) на диспансерном учете состоят большинство детей (88,89%). В группе сравнения МАРС присутствовали у 56% детей (р 0,001).
При динамическом ультразвуковом наблюдении к 6-и месячному возрасту количество детей с визуализируемым ГВФ уменьшилось в 2 раза, к 1 году сохранялся лишь у 9 (1/5), к двум годам констатировано полное исчезновение изучаемого маркера. Следует отметить, что чаще визуализировались после рождения те фокусы, размер которых составлял не менее 2 мм, локализовавшиеся в 84,5% в левом желудочке, диагностируемые впервые во второй половине беременности у матерей старше 27 лет с осложненным течением беременности: анемией в 58,49%, дисфункцией плаценты в 62,26%, как у мальчиков, так и девочек, с признаками перинатального поражения ЦНС – 84,80%.
На втором месте в структуре патологии исследуемой группы находятся заболевания ППЦНС 70,37% (76), преимущественно с синдромом двигательных и вегето-висцеральных нарушений. Резидуальная патология нервной системы в группе детей с сохранившимся ГВФ представлена задержкой речевого развития (5), статико-моторных функций (1), моторной алалией (1), нейросенсорной тугоухостью (1), сходящимся альтернирующим косоглазием (3). Среди фоновых состояний в структуре на первом месте – анемия легкой степени тяжести, составляющая 49,07% без статистически значимой разницы с общепопуляционным значением – 32%.
Таким образом, проведенное исследование позволило определить клиническую значимость ультразвукового маркера «гольфный мяч». Формирование ГВФ – результат неспецифических нарушений фетоплацентар-ного кровотока, в формировании которых наиболее значимую роль играют осложнения беременности и реализация внутриутробных герпесвирусных инфекций с активацией матриксных металлопротеиназ преимущественно в эмбриональном периоде с развитием инволютивно-дистрофических реакций в плаценте и соединительной ткани органов и систем плода в феталь-ном периоде с формированием МАРС и дисплазий органов и систем. Ги-перэхогенный внутрисердечный фокус не является маркером хромосомных аберраций. Динамическое наблюдение доказывает возможность регрессии ГВФ как во время беременности, так и в грудном и раннем возрасте.