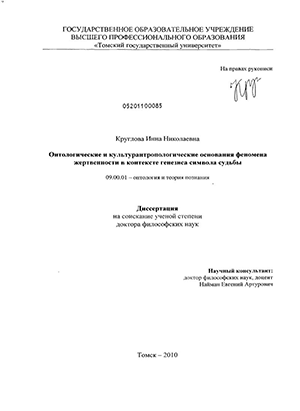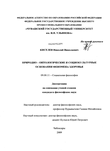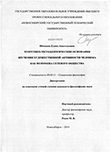Содержание к диссертации
Введение
Раздел 1. Культурантропологнческие основания жертвенного акта и генетические экспликации символа судьбы 17
Предварительные замечания: антропологические основания опыта судьбы 17
Глава 1.1. Проблема сакральных истоков бытия человека в европейской философии 32
1.1.1. Платон: Эрос — демоническая энергема бытия 32
1.1.2. Эрос, жертва и ритуал 42
1.1.3. «Миры, состоящие из людей»: взаимодействие культурантроиологических и философских практик. Предмет культурной герменевтики 51
Глава 1. 2. Антропология сакрального 65
1.2.1. Генезис «священного»: ритуально-социологические аспекты 65
1.2.2. Концепция К. Леви-Стросса: структура и событие 82
Глава 1.3. Деструкция человеческого существования в контексте теории «жертвенного кризиса» Р.Жирара 90
1.3.1. «Жертва отпущения» как событие: игра структуры 90
1.3.2. «Мимесис присвоения» и «мимесис ритуальный»: версия антропогенеза 109
1.3.3. «Страсти Господни»: десакрализация насилия 122
Раздел 2. Онтологические основания феномена жертвенности и генезис символа судьбы 128
Предварительные замечания: ннтроекция жертвенного акта как способ индивидуации и археология судьбы в поэтике Гомера 128
Глава 2.1. Психоаналитическая структура жертвенности 146
2.1.1. К фрейдовской теории виновности, или, «возвращение вытесненного» как онтологическая основа жертвенности 146
2.1.2. Событие утраты в теогонии Гесиода 164
2.1.3. Концептуализация жертвы Ю.Кристевой: Эрос-как-токос и фигура материнского 182
Глава 2.2. Генезис символики судьбы в контексте «трагического» 195
2.2.1. Убить Эдипа/простить Эдипа 195
2.2.2. Опустошение сакральное в поэтике Ф.Гёльдерлина 220
2.2.3. Жертвенность как символический обмен: Ж.Бодрийяр 236
Заключение 246
Библиографический список 258
- Платон: Эрос — демоническая энергема бытия
- «Мимесис присвоения» и «мимесис ритуальный»: версия антропогенеза
- К фрейдовской теории виновности, или, «возвращение вытесненного» как онтологическая основа жертвенности
- Опустошение сакральное в поэтике Ф.Гёльдерлина
Введение к работе
Актуальность исследования.
Одним из ключевых культурных символов не только европейской, но и других цивилизаций, является символ «жертвы», с которого, как правило, начинается процесс мифотворения Мира и который, в свою очередь, поддается реконструкции на материале почти всех известных нам архаических культур. На заре развития культуры, метафорически объясняя происхождение всего сущего, древний человек воспринимает «мир» как нечто рожденное из тела «первожертвы» (Пуруши – в древнеиндийской мифологии, Паньгу – в древнекитайской, Имира – в скандинавской, Тиамат – в вавилонской, Диониса – в древнегреческой и т.д.), из органов которого возникают пространства космоса, неба и земли, вселенская душа, человеческие расы, общественные классы и многое другое. Таким образом, то, что исследователи называют «субстанциальным элементом мифа, собственно первомифом, выражающим архетипическое ядро доисторической картины мира» является не чем иным, как рефлексией первичного акта «жертвенности», лежащего в основании первых сотворенных человеком образов процесса космо- и антропогенеза. Наиболее же существенной функцией этого процесса в рамках мифологического мировоззрения считается расчленение «первоединого», разъединение его на части, одним словом – трансформация исходного состояния, – символизирующая переход от единой целостности к множественности «мира», в результате чего возникают основные элементы социальной и космической организации – место спасения и людей, и богов от аморфного и косного хаоса.
Нужно ли говорить об особом значении «жертвы» в христианском миропонимании, в центр которого положен образ Троицы – символическая формула ипостасей священного, – жертвы-сына и жертвователя-отца, соединенных приношением-снятием священного духа? В христианской традиции истолкование жертвенности включает в себя не только процессы творения и спасения космоса, но и указывает на некое духовное вызревание личности посредством внешней и внутренней аскезы, без которой нет единения человека и бога. Однако задолго до христианского «попечения о душе» существовала античная практика самопонимания, вписанная в известный дельфийский принцип «познай самого себя» и реализованная в максиме становления себя «другим» и у орфиков, и у Пифагора, Сократа, Платона, Аристотеля, а также в стоицизме, кинизме, эпикуреизме, в неоплатонизме и других – вплоть до александрийской школы, – несомненно, инвестировавшая нравственные, гуманистические идеалы и ценности всей последующей истории европейской культуры. В частности, эту проблему решал и Фуко в поздний период своего творчества, нарекая «духовностью» все то, что способствует поискам, практике и опыту, посредством которых субъект производит в самом себе изменения, необходимые для того, чтобы получить доступ к истине. Особенностью же этого доступа является, по выражению Фуко, «цена», которую субъект должен заплатить в качестве риска своего существования, ведь, считается, что истина «стоит того», и только так – через жертву, – производит эффект «обратного действия» на человека. В исторической динамике субъективности как наслоении трансформаций, в результате которых человеку становится доступным и опыт «истины», и опыт «лжи», в качестве проблемы условий и границ преобразования самого субъекта проявляется и онтологический срез феномена жертвенности.
С другой стороны, в контексте антропологической сферы знания проблема «жертвенности» эксплицируется как поиск оснований, позволяющих состояться процессам трансформации «мира», актуальность выявления которых можно проиллюстрировать, так называемой, «конверсивной» проблематикой, активно осваиваемой различными областями современной гуманитаристики. В свое время, П.Адо зафиксировал феномен конверсии как одну из существенных сторон истории европейского сознания, обнаруживающий себя в виде постоянно возобновляемых усилий для совершенствования техник, приемов, практик предназначенных для преобразования человеческой реальности – либо приводящих ее к первоначальной сущности, либо радикально ее изменяющих. Этнология и психоанализ, структурализм и культурная антропология – все по-своему решают один и тот же вопрос: где истоки человеческой способности к конверсии? Если в решении этого вопроса взять за точку отсчета проблему генезиса культуры и «человеческой природы», то архаика в качестве «фундаментальной этнографической реальности» (Жирар) засвидетельствовала как наиболее эффективное средство против старения и саморазрушения общества необходимость ритуальной практики обмена с богами, средоточием которой и являлся феномен жертвенности.
Возможно, стоит приглядеться к нему внимательнее – феномену, лежащему как в основании динамики субъективности, так и у истоков существования антропологической реальности? Возможно, также не случаен и тот факт, что «жертва» – это всегда метафорическая фигура, всегда «утраченный объект», исключительная особенность которого заключается в том, что он повествует о сущности самой утраты, – возможно, тем самым, рассказывая нечто фундаментальное о судьбе нашей культуры? Во всяком случае, есть некая взаимообусловленность в этой символической цепочке: судьба – жертва – человек; так попробуем ее истолковать, ведь ради этого и существует «грандиозная неопределенность» (З.Фрейд) мифов и символов – лучшая «пища для размышления» (П.Рикёр).
Актуальность данного исследования и состоит в разработке подхода, который позволил увидеть природу феномена жертвенности в единстве его онтологических и культурантропологических составляющих – в стихии исторической динамики социокультурных образований и становления способности индивида к самоопределению, что, в свою очередь, заложило основы тематизации и символической фигуры «судьбы», присущей практически всем развитым культурам человеческой цивилизации.
Степень теоретической разработанности проблемы.
Первым, кто обратил внимание на проблему «механизма по производству трансценденции», был Платон: дискурс знания, с точки зрения классика философской традиции, не может состояться без дискурса желания – без устремления, которое «все люди зовут Эросом». Именно эта ситуация созревания к знанию интересует в первую очередь Сократа, когда он настаивает на необходимости познания внутреннего мира, имплицитно содержащего в себе отсылку к ритуальным предписаниям правильного общения с богами. Поскольку опыт, формирующий позицию субъекта в культуре, обозначился как ритуал, постольку основная проблема, вокруг которой организуется теоретический потенциал европейской мысли, высветилась как взаимодействие субъекта и его ритуально формирующегося топоса, посредством которого происходит его становление в мире.
В рамках новоевропейской культуры, по-видимому, один из первых, кто поставил вопрос об «опустошении» этого сакрально-ритуального пространства «взаимодействия с богами», в результате которого человек утратил «живую связь» с природой и окружающими его людьми, был Ф.Гёльдерлин. Вследствие этого весьма симптоматичным выглядит факт обращения современной гуманитарной мысли к исследованию таких феноменов как миф и ритуал, которые из «форм архаического сознания» постепенно «переросли» в способы самоутверждения и самораскрытия оснований, на которых держится опыт восприятия и существования человеческой реальности. «Священное» и «божественное», в свете наук о религии, перестали быть фантазмом, суеверием, рудиментом эпох «дикости», а также жупелом свободомыслия: оказалось, за ними скрываются реальные силы социальной организации, присущие не только примитивным, но и развитым обществам.
Предметный регион таких наук, как культурантропология и этнология начал оформляться еще с середины XIX века и складывался, в частности, благодаря стремлению ученых объяснить феномен «священного» – прежде всего, истоки таких форм сознания и культуры как «миф» и «религия» – «антропологически», то есть как естественно спонтанный процесс эволюции «природы» человека, причем, наблюдаемый, и опытным путем проясняемый в ходе сравнительного анализа истории культур различных народов. В этом движении мысли в начале XX века одно из доминирующих положений начало занимать ритуально-социологическое направление в изучении архаических культур, сыгравшее важнейшую роль не только в антропологии и этнографии; результаты его исследований свободно ассимилировались с самыми разными сферами современного гуманитарного знания: от психоанализа и сравнительного литературоведения до лингвистики и структурализма.
Родоначальником доктрины ритуализма принято считать Д.Фрэзера, вслед за У.Робертсоном-Смитом выдвинувшего тезис приоритета ритуала над мифом, что послужило также основанием для возникновения «Кембриджской школы» (Д.Харрисон, Ф.М.Корнфорд, А.Б.Кук, Г.Мэррей, Б.Малиновский и др.), представители которой исследовали ритуал в качестве источника становления различных форм культуры. Открытая Фрэзером «ритуалема» праксиса периодически умерщвляемого и замещаемого «царя-колдуна», ответственного за всеобщее благополучие общины (так называемые, «царские ритуалы») впоследствии становится одним из центральных элементов мифоритуальной структуры в интерпретации генезиса архаических форм сознания.
Но уже очень скоро начинают преобладать взгляды, изживающие представления о мифе как «рефлексе обряда», во многом инициированные работами основателя английской функциональной школы культурантропологии, Б.Малиновского, и основателя французской социологической школы, Э.Дюркгейма, подчеркивающие значение ритуала в качестве динамической фигуры социальной жизни, посредством которой происходит интеграция и стабилизация социальных образований, а также снятие напряженности в обществе. Именно Э.Дюркгейм вводит понятие «сакрального» – социального начала в человеке, утверждающее и полагающее в него реалии общественной жизни, пространство и время коллектива, являющееся к тому же и «высшей реальностью» человека, продуцирующей интеллектуальные и моральные ценности культуры. Отсюда, и знаменитый тезис Дюркгейма о том, что в религии общество само себя воспроизводит и обожествляет.
К середине прошлого столетия эти взгляды обогащаются влиянием концепции культурантрополога М.Мосса о символическом характере социальных структур и принципе коммуникативного обмена, на котором они держатся, впоследствии дополненной грамматикой символических обменов в структурно-логической сфере, предложенной К.Леви-Строссом. Если ритуально-социологическое направление связывает ритуал с социальными структурами, которые становятся организующим принципом восприятия мира, то структурализм, проецируя эти институты на мыслительные операции, исследует логическое строение мифосознания, не затрагивая области его конститутивных содержаний, в результате чего ритуальную практику жертвоприношения Леви-Стросс толкует как «ложный институт», поскольку в эпистемологическом плане он ничего не наращивает в культуре.
Проблема «ритуала», средоточием которого являются жертвенные акты, отнюдь неслучайно оказавшись в фокусе внимания современных мыслителей, послужила отправной точкой теории Р.Жирара, имеющей показательный для антропологии второй половины XX века синтетический характер, выраженный в органичной экстраполяции результатов этнологических исследований в область философской антропологии. Жирар исходит из коммуникативной модели человеческой реальности, основанной на «механизме жертвы отпущения», через который общество не только «само себя лечит», но и создает культурные и социальные ценности. В то же время, понимание Жираром религии как развития феномена «сакрального», на самом деле является достаточно типичным для многих современных концепций, например, М.Элиаде, создавшего вариант философской антропологии как «архаической онтологии» (религия, по его мнению, выражает, прежде всего, опыт «священного», связанного с идеями существования, значения и истины). Из «последних» – можно упомянуть «нуминозную» интерпретацию мифа К.Хюбнером, толкующего миф в духе социально-исторической онтологии, как особую форму, пронизывающую собой в той или иной степени все иные культурные образования человеческой жизни. Из отечественных мыслителей назовем И.Т.Касавина, также определяющего религию через опыт нуминозного, который однако, в отличие от немецкого мыслителя, интерпретируется на почве ритуально-социологического подхода с привлечением понятия «архетипа» психоанализа К.Юнга.
Р.Жирар в религии обнаруживает способ «утаивания» и вытеснения коллективного насилия, на котором зиждется «царство человека», в результате чего можно сказать, что его концептуализация сакрального движется в русле традиции «философии подозрения» (Маркс, Ницше, Фрейд), оспаривающей претензии классической идеи человека как полагающего самого себя и предписывающего смысл миру автономного субъекта. Жирар движется в том же направлении, что и С.Вейль, М.Фуко, П.Рикёр, осваивающие пространство археологии субъективности и выстраивающие конструкции такого опыта, который позволяет человеку не только состояться, но трансформировать себя в позиции «узаконенного» культурой субъекта.
Здесь и обозначилось проблемное место генеалогии субъективности, побудившее, к примеру, М.Фуко сменить ориентиры исследовательской деятельности. Как и Р.Жирар, первоначально Фуко рассматривает вопрос о производстве субъекта «практическим образом», то есть, отправляясь от изучения истории культурных институтов, которые превратили автономного субъекта в «объект подчинения» при помощи различных социальных технологий. Однако отсюда невозможно было понять, насколько «схемы поведения, мыслей, чувств» были определены самим субъектом и каким образом они в его глазах обретали ценность в качестве культурного предписания? В отличие от Жирара, Фуко, в конце концов, приходит к неизбежности введения в теоретическое поле исследования субъекта, помимо «техник подчинения», так называемых, «техник себя», которые позволяют индивидам самим осуществлять процедуры, фиксирующие, сохраняющие и изменяющие их идентичность. Так же и Рикёр, стремясь вскрыть археологию субъекта, вынужден редуцировать аналитику природы человека к артефактам сознания для реконструкции исходных желаний и влечений индивидуального «Я» – ради герменевтического истолкования (в ситуации «выбора, усилия и согласия» воли) и уяснения форм их сублимирования в культуре. Таким образом, усиление и обострение проблематизации субъективности возвращает современную мысль к «архаике» – переосмыслению истоков человеческой культуры и цивилизации ради понимания судеб и дальнейшего пути требующего «жертв» современного мира.
В целом, можно заметить, что в отношении феномена жертвенности в философской литературе – как зарубежной, так и отечественной, – преобладают культурологические и антропологические экспликации, базирующиеся на достижениях различных областей гуманитарного знания: культурной антропологии и структурализма, этнографии, этнологии, сравнительного литературоведения и искусствознания, и др. Из отечественных мыслителей, так или иначе затрагивавших проблему жертвенности в ходе решения различных конкретно-научных и культурфилософских задач, стоит упомянуть работы В.Н.Топорова, Е.М.Мелетинского, В.П.Горана, А.В.Ахутина, А.В.Семушкина, Е.А.Наймана. Стоит отметить и работы, курсирующие в направлении обоснования онтологических истоков жертвенного акта: в контексте поиска психоаналитических структур жизненного мира человека – это труды З.Фрейда, Ж.Лакана, Ю.Кристевой; в ракурсе понимания жертвенности как символического акта – работы Ж.Бодрийяра, в контексте проблемы «трагического» – исследования Ф.Лаку-Лабарта, П.Зонди и др.
Постановка проблемы исследования.
Уже мифологическая разработка темы жертвы отсылает к некоему первоистоку, к исходному началу, соединяющего человека с тем, откуда он впервые появился как человеческое существо и что постоянно его поддерживает и питает в способности жить в равновесии с миром людей, космосом и богами. Отсюда, становится объяснимым рассмотрение феномена жертвенности в теснейшей связи с историко-генетической проблематикой, включающей в свою орбиту вопросы происхождения «человеческого» и «культуры», начал «мира-истории», особым случаем переплетения которых в пространстве европейской цивилизации стала, по нашему мнению, символическая фигура «судьбы», в трагически конфликтном зазоре смысловых составляющих которой нашел выражение опыт становления истории как жертвенной динамики конверсивной практики сознания и бытия «культурного человека». Жертвенный акт выражает собой не что иное, как организующее пространство исторической трансценденции – пространство сакральных преобразований, в которые втянут человек, чтобы состоялся его опыт как существа «человеческого», в том числе и как опыт «судьбы». Что понуждает человека к жертвенности? И если в ней, как в некоем тигле, плавится «человечность» человека, то какие силы запускают этот механизм и что, все-таки, заставляет человека включаться в этот процесс «переплавки»? Поскольку центр тяжести переносится с вопроса функционирования символики судьбы в культуре на вопрос о её производстве (а именно: какова движущая сила порождающих её значений?), постольку главной проблемой нашего исследования стали поиски истоков и оправдание жертвенного акта как константного условия преобразования и трансформации культурно-исторического мира.
Цель и задачи исследования.
Через экспликацию онтологических и антропологических оснований «жертвенного акта» построить критическую аналитику культурного опыта, выражающего и формирующего условия и границы трансформации субъекта истории.
Достижение поставленной цели предполагает постановку следующих задач:
1. Исследовать архаико-культурное и религиозно-мистериальное содержание жертвенного праксиса. Раскрыть феномен «сакрального» бытия человека как структурно-мифологического выражения жертвенного акта в истории (морфология «эроса» и «ритуала»).
2. Раскрыть и обосновать перспективы и границы дополнительности этнографических, культурантропологических, социологических и философских «технологий» в отношении рефлексии «природы» и «истории» человека.
3. В контексте проблемы генезиса архаических форм сознания («мифа» и «ритуала») критически рассмотреть ритуально-социологическое и структуральное направления в истории антропологического знания. В процессе анализа истоков социокультурной динамики истории раскрыть методологический и эвристический потенциал теории «жертвенного кризиса» Р.Жирара.
4. В ходе критического рассмотрения различных теоретических моделей конституирования структуры человеческого бытия выявить и сформулировать онтологические и культурно-антропологические основания проблемы «жертвенности».
5. Рассмотреть социо-антропогенетические и онтологические истоки символики судьбы на примере анализа феномена «трагического». Зафиксировать онтологические и культурантропологические основания феномена жертвенности в контексте генезиса символа судьбы в истории европейской цивилизации.
Объектом исследования является сакральное бытие человека, в центре которого находится феномен жертвенности в качестве истока символического мышления.
Предметом исследования выступает генезис символа судьбы, конституирующий структуры специфического человеческого опыта, основанного на вытеснении жертвенных механизмов и, тем самым, формирующий историю субъекта в культуре.
Методологическая основа исследования.
В соответствии с перечнем сформулированных задач в работе используются следующие методы:
1. Метод культурной герменевтики. Данная методология разработана на основе «регрессивно-прогрессивной» методологии П.Рикёра, в центре которой идея соотношения полярных технологий исследовательских практик, при строгом учете и фиксации границ их применения (например, фрейдовского метода регрессии как археологии субъекта и гегелевского метода прогрессии как телеологии субъекта). При анализе динамики культурных явлений (мифосознания, ритуалов, символов) исходным стало соотнесение объективного понимания структур человеческого опыта, реализованного в аналитико-генетической традиции культурантропологии (ориентиром движения мысли в данном направлении послужила «фундаментальная антропология» Р.Жирара) и «экзистентного» понимания, или, процедур герменевтического истолкования, сфокусированных в сторону самосознания как истока динамики смыслов культуры (где упор сделан на философские традиции герменевтики субъекта культуры, прежде всего, М.Фуко и П.Рикёра).
2. Психоаналитическая традиция исследования «вытесненных» форм сознания. В частности, открытая З.Фрейдом, и переформулированная Ж.Лаканом в рамках экзистенциально-феноменологической аналитики «негативности» конститутивная структура человеческого опыта – «возвращение вытесненного», – была использована в ходе анализа процессов формирования субъективности при эксплицировании онтологических оснований феномена жертвенности.
3. Компаративистский анализ. Этот метод позволил корректно формулировать проблему жертвенности относительно различных срезов предметной сферы исследования в ходе анализа подходов, теоретических моделей, концепций, выявления достоинств и слабых мест их обоснования и аргументации.
Новизна исследования.
Впервые в отечественных исследованиях:
1. Сформулированы основные положения теории, объясняющей феномен жертвенности в единстве его онтологических и культурантропологических составляющих.
2. В ходе определения предметности культурной герменевтики, сочетающей способы изучения причин, факторов, механизмов становления и распада социокультурных явлений и способы самосознания смысла и истоков исторического бытия человека, обоснован и теоретически развернут принцип дополнительности конкретно-научного и философского знания в области антропологических исследований.
3. Систематизирована история исследований проблемы генезиса «мифа» и «ритуала» в контексте идеи жертвоприношения как несущем каркасе формирования структур сакрального опыта, установлены границы применения методов структуральной антропологии и ритуально-социологического подхода к анализу семантики архаических форм сознания.
4. Показан эвристический потенциал методологических и содержательных аспектов теории Р.Жирара в качестве версии антропогенеза, акцентирующей «механизм жертвы отпущения» и состояния «жертвенного кризиса» как движущие силы истории, определены перспективы данной теории в выработке подходов к сфере археологии генезиса феномена и символики «судьбы».
Положения, выносимые на защиту:
1. Выявлено, что ритуально-жертвенная структура «эроса» как силы влечения индивида, преобразует естественно-витальную природу живого существа в социокультурные формы сознания и акты обеспечения истории, проясняющие специфику сакральной сферы бытия человека.
2. Показано, что онтологические основания феномена жертвенности, встроенного в генеалогию субъективности как символического акта, инсценируют хроносмысловые аспекты события «утраты» и его «возмещения» (репарации), организующим принципом которых, в свою очередь, является праксис матрицида.
3. Обосновано, что в качестве истоков символа судьбы в культуре выступают механизмы динамики антропологической реальности как циклотимично осциллирующей системы, замещающей феномен взаимного насилия актуализациями «сакрального» (социо-генетический аспект),
4. Доказано, что структура процесса индивидуации, экзистирующая как стремление к «цезуре» – разрыву в циклотимическом чередовании, – формует способности человека к самоопределению и духовному преобразованию (онтологический аспект).
5. Показано, что в ситуации усиления и обострения проблематизации субъективности, способы истолкования инвестированных жертвенным актом социальных и культурных «смыслов» в природу «человеческого», позволяют подойти не только к решению генеалогии символики «судьбы» и феномена «трагического» в культуре, – но и намечают перспективы переосмысления истоков человеческой культуры и цивилизации.
Теоретическая и практическая значимость результатов исследования:
1. Работа вносит вклад в развивающуюся тенденцию современного гуманитарного знания, направленную на взаимодействие философской рефлексии и конкретно-научного знания, в частности, добытого культурной антропологией, структурализмом, этнологией в объяснении истоков мифа и ритуала как естественно спонтанного процесса становления реалий самого человека. В этом отношении показательна актуализация данным исследованием в отечественной философской литературе теоретического освоения творчества Р.Жирара, существующего на стыке предметностей социокультурной и философской антропологий.
2. В отношении проблемы производства символического мышления данное исследование, показывая несостоятельность ритуально-социологического и структуралистского подходов, обосновывает перспективы развития традиции герменевтики субъекта культуры, реализованной в творчестве П.Рикёра и позднего М.Фуко.
3. В ходе теоретической реконструкции процесса антропогенеза заложены основания нового прочтения процесса происхождения и организации форм человеческого опыта и социальных технологий истории.
4. Содержание исследования позволяет задать онтологические параметры феномена жертвенности в качестве способа реализации символического акта, тем самым активизируя проблематику «фатальных стратегий» европейской культуры в способах формирования субъективности и предлагая развитие психоаналитической традиции в ее постлакановской форме.
5. Проект, реализованный в работе, предлагает новый взгляд на методы исследования феномена жертвенности как некоего социально-генетического кода развития антропологической реальности, конституирующего онтологическую структуру человеческого опыта, что является продуктивным в качестве концептуального инструментария в области постметафизического пространства современной философии, широко экстраполирующего в предметную сферу философии культуры и философской антропологии достижения научных гуманитарных исследований.
6. Результаты диссертации могут быть использованы в качестве теоретической и методологической базы исследований специалистов, научных работников, философов, изучающих проблемы онтологии, философской антропологии и философии культуры, а также в практике гуманитарного образования, как для преподавания историко-философских дисциплин, так и систематических учебных курсов для студентов и аспирантов философских специальностей. В частности, на историко-философском факультете Гуманитарного института Сибирского федерального университета результаты настоящего диссертационного исследования были использованы при подготовке таких курсов, как «История зарубежной философии: Античная философия», «История зарубежной философии: вторая половина XX века», «Актуальные проблемы современной философии».
Апробация работы.
Результаты диссертационного исследования опубликованы в 3 монографиях, 7 статьях из Перечня ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть представлены основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, и 12 статьях в прочих изданиях.
Основные положения диссертации обсуждались на теоретических семинарах кафедры истории философии и логики философского факультета Томского государственного университета и кафедры философии историко-философского факультета Гуманитарного института Сибирского федерального университета.
Результаты исследования докладывались на международных и российских конференциях и семинарах: Международной научно-практической конференции (Красноярск, КГТУ, 2002), Всероссийской научно-практической конференции (Красноярск, КГТУ, 2005), Всероссийской научно-практической конференции (Красноярск, СибГТУ, 2006), Четвертой Международной конференции «Человек в современных философских концепциях» (ВолГУ, Университет Стефана Великого (Румыния), Международное философское общество С.Франка, Российское философское общество, Волгоград, 2007), Международной научной конференции «Декаданс в Европе и России: 150 лет жизни под знаком смерти» (Волгоград, 2007), IV международной научной конференции «Философия ценностей: религия, право, мораль в современной России» (Курган, 2008).
Структура диссертации.
Диссертация состоит из введения и двух разделов, включающих в себя «Предварительные замечания» к каждому разделу, пять глав (шестнадцать параграфов), заключение и список литературы.
Платон: Эрос — демоническая энергема бытия
Определив сакральное как опыт понуждения человека к трансценденции, напрашивается представление о нем как о некоем посреднике между собственно «трансцендентным» и собственно «человеческим». Первым категориальным анализом подобного опыта, исследующим взаимодействие «божественного» и «мирского», можно признать знаменитый «Пир», посвященный одной из самых интригующих тем платоновского знания - проблеме Эроса.
Известно, что последняя стала совершенно необходимым компонентом философского корпуса представлений античного идеализма, послужив соединительным звеном между «Гиперураиией» - «занебесной областью» эйдосов и миром чувственных форм. Характерно, что человек, казалось бы, принадлежащий обоим мирам, тем не менее, не стал точкой опоры в поиске связи между ними. Прежде всего, потому, что сам он разделен и раздвоен противоборствующими стремлениями; нет в нем единства и той силы, которая могла преодолеть его собственный, внутренний разлад. Вл. Соловьев в своей христианизированной интерпретации диалога так комментирует платоновское решение: «Не было связи между совершенною полнотою богов идей и безнадежною пустотою смертной жизни. Не было связи для разума. Но произошло нечто иррациональное. Явилась сгша средняя между богами и смертными - не бог и не человек, а некое могучее демоническое и героическое существо. Имя ему - Эрот, а должность - строить мост между небом и землей и между ними и преисподнею. Это не бог, но естественный и верховный священник божества, то есть посредник - делатель моста-»1 (курсив мой И.К.).
Вследствие посреднической задачи, поставленной богами перед Эротом, действие его природы раздвоено, что обусловлено и, в свою очередь, подтверждается историей его происхождения. Как это часто бывает в платоновских текстах, однозначного ответа на вопрос о генеалогии Эрота мы не найдем. В начале диалога устами Федра утверждается его «древнейшее происхождение»: Эрот был первым в ряду богов после первоначального Хаоса, в связи с чем «он явился для нас первоисточником величайших благ»". Л через несколько страниц Агафон спорит с Федром, настаивая на том, что он самый молодой из богов и молодость - его прирожденное свойство, «ведь боги не оскопляли бы и не заковывали друг друга и вообще не совершали бы насилий, если бы среди них был Эрот, а жили бы в мире и дружбе, как теперь, когда Эрот ими правит»3.
Опыт, в котором присутствует Эрот - это всегда опыт амбивалентный, опять же, происходящий от странного родства (из рассказа Диотимы): матерью его была богиня бедности, просящая подаяние - Пения, отцом - бог изобилия и богатства - Порос. (Отметим, что миф о рождении Эрота от Пороса и Пении нельзя найти ни в одном мифологическом словаре - он вымышлен Платоном и «воспринимаемый аллегорически... создает совершенно новый образ Эрота, не сравнимый ни с какой иной его трактовкой в античности» .) Соответственно, Эрот то ввергает человека в состояние страха и отчаянной нужды, то возносит его на вершины счастья: «он по-отцовски тянется к прекрасному и блаженному, он храбр, смел и силен, он искусный ловец, непрестанно строящий козни, он жаждет разумности и достигает ее, он всю жизнь занят философией, он искусный чародей, колдун и софист. По природе своей он ни бессмертен, ни смертен: в один и тот же день он то живет и расцветает если дела его хороши, то умирает, но, унаследовав природу отца, оживает опять. Все, что Эрот ни приобретает, идет прахом, отчего он никогда не бывает ни богат, ни беден»5 (курсив мой - И.К.).
Отсюда - представление о двух Эротах: первом, служащем музе Урании - богини небесной, направляющей к достижению блага и нравственному совершенствованию, как человека, так и государство, и втором, сопутствующем Афродите Полигимнии, прибегать к которому следует с осторожностью, потому как Эрот Афродиты пошлой «поистине пошл и способен на что угодно» Необходимо принимать во внимание обоих Эротов, так как и тот, и другой присутствуют и в делах человеческих, и в делах божественных. И тот, и другой Эроты направляют человеческие желания, руководят ремеслами, музыкой, искусством врачевания, управлением государства, стремят человека к его изначальной целостности, самому Зевсу помогают править людьми и богами, устраивают всякие собрания, «избавляя нас от отчужденности и призывая к сплоченности»7, а также они отвечают за жертвоприношения и искусство гадания. Особо подчеркиваются последние способности Эрота, поскольку жертвоприношение связано с общением богов и людей, а это есть не что иное, как «охрана любви», и гадание - «творец дружбы между богами и людьми, потому что оно знает, какие любовные вожделения людей благочестивы и освящены обычаем» .
Диотима, на долю которой как женщине выпало не только право участвовать в философской беседе, но поучать самого Сократа9, в своей заключительной речи, снова возвращается к принципиальной двойственности Эрота, в результате которой он, получается, причастен и не причастен тому, что соединяет, образуя нечто третье.
- Кто же он, Диотима?
- Великий гений, Сократ.
Согласно Диотиме, вот назначение гениев: «Быть истолкователями и посредниками между людьми и богами, передавая богам молитвы и жертвы людей, а людям наказы от богов и вознаграждения за .жертвы. Пребывая посредине, они заполняют промежуток между теми и другими, так что Вселенная связана внутренней связью. Благодаря им возможны всякие прорицания, жреческое искусство, и вообще все, что относится к жертвоприношениям, таинствам, заклинаниям, пророчеству и чародейству. Не соприкасаясь с людьми, боги общаются и беседуют с ними только через посредство гениев - и наяву и во сне. И кто сведущ в подобных делах, тот человек божественный... Гении эти многочисленны и разнообразны, и Эрот - один из них»" (курсив мой - И.К.).
Особое положение и трудности обозначения Эрота связаны с его пролшжуточным топосом, определяющим природу этого бога через поиск согласия противоположных начал, среди которых самым важным будет стремление смертной природы стать по возможности бессмертной и вечной: «Бессмертия ради сопутствует всему на свете рачительная любовь»11. А поскольку рождение - это и есть та доля бессмертия и вечности, которая отпущена смертному существу, то, следовательно, и любовь определяется, в конце концов, Диотимой не просто как «прекрасное», но как стремление родить и произвести на свет в прекрасном.
Очевидно, что проблема, которую Платон поставил под именем Эрота, некоторым образом «выпадает» из рационалистического дискурса, недаром впоследствии став достоянием, в первую очередь, мистической традиции в философии. Представляя собой некую силу и динамическое начало - связующее звено между небесным и земным, энергему бытия, Эрос неизбежно порождает двойственное о себе представление, ведь там, где присутствует изменение, присутствуют и все превратности роста. Но, в конце концов, все эти превратности роста ведут человека к целостности, внутренней осуществленности его эйдетической сущности, то есть к тому, благодаря чему, по совету Платону, всякую человеческую жизнь можно превратить в произведение искусства.
Очевидно в платоновском диалоге и другое - не антропоморфная природа Эрота, впрочем, точно также она и - не теоцентричная; его природа иная. Платон не говорит: какая именно? Но определяет ее через отведенную Эроту посредническую роль, называя последнего «гением».
Эрот отвечает, в итоге, за сферу деяний, за все то, что рождается и производится на свет, что освящено благочестием и установлено обычаем и одновременно он тот, кто посылает чары и искусно расставляет ловушки.
К чему его сети? К тому, чтобы стремить человека к благу. Эрот - это тот, кто зароняет в человеке самое желание, а также стремление; кто сеет семена, дабы человек испытывал «страстное желание родить» 2: «Те, у кого разрешится от бремени стремится тело... обращаются больше к женщинам и служат Эроту именно так, надеясь деторождением приобрести бессмертие и счастье и оставить о себе память на вечные времена. Беременные же духовно... и притом, в большей степени, чем телесно, - беременны тем, что как раз душе и подобает вынашивать. А что ей подобает вынашивать? Разумение и прочие добродетели»13. Получается, в ведомстве Эрота ни много, ни мало, как возможность обретения человеком «духовных даров» - собственно «человеческого» содержания; сам же Эрот «ни беден, ни богат», он не обладает дарами, но он к ним ведет, заставляя не только искать их, но и мучиться ими, пока они не произведут плодов.
«Мимесис присвоения» и «мимесис ритуальный»: версия антропогенеза
Согласно концепции Жирара, людей отличает от всех других живых существ два свойства: «предельное развитие миметических способностей»1 и умение разрешать миметический кризис посредством жертвоприношения, благодаря чему и рухнула доминанта инстинктивных начал в природе человека и начался переход к собственно человеческим отношениям внутри группы. Тем самым, способность человека к мимесису и жертвенности оказывается базовой, с его точки зрения, для создания теоретической реконструкции процесса антропогенеза - хода возникновения и организации, как форм человеческого опыта, так и социальных технологий истории.
Через понятие «мимесиса» и, связанного с ним понятия «жертвы» Жирар выстраивает все те характеристики «сакрального», которые, в конечном итоге, ведут к определению последнего как сублимации коллективного насилия. Чтобы утвердиться в этом мнении, поясним разницу между «миметическим» и «жертвенным»" кризисом. Итак, специфика человека, по Жирару, заключается не столько в разумности, сколько в подражании - мимесисе. Однако если каждый член общества так или иначе подражает "другому", то неизбежно возникает система с обратной связью, развивающаяся в сторону усиления соперничества -насилие, как ничто другое «заразно» (кто-то будет источником насилия, кто-то проводником, а кто-то будет бороться "против"). «Заразность», в том числе, подразумевает и операцию "замещения" - агрессивную склонность обрушивать силу на "иной", запасной предмет за недоступностью (или отсутствии) исходно главной мишени. Подавляемое насилие в итоге всегда распространяется - и, как мы знаем, горе тем, кто окажется на его пути.
В результате, возникает ситуация «миметического кризиса», которая дезинтегрирует социальные связи, но, при этом, принципиально неустранима. Единственный выход - направить, «пустить» насилие в определенное русло, изменив и обратив в нечто "созидательное" его содержание: разрушительное насилие нейтрализуется, и самим же насилием вытесняется, преобразуясь в насилие «обоснованное»; жертва, из «ненавистной» и обвиненной во всех грехах, искуплена и становится сакральной. «Благодаря жертвоприношению появляется различие между «законным» и «незаконным» насилием, и именно поэтому жертва обеспечивает мир внутри общности - состояние, - как утверждает исследователь творчества Жирара, А.И.Пигалев, — которое не способен создать ни один смертный»3. По-видимому, можно вести речь о процессе сублимации насилия — преобразовании и переключении энергии, идущей от аффективных влечений, на цели социальной деятельности и культурного производства.
Трудно не согласиться и с другим мнением А.И.Пигалева относительно того, что благодаря концепции Жирара мы имеем дело с нетрадиционно новой версией антропогенеза, в центре которой -механизмы, нейтрализующие миметическое соперничество, или, «мимесис присвоения», К примеру, как объяснить тот факт, что ни одно живое существо, кроме человека, не выбирает себе брачного партнера за пределами локальной группы, если есть возможность найти такового внутри нее, так же как и не выбирает предмет потребности на удалении, если может завладеть подобным вблизи? Жирар уверяет: страх возникновения миметического кризиса побуждает человека к созданию социально позитивных форм и технологий жизни, и, прежде всего, такой как "обмен".
И действительно, к примеру, что вызвало переход от естественной ритмики полового влечения живого существа к специфически человеческой форме сексуальности, свободной от природных циклов и времени года, и потребовавшей новых способов регуляции поведения -социальные "табу" (запрет инцеста и требования экзогамии), а также и принцип обмена, на котором выстраиваются и все социально-экономические отношения (обмен пищей, оружием, землей и т.п.)? Все это имеет происхождение, прежде всего, от «мимесиса присвоения», в глубине которого боязнь и спасение от разрушительной силы подражания-соперничества. Отсюда, подчеркнутое расхождение Жирара с Леви-Строссом в вопросе об истоках "обмена", в основе которых не брачные правила, но запреты: «Запрет ложится на всех женщин, послуживших предметом соперничества, следовательно, на всех близких женщин - не потому, что им присуща большая желанность, а потому, что они близки, потому, что предложены соперничеству. Основанные отнюдь не на химерах, они мешают близким впасть в мимесис насилия (курсив мой -И.К.)»4.
Первичная функция запрета - охрана "зоны минимального ненасилия", чтобы жизнь общины вообще могла состояться: если в животном мире насилие ограничено естественным торможением - особи одного вида никогда не бьются насмерть и "победитель", добившись цели, бросает (щадит) "побежденного", - то человеческий вид такой витальной охраны лишен, но, при этом владеет социально-культурным оружием защиты "жертвой отпущения", что с особой остротой в свое время прочувствовали еще гуманисты Возрождения, утверждавшие, что человек по своей природе может быть «выше» ангелов, но может быть и «ниже» зверя.
Итогом «миметического кризиса» всегда будет «жертвенный кризис» как кризис различий: все мифы и ритуалы, как мы уже знаем, так или иначе отражают и преодолевают его на путях принесения жертвы. Еще раз акцентируем эту связь - Жирар на примере аттических трагедий показывает: как только на «сцену выходит» насилие (приходит чума, рушится город, терзает загадками сфинкс и т.д.) - тут же появляется "сакральное"! - средоточие и разряд коллективного насилия на "жертве" неизменно совпадает с той или иной теофанией. Таким образом, развал культурного порядка, порожденный миметическим кризисом, неотделим от роста взаимонасилия - по мнению французского мыслителя этот «двойной и единый кризис» и составляет «фундаментальную этнографическую реальность», которую невозможно оспорить и скрыть никаким благодушием историка. Жирар блокирует любую романтическую идеализацию прошлого (свойственную, к примеру, теории мифа Хюбнера), основанную на слепоте к тому, что скрывают мифы.
Отсюда, следуя рассуждениям Р.Жирара, А.И.Пигалев предлагает дефиницию: «сакральное представляет собой определенную метаморфозу насилия, которое отделяется от людей в качестве его носителей (субъектов) так, что возникает иллюзия его не только независимого, но и в некотором смысле первичного по отношению к людям1 существования»5. Другими словами, насилие и священное неразделимы; ритуальное трансцендирование «священного» - гарант насилия законного и легального в обществе, то есть того насилия, которое человек допускает как «естественное для себя», не вызывающее сомнения и существующее в своей неизбежной фактичности, в отличие от насилия имманентного, неуправляемого, незаконного и греховного, которое либо «претерпевают», либо совместно преодолевают.
Подчеркнем еще раз роль «принципиального непонимания» ритуального действа: люди не должны знать о роли жертвенного «насилия» и учрежденной «виновности», иначе не будет согласия относительно «жертвы», которая есть нечто, угодное богам. Жирар подчеркивает, что механизм жертвенного замещения «лечит» человеческое сообщество лишь до тех пор, пока остается скрытым и неосознанным. Неслучайно, одной из функций мифов было обязательное камуфлирование процесса «обосновывающего линчевания». Жирар называет это «центральной стратегией», благодаря которой людям удавалось изгонять, игнорировать «чудовищную» правду собственного насилия; это и был тот «разрушительный фактор», который мифологическая история исстари «прятала» в недрах своей синхронии.
Какие же продуктивные и эвристические следствия можно почерпнуть при истолковании феномена «человеческое, слишком человеческое» благодаря предложенной здесь концептуализации понятия «жертвы»? Во-первых, обнаруженная Жираром социокультурная природа сакральных и религиозных явлений ориентирует на решительный отказ от «виталистских» принципов рассмотрения антропологической реальности. Во-вторых, отрицательное отношение к руссоистскому принципу противопоставления природы и культуры в исследованиях человеческой истории, знаменует не только новые подходы к модели антропогенеза, но формирует и иные ценностно-телеологические ориентиры в интерпретации символики человеческого опыта, совершенно меняя взгляд на роль и значение его религиозной составляющей.
К фрейдовской теории виновности, или, «возвращение вытесненного» как онтологическая основа жертвенности
Однажды Кьеркегор заметил, что если бы в язычестве появились понятия вины и греха в их «глубочайшем смысле», то язычество погибло бы вследствие того противоречия, согласно которому человек становился виновным посредством судьбы; это противоречие, согласно датскому философу, есть высшее противоречие, из которого рождается христианство с его полаганием индивида как единичного1. Другими словами, виновность представляет собой некий механизм, действие которого формирует западный тип субъективности. На фоне этого, достаточно привычного для европейской ментальносте рассуждения, жираровское объяснение природы виновности лежит в совершенно иной интеллектуальной плоскости.
Жирар считает, что в основе чувства виновности находится принципиальная скрытость механизма жертвы отпущения - те, кто превращает собственное насилие в сакральное, не в состоянии увидеть истинную причину своей и чужой виновности2. В возвышенном переживании, свойственном западной душе и отличающем ее от иных психических пространств, - в переживании трагедийной виновности человеческого бытия, французский ученый обнаруживает наследство древних ритуальных практик (в том числе и каннибалистических) в развитии антропологической реальности.
В этом плане, по мнению Жирара, древнегреческий феномен трагического очищения от страстей, порожденный ничем иным, как эффектом линчевания, находится в разительной контрастности по отношению к библейскому столкновению Иова с друзьями, пришедшими его утешать (а на деле - как раз обвинять). Весь ход ветхозаветной поэмы, послужившей впоследствии не только основой для критики ортодоксального иудаизма, но и пророческим служением «благой вести», демонстрирует не катарсис, ожидаемый от единодушного вменения вины Иову, но полное его исчезновение. В страданиях Иова, как бы они не были похожи на страдания Эдипа, обнаруживается процесс начавшейся десакрализации коллективного насилия, завершившейся в истории Христа. Иов и Иисус тоже разнятся между собой, но их объединяет то, что они, в отличие от Эдипа, не стыдясь, говорят о том, что они испытывают. Чувство виновности, по Жирару, на самом деле служит своего рода знаком, указывающим на ложные социокультурные порядки: всякий раз, когда преследователи заставляют свои жертвы идти «путями древних», эти пути принимают форму «божественного возмездия», с одной стороны, и «заслуженного наказания» - с другой.
В столь категоричной культурфилософской экспликации дает о себе знать, прежде всего, методологическая решимость французского антрополога остаться в границах ритуально-социологического прочтения жертвенного акта, когда понятия вины и греха — зла, в конечном счете — относят к тому, что «зарождается» исключительно на уровне символического бытия человека: зло - это то, что творит сам человек; нет никакого «метафизического» зла; мы в ответе за то, что делаем сами. Такое впечатление, будто ожил старый спор о природе зла и виновности между британским монахом, Пелагием, и Августином - спор, мимо которого так или иначе не проходил ни один крупный мыслитель и который не раз накалял умственную атмосферу европейской истории3. Так как эта дискуссия задала некое фундаментальное для западной философии направление дискурса, проясним ее основные тезисы.
Пелагий, исходивший из представления о человеке как существе рациональном и самозаконном, отстаивал точку зрения, защищавшую, как он полагал, свободное человеческое произволение, его естественную свободу и, следовательно, ответственность за содеянное. Августин выводил и доказывал более сложную «конструкцию» умозаключений: безусловно, человек дает начало злу, через него оно входит в мир, но он дает начало злу, лишь отправляясь от зла, которое уже есть и непостижимым символом которого является наше рождение, изначально включенное в некую греховную «субстанцию»4. Именно такую смысловую нагрузку несет на себе понятие «первородного греха», являющееся, по сути дела, рационализированным мифом5. Почему в этом вопросе Августин, истовый христианин, предпочел остаться близким, по сути, манихейскому пониманию зла, в свою очередь, нисходящему, к более древним, например, орфическим истокам? Потому что вопрос состоит в том, что мы теряем в, так называемом, процессе разоблачения мифа, в процессе редукции символики виновности к рационально постижимой теодицеи - не утрачиваем ли мы необходимую для ума глубину символической парадоксальности,- всегда содержащую внутри одного мифа конфликт мифов (Эдип так же, как и Адам, виновен и невиновен одновременно), не выкидываем ли мы вместе с водой ребенка?
В процессе становления бытия зло, которое всегда уже есть, то есть включено в развитие, исчезает ли оно в результате нашего этического видения мира? Августиновская позиция привлекает внимание тем, что предлагает неэтическую концептуализацию зла, перенося акцент с моральности на экстериоризацию, отчуждение Духа, Истины, Откровения — инвестирование с помощью зла мирового движения, внутри которого, созревает человеческий выбор, совершаемый в свободе. Августин пытается удержать в своей противоречивости две вещи: пришедшее из архаики признание вины (зла, греха) как начала объективного и квази-природного (боги, пославшие судьбу Эдипу; Змей, более древний, чем Адам) и эсхатологическое (!) преодоление вины в динамике спасения.
Если снова вернуться к теории Жирара - получается, позитивистски-пелагиански толкующего природу человека, - то заметим следующее: дело в том, что это со-присутствие изначального зла, порождающее неизменный «трагический остаток» во взаимоотношениях человека и мира, парадоксальным образом способствует формированию субъектного «порядка» бытия, основанного как раз на осознании неустранимого разрыва, раскола между личностным существованием и теми мощными силами; процессами, пульсациями, частью которых человек неизбежно себя обнаруживает и самораскрытие которых способствует движению антропологических трансформаций: «А когда умножился грех, стала преизобиловатъ благодать» (Рим. 5,20).
На самом деле структура виновности вызвана не только эффектом отчужденного социального бытия; она. также является частью самого субъекта, позволяющей ему встроиться в символическую сеть языка и социальных, отношений. В нашем случае теория виновности; может послужить способом «перехода» от социологически ориентированной концепции Жирара к психоаналитической версии жертвенности, в центре которой находится; судьба, становящегося субъекта,, складывающаяся в напряженной, динамике с; миром, в- который он рождается. Как известно, именно философско-антропологическими параметрами «возвращения к Фрейду»был ознаменован интерес к психоанализу в современной мысли. По мнению, допустим, Рикёра, Фрейда необходимо читать так же, как наши учителя читали; Декарта и Канта. Теория- Фрейда; конечно же; не является исчерпывающим объяснением природы культуры и общества, однако, «не ограничена с точки зрения; ее объекта, то есть человека, которого она хочет постичь в его целостности»6.
Особенность психоанализа в понимании соотношения между миром и человеком, всеобщим w единичным, заключается не в /хядоположенности социального и индивидуального, а в установлении» взаимообратимости и континуальности одного. и другого; по выражению С.Жижека: «Объективный» порядок социальной Субстанции существует лишь постольку, поскольку индивидуумы практикуют его в качестве, такового, относятся к нему как таковому»7. Чтобы подобраться к субъекту, а именногк тому, что лежит в основании его способности к страданию, необходимо совместить перспективы, взглядов, учитывая и. макромодели, описывающие поведение индивидуумов при их взаимодействии, и микрологию! процесса означивания; дабы, наконец, понять - почему смещение коллективной? агрессии становится возможно и какую роль в формировании субъективности оно играет? Жертва потому и «символизирует» собой переход от взаимного и разрушительного насилия к порядку и единодушному «пониманию», так как обеспечивает его и защищает; но обеспечивать и защищать его она может только благодаря прорастанию в динамике формирующейся субъективности.
Опустошение сакральное в поэтике Ф.Гёльдерлина
Одно из самых стойких заблуждений литературной и философской критики при чтении трагедий, считает Хюбнер, наивное допущение того, что Софокл хотел лишь художественными средствами выразить зарождающееся просвещение и критику мифа. Боги не только наказывают Эдипа, они же и умиротворяют его: тот же Аполлон ведет слепца к священной роще в Колоне, где Эдипу даруется божественное прощение и мирная смерть. Все великолепие бытия сосредотачивается вокруг Эдипа, демонстрируя многочисленные божественные эпифании, которые его сопровождают на этом пути: Аполлон, благостные Эвмениды, «Дионис желанный», Афродита, Афина, Аид и Деметра-Хлоя, матерь-Земля и Зевс - боги-олимпийцы и хтонические силы осуществляют здесь некий ритуал умиротворения, несущий смертному милость и успокоение.
Очевидно, что Софокл не покидает почвы мифа, оставаясь в его нуминозной сфере и умом и чувствами, однако место разрыва, обозначенное нами в качестве «цезуры», в трагедии все же присутствует. Если мы до сих пор наблюдали, как разлад в нуминозном (объясненный нами в качестве динамики насилия антропологической реальности) проходит и отображается - оседает - в человеке, провоцируя жертвенный акт, и, в конце концов, прилшряет его с божеством/общиной, то указанная нами «цезура» есть не что иное, как осознание человеком раскола, крайнего диссонанса, катастрофического отчуждения между божественньїлі и человеческим. На это указывает подавляющее и, буквально, затопившее Эдипа своей силой отчаяние как знак отречения от него богов, а также, по сути своей, самоубийственный жест ослепления - ответные реакции, которые выстраивают некое чередующее равновесие в этом насыщенном насилием действии между судьбой и человеком, но в то же время эти реакции не выходят за пределы самости Эдипа, разрушая и утверждая ее одновременно. «Цезура» — это боги, оставляющие и покидающие человека и предоставляющие его самому себе, - таково было главное испытание Эдипа.
«Цезура» (caesura - рассечение) - грань, рассекающая целое на части; промежуток, разрывающий длительность; пауза перед вдохом. В таком контексте употребляет это понятие Гёльдерлин применительно к греческой трагедии. «Временную приостановку набирающего скорость катастрофического процесса чередования, колебания и вибрации противоположностей Гёльдерлин обозначает словом «цезура». «Цезура», представляющая собой некое контрритмическое вторжение, становится необходимой для того, чтобы связать бесконечное ритмическое чередование противоположных представлений в кульминационной точке и достичь какого-либо равновесного состояния, которое предохраняет от выдвижения вперед и доминирования какого-либо одного из полюсов противоположностей. «Цезура» как интервал «между» является пустым моментом, тормозящим процесс ритмичного чередования»1. Чтобы в полной мере утвердиться в необходимости применения к трагедии данного понятия и осуществить связанные с ним дефиниции, немного отступим от заданной темы, сделав небольшой исторический срез в проблеме интерпретации генезиса и сущности трагедии.
Вообще, в западно-европейской интеллектуальной практике в самом общем виде прослеживаются две основные традиции в толковании трагедии: классическая, идущая от классической эстетики и трудов Винкельмана и Лессинга, Гёте и Гердера, и нисходящая к античным теориям трагедии и неклассическая, начавшаяся с произведений Гёльдерлина и Ф.Ницше и продолженная в XX веке достижениями ритуализма (от Фрэзера и
Кембриджской школы до различных версий неомифологизма), а также подкрепленная трудами психоаналитического направления, впоследствии преобразованная в русле, намеченном постструктурализмом и хайдеггеровским прочтением античности и продолженная Р.Жираром, Ф.Лаку-Лабартом, Нанси Ж.-Л., П.Зонди, А.Ахутиным, П.Рикёром, К.Хюбнером и др.
Античные теории занимались в основном вопросами воздействия трагедий на слушателей и потому их интересовали большей частью формальная структура, а не культовое или мифическое содержание трагедии, не в последнюю очередь, считает Хюбнер, потому, что «это содержание явно уже стало им совершенно чуждым»2. По-видимому, Горгий был один из первых, кто заподозрил в трагедии обман и иллюзию - нечто, вроде ловушки, - но при этом обосновал парадоксальный тезис о том, что обманутый мудрее, чем необманутый, так как только через обман достигается изменение людей к лучшему, и, к тому же, в обманутом лекарство искусства достигает наибольшего эффекта3. Аристотель, в противовес Горгию и Платону, закрепляет за трагедией не статус «видимости», но, исходя из превосходства поэта над историком, статус «всеобщего», поскольку «действительное» в качестве изображения для трагедии подразумевает одновременно и «возможное». И - далее, следуя за Горгием, - Аристотель разрабатывает теорию катарсиса как терапевтического средства, при помощи которого умеренное воздействие страстей, наподобие вакцины против смертельной болезни, избавляет человека от более сильных и разрушающих переживаний, вызывая чувства радости и облегчения4.
Как раз по поводу трагедии Аристотель вводит понятие «подражания», или «мимесиса», которое Платон употреблял в контексте критики поэзии и которому Аристотель придает новое — положительное — звучание. «Мимесис» Стагирита связан с феноменом «трагического», прежде всего, с тем воздействием, которое оно оказывает на человека. Приведем две точки зрения на теорию мимесиса Аристотеля, принадлежащие современным интерпретаторам, исходя из которых, можно будет сделать общий вывод.
Первая точка зрения принадлежит Г.-Г. Гадамеру, который указывает: понятие мимесиса у Аристотеля дано в «чисто описательном смысле»5, подразумевающем, что человеку присуще естественное стремление к подражанию, приносящее ему радость от узнавания. Искусство трагедии -это род узнавания, сущность которого не только в том, чтобы наружу вышло нечто «всеобщее», очищенное от случайностей своего явления, но, предполагает Гадамер: «Мы помимо того еще и сами в известном смысле узнаем самих себя. Всякое узнавание есть опыт нашего возрастающего осваивания в мире, а все виды нашего опыта в мире суть в конечном счете формы, в которых мы осваиваемся в нем (разрядка моя - И.К.)»6.
Вторая интерпретация принадлежит Е.А.Найману, развивающему, вслед за Ф.Лаку-Лабартом, идею неразрывной связи теории мимесиса и принципов диалектического мышления. Подчеркивая зависимость определения сущности мимесиса от механизма репрезентации (ведь трагедия - это спектакль), отечественный философ настаивает на том, что «только мимесис, который Аристотель определял как наиболее изначальный способ человеческого познания, имеет возможность превращать негативное в позитивное и доставлять парадоксальное удовольствие, которое человек чувствует в репрезентации, наполненной непереносимым ужасом. Именно мимесис является источником трагического удовольствия»7.
Таким образом, получается, мимесис в качестве изначального способа узнавания человеком самого себя подражает самой природе, то есть естественному положению вещей, когда преобразует насилие за счет «жертвенной консумации» (Ж.Бодрийяр) в замещающий его катарсис, что, в свою очередь, соответствует самой структуре человеческого восприятия, базирующегося на вытеснении, отчуждении негативного и, следовательно, его отстраненном от себя созерцании, предполагающем театральное (репрезентирующее) пространство. Разбирая формальную структуру трагедии, Аристотель улавливает связь между основанном на жертвенном механизме катарсисе и способности человека различать подлинное существо вещи (на радости от узнавания и кроется, по Аристотелю, чудо познания).
По сути дела, Аристотель лишь корректирует ироничную по отношению к поэзии платоновскую диалектику; тем не менее, с него, а не с Платона, начинается отсчет классической интерпретации трагедии, в центре которой оказывается «миметическая природа спекулятивного мышления, неразрывно связанная с поэтикой трагического действия (цит. с изменениями - И.К.)»8. В противовес хюбнеровской оценки аристотелевской теории происхождения трагедии можно заметить, что, на самом деле, ритуальная основа механизма жертвы отпущения, являющаяся средоточием мифического мышления, в ней присутствует, но присутствует как средство самопотшания условий и границ опыта трагического - опыта, при помощи которого, по Аристотелю, свершается не что иное, как событие мысли. «Аристотелевский катарсис, - можно сослаться на мнение Ф.Лаку-Лабарта, -является также философским оправданием... или, возможно, даже логической верификацией»9.
Так случилось, что античность в ее воздействии на европейское самосознание сыграла особенную роль в немецкой классической философии и эстетике, с явным пристрастием погруженным в мир античной трагедии и осуществившим философское осмысление и ее проблематики, и самого феномена трагедии. Очень точно по этому поводу выразился Г.-Г. Гадамер: «античность продолжает занимать в нашей духовной действительности с ее постоянным преображением все тот же ранг опережающей нас возможности нас же самих»10.