Содержание к диссертации
Введение
I. Стравинский и философско-художественные искания в России начала XX века .
1. Неомифологизм как знаковое явление в культуре России конца XIX - начала XX века. С. 6-32
2. «Преодоление Диониса» в творчестве Стравинского . С. 32-41
3. «Особая религиозность» Стравинского и философские искания в России «серебряного века». С. 42-50
II. Пространственно-временные параметры музыкального синтаксиса произведений Стравинского в соотнесенности с основными закономерностями диалектики мифа .
1. Темообразование Стравинского и основные закономерности диалектики мифа. С. 51-59.
2. Особенности серийности Стравинского в соотнесенности с логикой мифа (инкорпорированное предложение, аритмология Н. Бугаева ). С. 59-69.
3. Формообразование Стравинского в ракурсе софийного конструирования мифа . С. 70-78.
III. Идейно-образный аспект произведений Стравинского в свете мифоритуальности .
1. «Петрушка». С. 79-92.
2. Архетипическая образность в опере «Похождения повесы». С. 93-103.
3. «Число» в системе мифоритуальной организации балета «Агон». С. 104-113.
Заключение. С. 114-115.
Приложение
- «Преодоление Диониса» в творчестве Стравинского
- Особенности серийности Стравинского в соотнесенности с логикой мифа (инкорпорированное предложение, аритмология Н. Бугаева
- Формообразование Стравинского в ракурсе софийного конструирования мифа
- Архетипическая образность в опере «Похождения повесы».
«Преодоление Диониса» в творчестве Стравинского
Формы мифотворчества имеют у каждого из символистов важные отличия. Если творчество А.Скрябина предстает с позиций символического дионисийства, что освещено в музыковедческой литературе довольно подробно (76), то законы аполлонического искусства менее рассмотрены, однако аполлонические тенденции в полной мере проявятся в творчестве акмеистов, да и сами символисты постепенно будут отходить от «дионисических безумств».
В художественной жизни России того времени ярко обозначилась антитеза дионисийского-аполлонического, которая тесно связана с противопоставлением мировоззренческих координат главных идеологов двух направлений. Эмоциональная природа символистов, связанная со стихией чувств, с широкими возможностями символизации и подсознательно-суггестивного воздействия, равно как и процессуального целого (связано в первую очередь с доминированием слухового начала, в отличие от живописного, визуального) сфокусировалась на создании «дионисова действа», «дионисовых мистерий» (Вяч. Иванов, А. Белый). В противовес этому явились лозунги А. Бенуа, провозгласившие искусство Аполлона.
Дионисизм заявил о себе в России уже в первой половине 1900-х годов с выходом в свет (1904 год) перевода книги К. Иоэля «Ницше и романтизм», что дало широкий резонанс в кругах художественной интеллигенции. То время было эпохой Ф. Ницше, и рубеж века был наивысшей точкой признанного влияния немецкого философа на мышление и творчество русской интеллигенции. В некрологе, который «Мир искусства» посвятил скончавшемуся великому немецкому богоборцу, говорилось: «Все равно, за или против него, мы должны быть с ним, близ него». (77)
Первым откликом на публикацию трудов Ницше послужили, как уже отмечалось, работы Вяч. Иванова «Эллинская религия страдающего бога» и «Ницше и Дионис», вышедшие в 1904 году. Так, например, Вяч. Иванов писал: «Музыка пророчит дионисическое будущее нашей культуры. С нами - красота; (здесь стоит отметить, что категория КРАСОТЫ понималась символистами с позиций дионисийства: ХАОС=КРАСОТЕ - А.А.) ею может возродиться древний освободительный, очистительный, все разверзающий восторг; она сильна возвратить нас к религиозному всепостижению... . Быть может, поколения еще испытают то священное безумие, в котором человек учится сознавать себя как «не я» и сознавать мир как «я», живым обретает себя в живой природе, божественным в единстве божественном, страдающим в Боге страдающем». (78)
Однако, уже к концу первого десятилетия знамя первенства переходит в руки мирискусников, провозгласивших законы бога Аполлона. Не случайно именно в Петербурге в 1909 году выходит новый журнал «Аполлон», в котором одним из редакторов был А.Бену а.
В ситуации XX века извечная полярность дионисийского-аполлонического типов приняла особо острые, "программные формы". В 1909 году, на пороге нового десятилетия, журнал "Аполлон" стал трибуной активной и очень целенаправленной критики символистского метода. К этому времени символизм, переживший свой звездный час, клонился к кризису; выражаясь словами А. Блока, «сине-лиловый сумрак» уже сменил собой «золотой свет» теургических устремлений. В новой ситуации «неуместным» оказался его сугубый психологизм. Критическое отношение вызывали такие издержки его метода, как аморфность, деструктивность формы, срывы в беспредметность. Вот почему вполне программный смысл имело следующее высказывание поэта М. Кузмина: «Пусть душа ваша цельна или расколота... умоляю вас, будьте логичны, - да проститься мне этот крик сердца! - логичны в замысле, в построении произведения, в синтаксисе... . Будьте искусным зодчим как в мелочах, так и в целом». И далее: «Если вы совестливый художник, молитесь, чтобы ваш хаос (если вы хаотичны) просветился и устроился, или покуда сдерживайте его ясной формой... будьте экономны в средствах и скупы в словах, точны и подлинны, - и вы найдете секрет дивной вещи - прекрасной ясности...». (79)
Характерная для символистов неясность, смутная глубинность переживаний сменяется, например у акмеистов, строгим и точным самонаблюдением. "Бесконечное приближение квадрата через 8-угольник, 16-угольник и т.д. к кругу мыслимо лишь математически, но никак не artis mente. Искусство знает только квадрат, только круг... Искусство есть прочность», - писал на страницах «Аполлона» С. Городецкий.(80)
Общая эстетическая программа журнала "Аполлон", само название которого указывало на вновь избранный путь (сквозь стихию - к мере и ясности, от бога Диониса к богу Аполлону) была сформулирована уже в первых его номерах: хотя «протест против бесформенных дерзаний творчества, забывшего законы культурной преемственности» (81) и предполагает подражание совершенным художникам Греции и Ренессанса, но «широкий путь аполлонизма, который грезится нам, не может совпасть с легкой дорожкой, ведущей к Парнасу и в холодные академические кумирни». (82) Необходимо особо подчеркнуть, что подобная антиномичность культуры России того периода, выразившаяся в сопряжении аполлонического-дионисийского начал, осознавалась И. Стравинским в полной мере, подтверждением чему являются его следующие слова: «Я подхожу к извечному противопоставлению в искусстве аполлонического начала дионисийскому, конечной целью последнего является экстаз, т.е. утрата своего «я», тогда как искусство требует от художника прежде всего полноты сознания. Мой выбор между этими двумя началами очевиден». (83)
«Результат» такого пути, от дионисийства к аполлонизму, в принципе был запрограммирован в культуре начала XX века, что особенно заметно в творчестве символистов. К концу первого десятилетия XX века символизм как школа зашел в тупик. Характерным показателем поворота к, своего рода, классицизму была картина Л.Бакста «Terror antiquus», репродукция которой была помещена в первом номере «Аполлона». Ту же идею художник отстаивал в статье «Пути классицизма в искусстве», что и нашло отражение в выборе названия нового журнала. Вяч. Иванов считал, что после романтических эксцессов недавнего прошлого необходим поворот если не к классицизму, то, по крайней мере - к более объективным нелирическим жанрам. А.Блок также вернулся из Италии убежденным в том, что «великого хаоса» - сколь бы плодотворным он ни был в природе, в искусстве - следует избегать. «Бесформенного искусства нет, - записывает он в сентябре 1909 года. - Сколько бы Толстой и Достоевский ни громоздили хаоса на хаос, -великий хаос я предпочитаю в природе...». (84) А Вяч. Иванов в этот сравнительно скудный в творческом отношении период своей жизни стал догматичным, категорически требуя от поэтов «перестать творить вне связи с божественным всеединством и воспитания себя до возможности творческой реализации этой связи». (85)
Идея «золотого века», запечатленная в античных символах, надындивидуальный, «соборный» дух обрядовых действ («Весна священная», «Свадебка») и, конечно, уже явно декларативно выраженное рациональное начало творчества - вышли на первый план и актуализировались в творчестве И.Стравинского. Однако не все так однозначно у композитора, ведь «преодоление Диониса», по словам самого И. Стравинского, продолжалось в течение всего творческого пути.
Особенности серийности Стравинского в соотнесенности с логикой мифа (инкорпорированное предложение, аритмология Н. Бугаева
Рассмотренные выше характерные для творческого мышления Стравинского приемы на первый взгляд указывают на достаточно свободную манеру письма композитора. Однако проблема выбора в условиях безграничной творческой свободы, проблема дисциплины и порядка как основ творческого самовыражения всегда волновали Стравинского. Поэтому на заключительном этапе художественной эволюции весьма закономерным, логическим итогом явилось обращение Стравинского к серийной технике композиции, благодаря которой композитор нашел приемлемое решение своим творческим потребностям. То, что Стравинский рассматривает серийность как языковую систему, пришедшую на смену традиционной тональности, подтверждается рядом высказываний композитора. В интервью, данном на Загребском музыкальном фестивале 1963 года, он заявил: «Меня полностью захватили серийные методы сочинения. Единственная система, которую я признаю теперь, - это серийная. Она заменила гармоническую...» Не менее красноречиво Стравинским дана оценка серийности, прозвучавшая на встрече с композиторской молодежью Ленинграда: «... серийность в музыке составляет своего рода тональную основу произведения». (138)
Освоение серийной техники протекало у русского мастера в форме активной творческой полемики с додекафонией как частным, но наиболее жестко регламентированным ее вариантом. Стравинский говорил, что «иногда серийную технику называют, по инициативе ее создателя А.Шенберга, додекафонией, то есть системой двенадцати звуков. Но использование всех двенадцати звуков октавы, по-моему, не обязательно. Я лично не додекафонник, а серийник, то есть считаю возможным применять не все двенадцать нот». А в интервью, посвященном первому исполнению Кантаты, на вопрос о том, ограничивает ли додекафония возможности музыки, Стравинский говорил: «Безусловно. Она подобна тюрьме. Додекафонисты обязаны использовать двенадцать тонов. Я же могу использовать пять тонов, одиннадцать, шесть - сколько захочу. Я не обязан применять все двенадцать звуков». (139)
Подобное желание Стравинского избежать диктата 12-ти тоновости не случайно. Оно тесно связано с творческими установками композитора, основанными на диалектическом постижении и таких координат, как регламент и свобода. По мнению Стравинского, что является весьма важным, обращение художника к той или иной технике письма связано с определенными эстетическими установками. Так, в «Хронике» есть такие слова композитора: «Нельзя же ведь себе представить технику, которая бы не вытекала из определенной эстетической системы, иначе говоря, технику, взятую с потолка» (140). Поэтому «произведения Стравинского 1952-1966 годов (от «Кантаты» до «Реквиема»), основанные на сериях недвенадцатитонового строения, свидетельствуют о том, что композитор воспринимал серийность как музыкально-историческую данность, напрямую связанную со своими творческими устремлениями». (47, 23)
Кроме того, принципы серийности в музыке находят свои параллели и с философско-художественными поисками русской интеллигенции начала XX века, в частности с аритмологическим учением Н. Бугаева, которое оказало немалое влияние на поэтическое письмо символистов, и с инкорпорированным типом предложения, характерного для мифологического мышления. (141)
Так, космические темы «Симфоний» А. Белого, главным лейтмотивом которых является борьба вечного и временного, есть отражение взгляда художника на исторический процесс с позиций аритмологии. Мир Космоса у Белого не хаотичен, он подчиняется ритмико-стилистическим закономерностям, которые могут быть описаны математическим языком. Для описания Космоса А. Белый и обращается к аритмологии - учению, которое разработал его отец, математик Н.В. Бугаев. Литературной технике А. Белого присуща почти математическая последовательность в использовании художественных приемов. В первую очередь это проявляется в стремлении исчерпать все возможные варианты сочетаний элементов, которыми оперирует данный прием в рамках его технологии. Наличие подобного стремления в музыке было отмечено самим А. Белым у отца писателя Н. Бугаева: « У него были странные вкусы, ... он требовал от мелодии переложения и сочетания; раз пущена мелодия, скажем «а б в г », - боже сохрани, если она повторится, пока не исчерпаны все модуляции - б в г а, в г а б, г в б а и т.д. Вот если бы музыканта вооружить теорией групп!» (142) Н. Бугаев, исходя из определения монады Лейбница, несколько смещает точку зрения на предмет исследования, и, если Лейбниц рассматривает монаду как конечную, цельную и замкнутую в своей цельности единицу, то Бугаев сосредотачивается на функционировании монад в комплексах, их сочетаемости и взаимовлияния. «В комплексе монады совершают весь процесс развития, благодаря своему общению с другими монадами своего комплекса... . Пройти для монад весь цикл их взаимных отношений значит совершить полный оборот их развития, или приобресть все возможное потенциальное содержание при определенных условиях их бытия и их отношений». И далее: «Все то, что монада вносит в жизнь комплекса, перерабатывается им, и, воспринимаясь, отражается на монаде. Сложные монады распадаются и входят в образование новых комплексов. Центральная монада комплекса может продолжать жизнь комплекса в другом комплексе». (143) Осознание законов этого процесса автором литературного произведения ведет к построению текста «мотивного типа», что и использует А. Белый в своей IV симфонии. (144)
Аритмология Бугаева основывается на мифологических законах постижения мира. Так, в монаде есть то, что в целом ряде изменений остается неизменным. Она есть целое, неделимое, неизменное и себе равное начало при всех возможных отношениях к другим монадам и к себе самой. При таком философском взгляде индивид, как монада, «не подавляется вселенной, а стоит с ней рядом. Внешнему великолепию этого мира человек противополагает внутреннюю гармонию, бесконечную глубину, свободу своей личности и целесообразность... . При таком воззрении делается понятнее нашему разуму и глубже проникает в наше сердце мудрое евангельское изречение: «царствие Божье внутри Вас есть». (145) Однако в отличие от античного пассивного состояния личности в системе Космоса, космическая концепция человека символизма явилась попыткой обосновать теорию нового гуманизма, в которой «мир» выступает как «человеческий образ», а «человек» как «универсум». Живя духом со всем человечеством, чувствуя себя членом Мироздания, человек относится к этому Космосу не рабски, а самостоятельно. В теории чисел мысль Бугаева «нащупывает возможность давно потерянной и многими оплакиваемой веры в Бога. Веры не только наследственной, не внушенной воспитанием, а веры в смысле очевидности философской, еще более неопровержимой, чем закон причинности в остальной природе. Если механика природы отклонила нас от постижения Живого Бога, - то физиология природы нас возвращает к Нему. Один раздел математики - анализ -убил веру, но другой, высший отдел ее - аритмология - ведет к восстановлению веры, достойной мудрецов». (146) Таким образом, Бугаев рассматривает мир как «сложнейшую свободосвязь», объединенную в целое посредством связи его с Безусловным, то есть с Божеством.
В связи с рассмотрением некоторых показателей аритмологического учения Бугаева для нас важными предстают следующие моменты: во-первых - в рамках русской культуры рубежа XIX-XX веков были предприняты попытки, которые выльются в додекафонно/серийную систему на Западе. Во-вторых: данные поиски основаны на мифологическом постижении гармонии и красоты, на стремлении гармонизовать человеческий полис с диалектическими законами мироздания.
Методы серийной техники композиции, обращение Стравинского к которой, как уже отмечалось, явилось весьма закономерным, вызывают ряд параллелей и с основными закономерностями построения архаического, инкорпорированного предложения. Те связи, о которых здесь будет говориться, имеют чисто логический характер, поскольку они находятся вне времени и пространства, как существует вне времени и пространства таблица умножения. Такого рода логическая специфика не только не мешает изучению фактов, но делает это изучение возможным.
Формообразование Стравинского в ракурсе софийного конструирования мифа
Мифологическое сознание и возникающее под его действием искусство апеллирует, прежде всего, к тем специфическим состояниям, в которых раскрывается глубоко интимное постижение человеком красоты и универсальной гармонии мира. Стремление к духовно-эмоциональному раскрытию единства вселенной и человека - самая благодатная почва для формирования не только внутренней, но и внешней организации художественного произведения.
Речь пойдет о формообразовании в произведениях Стравинского, в основе которого - единство мира, свойственный мифу принцип "все во всем" (Кессиди), взаимопроникновение микрокосма и макрокосма (Гуревич).
Особого рода геометризм - «расположение фигур в пространстве» (И.Стравинский) - одна из наиболее ярких составляющих мифомышления композитора. Так, при сочинении «Симфонии псалмов» Стравинский задумывался о форме перевернутой пирамиды. В «Царе Эдипе» его интересовала «геометрия трагедии, неотвратимое пересечение линий» (159), а в таких произведениях, как «Петрушка», «Персефона», «Священное песнопение», «Месса», «Плач», «Каноны памяти Дилана Томаса» символика круга сочетается с концентричностью и конусообразностью.
Традиция пятичастного построения католической мессы, опосредованно воссоздающая особенности готического собора, наиболее отчетливо прослеживается в «Священном песнопении» Стравинского. Так, пятичастная композиционная схема «Священного песнопения» сравнивается Р.Крафтом с 5 куполами собора Святого Марка. (160) Развивая эту архитектурно-музыкальную аналогию, Э.В. Уайт сопоставляет Посвящение «Священного песнопения» с входным портиком собора святого Марка.(161)
Общий композиционный план «Священного песнопения» не оставляет сомнений в том, что Стравинский был знаком с мессами И. Окегема и воспринял их архитектонику. (162) Об этом свидетельствуют не только пять основных частей произведения (без Посвящения), но и та особая роль, которую играет в цикле III часть, адресованная трем основополагающим христианским добродетелям: любви, надежде, вере. Подчеркивая центральное местоположение этой части в произведении, Э.Уайт определяет ее как «миниатюрную кантату внутри кантаты». (163) Смысловая выделенность этой части подчеркивается включением в вокально-симфоническую партитуру органа, что представляет собой уникальный случай в творчестве Стравинского : во второй части «Священного песнопения» -воссоздание образа любви земной, Стравинский исключает из партитуры орган, зато в третьей части произведения - любовь небесная - органу поручена цементирующая роль - часть открывается темой-серией, производные которой играют роль рефрена в пятичастном строении III части.
Глубокое понимание всеобщей гармонии, синхронистическое восприятие «старого» и «нового», вечности и времени символически представлено в произведении в использовании текстов Старого и Нового Заветов. Показательны в этом плане крайние части «Священного песнопения», соотносящиеся по принципу зеркальной симметрии. В основу первой части положен стих 15 главы 16 От Марка святого благовествования - первая заповедь Иисуса Христа, явившегося после смерти одиннадцати ученикам и провозгласившего: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Для финальной части «Священного песнопения» Стравинский избрал стих 20 главы 16 От Марка святого благовествования, гласящий: «а они пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями». Таким образом, заявление Божественной заповеди в первой части и ее осуществление в последней ясно очерчивает смысловую арочность композиции.
Тесная причинно-следственная связь крайних частей «Священного песнопения», обусловившая зеркально-ракоходное соотношение их композиционных структур, имеет образно-смысловые аналоги в ряде произведений композитора: в «Царе Эдипе» начальный и заключительный хоры оказываются мольбой о спасении и прощением, первое и третье действия «Персефоны» повествуют о похищенной и возвращенной дочери Деметры, завершение композиций «Аполлона Мусагета» и «Агона» путем возврата «первоначального состояния» утверждает неизменность и незыблемость первоначала. Таким образом, образно-смысловая и структурно-композиционная корреляция начал и окончаний данных произведений имеет очевидные точки соприкосновения с мифологической системой координат.(165)
Возвращаясь к «Священному песнопению» отметим, что Первый эпизод кантаты озаглавлен Caritas и воссоздает образ небесной любви (в отличие от II части, где предстает образ любви земной. Текстовой основой второго эпизода, озаглавленного Spes, послужили: стих 1 псалма 124, стихи 5, 6 псалма 129 из Псалтыри (Ветхий Завет), в которых раскрываются эмоциональные нюансы чувства надежды. Характеризуя заключительный эпизод Fides (Вера), Р.Влад справедливо отмечает: «Если «добродетели» могут быть названы архитектонической кульминацией Canticum, то Fides его центральная ось». (166) В Fides Стравинский использовал стих 1 псалма 124 из Псалтири (Ветхий Завет).
В архитектонике «Священного песнопения» принцип совмещения семантики круга с конусообразностью режиссирует как формо, так и темообразование произведения. Ярко выраженную символику круга имеет первая часть произведения - «Шествие во Вселенную», на что указывает как рондальность раздела, который построен по принципу а-в-а-в-а, так и интонационная арка между вступительным разделом («Посвящение») и окончанием части.
Символика возврата содержится и на уровне микроформы внутри «Шествия»: тема-символ у органа, основанная на звуках Космоса (ре-ми-фа), имеет ярко выраженную зеркальность относительно центра построения: пример № Строению первой части произведения соответствует третья часть, в которой каждый из разделов - «любовь», «надежда», «вера» - открывается темой-серией у органа. В плане единства или подобия формы выступает и средний раздел третьей части - «Надежда» -которая также по сути своей рондальна (рефреном является тема-серия у теноров и баритонов). Таким образом, архитектонику произведения можно представить в виде концентрических кругов, выдвигая за точку,отсчета средний раздел третьей части: Учитывая систему «круг в круге», центр схемы является весьма относительным, так как точка отсчета может перемещаться (особенности темо/формообразования первой части позволяют говорить о ее самодостаточности). В плане построения формы целого данный тип мышления перекликается с логикой мифологического типа действия, в котором понятия начала, середины и конца являются относительными, что есть суть логики мифа - в каждом моменте времени его вечное присутствие целиком и нераздельно. Своеобразным вариантом «Священного песнопения» выступает «Threni», где внешнее трехчастное строение может быть охарактеризовано как пятичастная композиция: третья часть «Threni» - De Elegia Tertia - играет в произведении особую роль, благодаря своей масштабности по сравнению с другими частями. Непосредственное сходство между двумя произведениями наблюдается и на уровне первых частей. Как и в «Священном песнопении», в «Threni» первая часть - De Elegia Prima -воспроизводит в миниатюре абрис формы целого.
Указывая на сходство начальных частей двух произведений, Гливинский В. отмечал, что «Diphoma I и II для двух солирующих голосов играют в "Threni» ту же роль, что органные интерлюдии в «Священном песнопении». Однако, приверженность Стравинского к постоянному обновлению и варианту проявилась здесь на уровне трактовки данной формы-схемы. Так, в I части «Священного песнопения» вариационные изменения проникают в нечетные разделы формы, в то время как четные (органные интерлюдии) остаются неизменными. В I части «Threni», напротив, нечетные разделы оказываются более стабильными в композиционном отношении, чем четные. Наибольшей динамикой вариационного обновления в De Elegia Prima отмечены хоровые разделы -распевания букв древнееврейского алфавита. Ни одна из 5 распетых букв не повторяет в серийном и фактурном отношении другую. Характеризуя данный выразительный прием, Э.В. Уайт отмечает: «Эффект подобен рядам заглавных букв, украшающих рукопись; и специальные каденционные качества этих кратких гармонических глос придают им поразительное свойство нимба». (167)
Архетипическая образность в опере «Похождения повесы».
Основная сквозная тема, главный «драматургический сюжет» музыкального театра Стравинского - тема героя, нарушившего некие экзистенциальные, затрагивающие самые глубинные основы существования человека в мире, правила поведения. Можно без преувеличения сказать, что данный сюжет («Петрушка», «Царь Эдип», «История солдата», «Орфей», «Похождения повесы») доминировал в театре Стравинского в течение, по меньшей мере, сорока лет («Петрушка», 1911 - «Похождения повесы», 1951). Такие сочинения, как «Весна священная» или «Свадебка», вроде бы не имеющие к нему отношения, на деле утверждают его противоположный аспект: тему экзистенциального порядка, достигаемого ценой регулярных жертвоприношений, которые только и могут предотвратить любые своевольные действия, направленные против этого порядка. Весьма показательно одно высказывание Стравинского, в котором он явно выражает свое отношение к личностному и всеобщему: «В наше время «техника» стала означать нечто противоположное «душе», хотя «душа» - это тоже техника». (198)
Принципиальная возможность появления на почве культуры XX века текстов, реализующих архаический механизм мифотворчества, может быть обоснована результатами классических исследований выдающегося авторитета в области мифологического мышления - К.Г. Юнга. Этому ученому принадлежит честь открытия «коллективного бессознательного» - наиболее глубинного, во многом универсального для всего человечества слоя человеческого мышления, в котором «коллективное» отражает мифологический, а «бессознательное» - психологический срез системы. С точки зрения этой психологической доктрины психическая субстанция каждого человека представляет собой своего рода подмостки, на которых разыгрывается полное драматизма действо с участием нескольких персонажей, часто вступающих между собой в крайне острые отношения. «Тень» -один из таких персонажей, выполняющий в рамках психической субстанции отдельно взятого индивида функцию своего рода «дьявола», постоянно искушающего «Я» и вынуждающего его к сопротивлению, интенсивность которого зависит от психологической устойчивости субъекта: «Тень» - это ... та скрытая, вытесненная из сознания в сферу бессознательного по большей части неполноценная и преступная личность, которая своими последними ветвями достигает мира звериных предков и таким образом объемлет весь исторический аспект бессознательного».(199)
В борьбу между «Я» и «тенью» может вмешаться и третий персонаж драмы - «анима» (лат. anima - душа) это совокупность женских черт, изначально присущих психической субстанции мужчины, но по мере созревания "Я" также оттесненных в глубины бессознательного. Достижение определенной гармонии между "Я", "тенью" и "анимой" делает возможным движение личности к высшей психической целостности и полноте - тому, что Юнг называет "Самостью". Напротив, отсутствие подобной гармонии влечет за собой постоянные вторжения компонентов бессознательной сферы в сферу "Я", их борьбу за влияние, их месть за недооценку их значимости со стороны "Я"; в результате "Я" оказывается разорванным, неустойчивым и лишенным внутренней полноты и гармонии, а потенциал, способный привести личность к достижению Самости, остается нереализованным.
Контуры этой извечной, архитипической драмы со всей очевидностью просматриваются в опере "Похождения повесы" Стравинского, где соотношения внутри структуры самой музыки являют собой откровенный параллелизм отношениям, характеризующим структуру глубинного слоя человеческой психики.
Некоторые психоаналитические взгляды встречаются в высказываниях Стравинского в связи с незаурядной личностью У.Одена (автора либретто оперы). Так, он говорил: "Мы строго следовали Хогарту, пока наш сюжет не начал приобретать другой смысл... Мы приступили к изобретению ряда сцен, приводящих к финальной в сумасшедшем доме, которая уже была зафиксирована у нас в голове". И далее о самом либреттисте: «Оден всегда пускал в ход небольшие схоластические или психо-аналитические сентенции, вроде: "Ангелы - это чистый интеллект". Меня сначало поражали некоторые черты его индивидуальности. Он плывет, твердо управляемый рулем разума и логики, и тут же проповедует суеверные взгляды - например об астрологии, о телепатии, о черной магии, о предопределении, о Судьбе и т.д.». (200) Это высказывание Стравинского на первый взгляд симптоматично фиксирует в творческой позиции Одена несовместимые начала: внеличностное, то есть всеобщее и глубоко личностное, индивидуальное.
Сопряжение архетипов Юнга с образным миром оперы «Похождения повесы» приводит к новому объяснению идейно-образной концепции произведения, где «говорящие» имена главных действующих лиц проецируются на основные категории «коллективного бессознательного» К. Юнга: «Я» - Том, «Тень» 95
Шедоу, «Старый Мудрец» - Трулав и в результате являются персонификацией основных черт психики Тома. Согласно Юнгу, вытесненная и отвергнутая сферой «Я» «анима» имеет свойство являться человеку в видениях и снах в качестве вестницы сфер, трансцендентных по отношению к его «Я», в качестве носительницы некоего высшего знания, ставшего недоступным «Я» в результате разрыва, в прошлом прервавшего его гармоничное сосуществование с «анимой». Точно так же отвергнутая и забытая героем оперы «анима» является ему, утратившему рассудок, в качестве посланницы потерянного им рая, приняв в его глазах облик Венеры - этого совершенного воплощения вечной женственности. Как и следовало ожидать, во фрагментах последнего акта с участием вернувшейся к Тому Энн, эталонная, глубинная структура освобождается из под влияния «тени», и музыке возвращается ее былая классицистская «непорочность». Воскрешающий образ потерянного рая дуэт Энн и Тома (Венеры и Адониса) и колыбельная Энн с хором из этой же картины - это страницы оперы, наиболее безупречные в плане следования эталонной, глубинной модели на всех иерархических уровнях структуры. Две флейты, сопровождающие мелодию колыбельной (до момента вступления хора), могут быть легко восприняты как своего рода pendant двум фаготам из выходной арии Тома (1 действие). Тем красноречивее различие между обоими номерами: если в арии Тома аккомпанирующие голоса всячески способствовали ненавязчивому, но последовательному нарушению ожидаемой, «нормальной» гармонической диспозиции, выступая как бы от имени «теневой» порождающей модели, то в колыбельной эталонная «разметка» соблюдается с настолько подчеркнутой точностью и достоверностью, что поистине не требует никаких комментариев.
Anima - душа (с греческого - подвижный, переливчатый) очень часто ассоциируется с символом воды, являясь при этом жизненным началом в человеке. Юнг в своей работе «Об архетипах коллективного бессознательного» подробно рассматривает сюжетную канву гностического гимна «О душе», в котором он очерчивает все основные категории своей теории. В гимне присутствуют символы дороги, похождений, воды, которые имеют явные аналоги в сюжете оперы. Поэтому неслучайным становится появление в третьем действии оперы колыбельной Энн, где она поет о маленьком кораблике в море-океане. В небольшой колыбельной, состоящей из двух предложений, символически очерчен весь путь прохождения человеческой души как в гностическом гимне, так и в сюжетной канве оперы. Остров счастья (колыбельная) в конце пути представляет не что иное, как достижение высшего духовного состояния - катарсиса (в колыбельной Энн, погребальном хоре, песенке Тома звучит светлая, умиротворенная, надбытийная музыка). Поиски человеком внутренней целостности, полноты существования, что представляет собой движение от Эго к Самости -основная идея оперы.
Вечный фаустовский сюжет о противоборстве «анимы» и «тени» обретает в произведении Стравинского дополнительное, имманентно-музыкальное измерение. Так, например, о том, что Энн не самодостаточный персонаж оперы, говорит проникновение ее музыкальных интонаций (лейтинтонация восходящей секунды) в комплекс интонаций Тома. Особенно наглядно это предстает в моменты их непосредственного общения: дуэт Тома и Энн, открывающий оперу, их же дуэты из второй и третьей картин третьего действия, ариозо Тома из третьей картины третьего действия и сцена на кладбище, во время видения Энн.










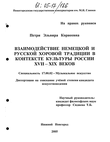
![Взаимопроникновение двух музыкальных культур в XX - нач. XXI вв.: Япония - Россия : [ҐЄбв] Мория Риса Взаимопроникновение двух музыкальных культур в XX - нач. XXI вв.: Япония - Россия : [ҐЄбв]](/i/i/4718/457961.png)
