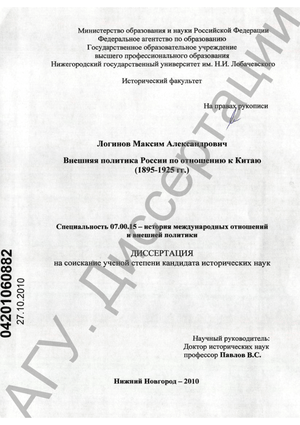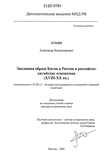Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Российско-китайские отношения в царский период (1895- 1917 гг.)
1.1. Положение в Китае в сер.ХІХ-нач.ХХ вв. и российская дипломатия
1.2.Интересы царской России в Монголии
а) Место Внешней Монголии в дальневосточной политике царского правительства
б) Торговые связи царского правительства с Монголией
в) Военные контакты царского правительства с Монголией
1.3. Политика императорской России на КВЖД
а) Цели постройки КВЖД царским правительством
б) Проблема КВЖД в русско-китайских отношениях 1909-1917 г.г.
1.4.3начение и место торговли с Китаем для царской'России
а) Особенности торговых отношений царской России с Китаем
б) Торговые отношения императорской России с Синьцзяном
1.5. Территориальныйвопрос российско-китайских отношений 128 - 147
а) Политика царского правительства в урегулировании приграничных споров 128 -138
б) Место Урянхая в приграничном вопросе 138 - 147
Глава 2. Советско-китайские отношения 1917-1925 гг. 148-231
2.1. Политическоеразвитие Китая 1917-1925 гг. его внешняя политика в отношении Советской России 148 - 154
2.2. Интересы РСФСР в Монголии 154 - 179
а) Причины активной политики большевиков в Монголии 154 - 164
б) Политика большевиков по налаживанию торговых контактов с Монголией 164 - 173
в) Помощь советской России Монголии в военной сфере 174 - 179
2.3. КВЖД в советско-китайских отношениях 179 - 197
а) Планы большевиков в отношении КВЖД. 179 - 189
б) Политика большевиков по возвращению контроля над КВЖД 189-197
2.4.Торговые связи большевиков с Китаем
а) Отношение большевиков к торговле с Китаем
б) Налаживание торговых связей советской России с Синьцзяном
2.5. Отношение советского правительства к проблеме р азмежевания с Китаем 214 - 241
а) Позиция советского правительства в отношении сложившихся границ на Дальнем Востоке 214 - 222
б) Урянхайский край в системе советско-китайского размежевания 222 - 231
Заключение 232-238
Список использованных источников и литературы 239 - 260
- Место Внешней Монголии в дальневосточной политике царского правительства
- Политика царского правительства в урегулировании приграничных споров
- Политика большевиков по налаживанию торговых контактов с Монголией
- Отношение советского правительства к проблеме р азмежевания с Китаем
Введение к работе
Глава 1. Российско-китайские отношения
в царский период (1895- 1917 гг.)
/ь
1.1. Положение в Китае в сер.ХІХ-нач.ХХ вв.
и российская дипломатия
1.2.Интересы царской России в Монголии
а) Место Внешней Монголии в дальневосточной
политике царского правительства
б) Торговые связи царского правительства с Монголией
в) Военные контакты царского правительства с Монголией
1.3. Политика императорской России на КВЖД
а) Цели постройки КВЖД царским правительством
б) Проблема КВЖД в русско-китайских отношениях
1909-1917 г.г.
1.4.3начение и место торговли с Китаем для царской'России
а) Особенности торговых отношений царской России
с Китаем
б) Торговые отношения императорской России
с Синьцзяном
1.5. Территориальныйвопрос российско-китайских отношений 128 - 147
а) Политика царского правительства в урегулировании'
приграничных споров 128 -138
б) Место Урянхая в приграничном вопросе 138 - 147
Глава 2. Советско-китайские отношения 1917-1925 гг. 148-231
2.1. Политическоеразвитие Китая 1917-1925 гг.
его внешняя политика в отношении Советской России 148 - 154
2.2. Интересы РСФСР в Монголии 154 - 179
а) Причины активной политики большевиков в Монголии 154 - 164
б) Политика большевиков по налаживанию торговых
контактов с Монголией 164 - 173
в) Помощь советской России Монголии в военной сфере 174 - 179
2.3. КВЖД в советско-китайских отношениях 179 - 197
а) Планы большевиков в отношении КВЖД. 179 - 189
б) Политика большевиков по возвращению контроля
над КВЖД 189-197
2.4.Торговые связи большевиков с Китаем
а) Отношение большевиков к торговле с Китаем
б) Налаживание торговых связей советской
России с Синьцзяном
2.5. Отношение советского правительства к проблеме
р азмежевания с Китаем 214 - 241
а) Позиция советского правительства в отношении
сложившихся границ на Дальнем Востоке 214 - 222
б) Урянхайский край в системе советско-китайского
размежевания 222 - 231
Заключение 232-238
Список использованных источников и литературы 239 - 260
Список сокращений _ 261
ВВЕДЕНИЕ
Для России рубеж XIX — XX вв. был переломным периодом. Это было время вхождения страны в империалистическую стадию развития
Это бы! развиті
капитализма, сопровождавшееся глубинными изменениями. С приходом к власти большевиков в 1917 году произошла кардинальная смена общественного устройства. Несомненно, эти глобальные трансформации нашли свое отражение и во внешней политике страны, повлияв, в том числе и на отношения с ближайшим соседом - Китаем. Контакты с Поднебесной, начавшиеся с XVII в.,'к началу XX в. вышли на качественно новый уровень: в России Китай стали рассматривать не только как торгового партнера, но и как стратегического союзника, необходимого для укрепления своего положения на Дальнем Востоке. Министры, дипломаты и царской, и советской России проводили активную политику в отношении этой страны, осознавая нарастающее значение ' Срединного государства в Дальневосточном регионе.
На протяжении практически всего XX в. отечественные историки рассматривали дальневосточную политику России в царский и советский периоды как абсолютно противоположные. Однако ранее не афишировавшиеся факты, новые, недоступные прежде архивные документы, исследования, отказ от идеологических догм открыли перед исследователями новые возможности в изучении старых вопросов.
Объектом настоящего исследования стала политика России в царский и советский периоды ее истории в отношении Китая. Предмет нашего научного внимания — экономические, военные, пограничные, дипломатические интересы России в отношении Китая до и после 1917 года.
- Л
Актуальность избранной проблематики
Внешнеполитические контакты России с Китаем на рубеже XIX — XX вв. не. являются повой темой для отечественной исторической науки. околеіше советских исследователей сумело в значительной степени
обогатить данную проблематику фактологически и в полной ме реализовать здесь методологический потенциал формационной концепц
развития истории. Современный этап развития обществоведческих наук ставит перед исследователями задачу расширения и обогащения имеющихся знаний, в гом числе и за счет пересмотра старых концепций и взглядов, с применением новых фактов.
Академичес кий аспект актуальности заявленной темы связан с вопросами изучения и характеристики важнейшего из направлений внешней политики России в переломный период. Своевременной и научно оправданной представляется попытка рассмотрения внешнеполитической линии России в конце XIX — первой четверти XX в. в целостности и единстве, независимо от формы правления и государственно устройства и стране.
С общественно-политической точки зрения актуальность проблематики видится нам в связи с двумя обстоятельствами. Во-первых, в последние десятилетия бурный рост экономики Китая сделал эту страну лидером мирового развития, а значит, обострил вопрос о дальнейшем взаимовыгодном развитии российско-китайского сотрудничества. Во-вторых, в 80—90-х гг. XX века в России произошли события, которые по своим экономическим, политическим и идеологическим масштабам и последствиям вполне сопоставимы с революциями 1917 г. Подобные изменения не могли не отразиться на состоянии российской внешней политики вообще и российско-китайских отношениях в частности. Таким образом, рассмотрение предшествующего опыта трансформации российско-китайских отношений из-за изменения внешнеполитической доктрины выглядит, на наш взгляд, вполне актуальным и своевременным.
Надеемся, хотя бы частичное разрешение этих вопросов способно ыграть позитивную роль в процессе развития и углубления российско-китайских связей.
Обоснование методологической базы, принципов и* ме: исследования
Достаточно долго в отечественной историографии вообще и при рассмотрении международных отношений в частности преобладал формационный подход к оценке исторических фактов и явлений, квалификации их причинно-следственных связей. Формационная концепция истории, разработанная в классических трудах К. Маркса и Ф. Энгельса1 и развитая в фундаментальных сочинениях В1И. Ленина , доминировала в научных исследованиях историков советского периода (1917—1991 гг.).
Однако в условиях расширения концептуальных возможностей, открывшихся в начале 1990-х гг., стало допустимо использование иных, немарксистских доктрин в изучении истории (а значит, и внешней политики) государств.
На сегодня в. области теории международных отношений одной из самых целостных, логичных и последовательных концепций.является теория политического реализма, разработанная американскими исследователями . Несмотря на серьезную критику4 со стороны оппонентов - в разные годы, данная концепция' доказала свою работоспособность. Хотя, конечно; к данному времени эта теория претерпела существенные изменения. В-рамках данной теории были созданы труды таких западных исследователей, как Г. Киссинджер, 3. Бжезинский, Б. Бузан и Р. Литл5. Однако в отечественной
1 Маркс К. Капитал // Полное собрание сочинений (далее—ПСС). 2- изд. Т. 23-25. - М., 1961; Маркс К.,
Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии // Там же. Т. 4; Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной
собственности и государства // Там же. Т. 21.
2 Ленин В.И. Развитие капитализма в России // ПСС. Т. 3. - М., 1981. С.183-245; Его же. Империализм как
высшая стадия капитализма // Там же. Т. 27.
Основателем современной парадигмы политического реализма считается американский политолог Г. Моргснтау. См.: Hans J. Morgcnthau. Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace. Third Edition. -N.Y., 1961.
4 Подробнее об этом см.: Contending Approaches to International Politics./ Ed. by Klaus Knorr and James N.
Roscnau - Princeton, N.J., 1969; Weaver O. The Rise and Fall of the Inter-Paradigm Debate // International
Theory: Positivism and beyond. Ed. By Smith, Steve, Ken Booth, Marysia Zalcwski. — Cambridge, N.Y., 1996;
Kcohane, Robert O. and Joseph S. Nye Power and Independence. 2nd ed. - Glinvicw, 1989; Сафронова O.B.
Теория международіплх отношений: Учебное пособие. — Нігжннй Новгород, 2001.
5 Киссинджер Г. Дипломатия. - М.( 1997; Бжезинский 3. Великая шахматная доска. - М., 2005; Busan В ,
LniIcR.. International Systems in World History.-Oxford, 2000
исторической науке в оценке российско-китайских отношений этот ПОДХОД пока не нашел ярко выраженного применения.
Основным постулатом данной теории является утверждение, что «политики всегда действуют с точки зрения интереса, облеченного в терминах власти» . То есть все государственные деятели вне зависимости от общественного строя, партийной принадлежности или идеологических предпочтений в своей международной политике отстаивают конкретные, рационально обоснованные, позиции. В чем же они заключаются? По мнению сторонников политического реализма, главная цель государства -защита своих национальных интересов. Основатель теории политического реализма Г. Моргеитау писал: «Главным критерием правильности внешней политики государства является отстаивание им своих национальных интересов»7. Указанный принцип, как отмечают приверженцы этой теории, универсален как во времени, так и в пространстве. «Человеческая природа, в
которой коренятся законы политики, не изменялась со времен их открытия философами Китая, Индии и Греции» . Иными словами, этот принцип применим для любой страны, в любой исторический период, хотя содержание понятия «национальные интересы» может, естественно, меняться. По мнению видного современного специалиста в области международных отношений П.А. Цыганкова, категория «национальные интересы» выражается в таких ключевых для каждого сообщества понятиях, как «выживание», «благополучие» и «развитие»9.
Таким образом, представленная концепция позволяет рассмотреть различные направления дальневосточной политики царского и советского правительств, часто противопоставляемые друг другу в научно-исследовательской литературе, с точки зрения общих критериев, как одно целое - с позиции отстаивания национальных интересов страны.
й Hans J. Morgenthau. Politics Among Nations The Struggle for Power and Peace. Third edition. N.Y.. 1961. P.
7 Ibid. P. 31.
s Ibid. P. 33.
9 Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации/ Под ред. проф. П.Л. Цыганкова.
М., 2008. С. 21.
В качестве параметров сопоставления, по мнению автора, могут выделены следующие:
политика в отношении КВЖД;
экономические связи; -военные отношения; -меры в отношении отдельных территорий Китая;
взаимодействие в области дипломатии;
— видение политиками разных периодов роли и места Китая во внешней
политике России;
-средства и методы проведения политики.
Применение означенной методологической концепции вполне допускает использование таких общеисторических методов исследования, как: анализ, синтез, индукция, дедукция, описание, сравнение, ретроспекция явлений, обобщение, классификация. В своем исследовании автор опирался на принципы историзма, диалектики и объективности.
Характеристика источников
Специфика заявленного предмета исследования (в данном случае под спецификой понимается прежде всего масштабность и интенсивность внешней политики России на Дальнем Востоке) определила некоторые особенности источниковой базы диссертации. Во-первых, имеющиеся в нашем распоряжении материалы весьма многочисленны, во-вторых, крайне разнородны по происхождению, жанру, содержанию, хронологии. Кроме того, в последние годы стало возможным изучение документов, запрещенных к выдаче в советских архивах, что позволяет ученым глубже исследовать многие исторические проблемы.
Для работы над диссертацией нами были привлечены как неопубликованные — архивные — материалы, так и многочисленные сборники документов, широко издававшиеся до революций 1917 г., в советское и постсоветское время. К первым относятся материалы Архива внешней
связей Китая и России на протяжении XVII - сер. XX вв. Тогда вышел в свет первый том капитальной работы B.C. Мясникова и Н.Ф. Демидовой, создавших интересную подборку печатных и архивных документов по истории российско-китайских отношений - сборник «Русско-китайские отношения 1689-1916. Официальные документы»19. В это же время был издан сборник «Советско-китайские отношения. 1917-1957»20.
Открытие многих фондов отечественных архивов в начале 1990-х гг. стало толчком для публикации ранее недоступных документов. В 1994 г. вышел в свет сборник документов из РГАЄПИ по истории деятельности Коминтерна в Китае"1. Под редакцией B.C. Мясникова в 2004 г. был опубликован сборник документов «Русско-китайские договорно-правовые акты: 1689-1916 гг.» . Значительная часть этой фундаментальной работы посвящена КВЖД.
В силу большого количества документов, их объемности и разного характера они были разделены нами на несколько групп.
I. Первую группу источников составили тексты международных
*
соглашений. Здесь можно выделить две подгруппы:
1) договоры, отражающие общие положения двусторонних отношений;
2) соглашения, регулирующие конкретные области контактов России и
Китая. . ш
К первой подгруппе относятся Договор 1896 г. о строительстве Китайско-Восточной железной дороги и секретное приложение к нему о поддержке сторонами друг друга в случае нападения Японии23. Данные источники позволяют выявить специфику взаимоотношений двух стран в конце XIX века, увидеть, что их сближало и что стало фундаментом дальнейших тесных контактов, а также дают возможность разобраться в тонкостях и причинах трений, которые возникнут между Китаем и Россией в
19 Русско-китайские отношения 1689-1916. Официальные документы. - М.,1958.
20 Советско-китайские отношения. 1917-1957.-М., 1958.
21 ВКП (б), Коминтерн и Китай. Сборник документов. Т. 1,2 — М., 1994.
" Русско-китайские догонорно-правовые акты: 1689-1916 гг./Отв. ред. B.C. Мясников. М., 2004.
-' Там же.
;ива соци&і
политики Российской империи (АВПРИ) , Архива внешней политики Российской Федерации (АВПРФ)", Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ) ' , Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) "'.
В работе над диссертацией также широко использовались следующие публикации документов: «Сборник дипломатических документов по монгольскому вопросу (23 августа - 2 ноября 1913 г.)»14, научный журнал «Вестник Азии», издававшийся в 1909-1917 гг. харбинским Обществом русских ориенталистов15, журнал «Красный Архив» |6, в котором впервые в
СССР публиковались документы по русско-китайским отношениям. Также нами использованы документы из изданного в 1927 г. «Сборника договоров и других документов по истории международных отношений на Дальнем Востоке (1842 - 1925 гг.)», составленного Э;Д. Гриммом 17 . Большой документальный материал содержится в сборнике «Международные отношения в эпоху империализма. Документы из архивов царского и Временного правительств 1878-1917 гг.»' .
В 1958 г. отечественные и зарубежные специалисты стали свидетелями качественного прорыва в развитии источниковой базы, многосторонних
10 Лрхин внешне» политики Российской империи (далсе-АВПРИ). Ф. 143. Китайский стол. Оп. 491. Д. 474, 522,572,579,509,601,631,632,639,675,677,682,717,724,736,744,957. 1030. 1094. 1126, 1133, 1186, 1288, 1312, 1582, 1795, 1793, 3081, 3082. 30S6, 33SI, 3-136; Ф. 188. Миссия в Пекине. Оп. 761. Д. 12-14, 16, 17, 19-23,25,27,29, 119, 126, 154, 158, 161, 165, 167, 170. 172,211,214,220-226,236,243,252,255,259,260,261, 262, 265, 279,287, 296. 302, 306, 309, 311, 316, 319, 324, 325, 332. 334, 336, 353, 326, 358, 361, 364, 365, 371, 373, 384, 421,425, 477, 481, 487, 497, 521, 555. 584. 587, 591, 613, 619, 627, 635, 645, 6S3, 716. 761 774. 788, 798,811,1209.
" Архив внешней политики Российской Федерации (далсс-АВПРФ). Ф. Рсференгура по Китаю. 0110. On. 5. Поргфель 5. П. 102; Оп. 6. П. 103. Д. 5; Оп. 7. П. 106. Д. 16; П. 107. Д.17; Оп. 10. Портфель 13. П. 10; О». 8. Портфель 7. П. 111; Д. 19.П. 113; Д. 22. П. ИЗ; П. 111; Д.23. П.113; Оп. 9. П. 117. Д. 14; П. П8.Д.29,31; Оп. 10. П. 126. Д. 39; П. 128. Д. 65; Оп. 41а. Портфель 1. П. 163; Портфель 3. П. 163.
Ії Государственный архив Российской Федерации (далсе-ГАРФ). Ф. 555. Гучков Александр Иванович. Оп. 1. Д 439,461,575, 577,578; Ф. 818. Плансов Георгий Антонович. Оп. 1, Д. 18.
13 Российский государственный архив социально-политической истории (далее РГАСПИ). Ф. Секретариат
В. И. Ленина (1917-1923 гг.). 5. Оп.1. Д. 2108, 2144, 2)47,2145, 2194. 2314, 2315, 2316, 2148; Оп. 2. Д. 19;
Ф. 495. Исполком Коминтерна. Оп. 152. Д. I, 7-18, 29, 3!, 43; Оп. 154. Д. 2; Ф. 514. Коммунистическая
партия Китая. Оп. 1.Д. 46.
14 Сборник дипломатических документов по монгольскому вопросу (23 августа - 2 ноября 1913 г.). - СПб.,
1914.
15 Вестник Азии. 1910.№5; 1911. №3; 1914.№31-32; 1915. №33.
16 Красный Архип. 1926. №5; 1929. №4, 6; 1932. №3.
"Сборника договоров и других документов по истории международных отношений на Дальнем Востоке (1842-1925)'Сост.Э.Д. Гримм- М., 1927.
18 Международные отношения в эпоху империализма. Докумеїггьі из архивов царского и Временного правительств : 878-1917 гг. (далее-МОЭИ).-М., 1936. Т. 18, 19; 1940. Т. 20.
будущем. Эти документы стали важнейшими в формировании двусторонних отношений на несколько десятилетий, в них отразилась вся сложность и неоднозначность российско-китайских связей. Анализ договоров дает возможность обозначить приоритетные направления дальневосточной политики царского правительства и то, как оно планировало их реализовывать.
Приграничные контакты двух стран в начале XX в. отражены в Цицикарском договорном акте от 7 декабря 1911 г.24и Курэском протоколе от 30 мая 1915 г." С их подписанием фактически завершилось оформление границы между двумя странами. Документы интересны тем, что с их помощью можно судить о характере взаимоотношений соседей, показать, как практически мирным путем, а не в ходе войн, завершилось разграничение территории на протяжении нескольких тысяч километров, и увидеть, как решалась еще одна насущная проблема российской внешней политики.
В соглашении с Внешней Монголией от 3 ноября 1912 г.26 отразилось усиление влияния России на Дальнем Востоке. Петербург, выступивший по этому соглашению гарантом автономии Урги, усиливал тем самым свою роль и в то же время создавал очаг конфликта с Китаем.
О том, какое место занимала Россия на Дальнем Востоке в середине второго десятилетия XX в., позволяет судить трехстороннее Кяхтинское соглашение, подписанное Россией, Китаем и Внешней Монголией 25 мая 1915 г.2' Только благодаря русской дипломатии был заключен договор, по которому Пекин признал широкую автономию Урги. И в то же время, исключительно за счет воздействия Петербурга, удалось добиться, чтобы Урга отказалась от независимости. Таким образом, данное соглашение зафиксировало пусть временный, но важный баланс сил на Дальнем Востоке, закрепило за Россией функцию посредника в китайско-монгольских
24 Известия Министерства иностранных дел. Кн. III.-СПб., 1913. С. 65-67.
25 Там же. Кн. V. - Петроград, 1915. С. 77-78.
26 Сборника договоров и других документов по истории международных отноиений на Дальнем Востоке
(1842-1925)/Сост. Э.Д. Гримм- М., 1927. С. 181.
2 Там же.
шыневиков
отношениях. Вместе с тем оно стало платформой для политики больше! в этом регионе в будущем.
В связи с выше изложенными обстоятельствами особо следует отметить соглашение РСФСР с Монголией 5 ноября 1921 г.28 Хотя вопрос о международно-правовом статусе Урги в нем был обойден, официальное признание Москвой Внешней Монголии как субъекта международного права, зафиксированное соглашением, стало необходимой основой в борьбе за признание ее независимости. Важность этого соглашения заключалась и в том, что оно возвращало России функцию патроната Халхи и гаранта ее будущих свобод.
Несомненно, важнейшим источником для данного исследования явилось Соглашение об общих принципах для урегулирования вопросов между СССР и Китайской Республикой от 31 мая 1924 г.29 Оно стало итогом многолетней кропотливой работы советских дипломатов в процессе признания Китаем Советской России. В нем нашли отражение узловые противоречия двусторонних отношений: проблема КВЖД, монгольский вопрос. Здесь было зафиксировано то положение, которого советская Россия смогла добиться к середине 1920-х гг. на Дальнем Востоке. Данный документ позволяет сравнить результат, достигнутый большевиками, с результатами деятельности царских министров. Кроме того, следует подчеркнуть, что договор стал первым равноправным соглашением Китая с другой державой.
При анализе этих материалов становится очевидным, чего реально добилась царская и советская дипломатия в отношениях с Китаем, насколько результат соответствовал проводимой политике и преследуемым целям.
Ко второй подгруппе можно отнести соглашения, затрагивающие конкретные области двусторонних контактов России с Китаем.
Значительная часть этих материалов - соглашения по регулированию взаимоотношений на территории КВЖД. Они позволяют детально
Советеко-Kiпайскне отношения 1917- 1957 гг. Сборник документов. М., 1959. С. 25.
29 Там же. С. 82-85.
представителей Советской респуолики с представителями Синьцзянской провинции в Китае в г. Кульдже35, получившее название Илийский протокол, по которому учреждались советское и илийское агентства для решения торговых и дипломатических вопросов. Протокол свидетельствует о том, что политика Советов в отношении Китая была достаточно гибкой. И даже до подписания официального договора с Пекином в 1924 г. Москва с целью развития экономических связей, а возможно, и стремясь восстановить прежний механизм «посредничества», пыталась устанавливать отношения с отдельными провинциями соседнего государства.
Источники данной группы фиксируют положение, реально существовавшее в двусторонних отношениях. Они показывают, чего удалось и не удалось добиться дипломатам в ходе длительных переговоров.
Наличие во второй подгруппе меньшего количества документов по советскому периоду, на наш взгляд, связано со следующими причинами. К началу XX века основные проблемы двухсторонних российско-китайских отношений были решены, а решения должным образом оформлены. Большевикам же многие вопросы приходилось решать фактически с «чистого листа», в связи с чем частные моменты в первые годы их власти не затрагивались.
II. Вторая группа источников —российская официальная документация делопроизводственного характера. Эта группа документов весьма многочисленна и чрезвычайно важна, поскольку с их помощью можно проследить, как менялись позиции России по тому или иному вопросу, проникнуть во внутренний процесс выработки и принятия решения. Материалы этой группы также следует разделить на несколько частей.
АВПРФ. Ф. О/100-в. On. 4. П. 102. Д. 2. Л. 27.
L Переписка центральных органов власти со своими представителями на приграничных территориях.
рассмотреть направления, по которым развивались отношения в этом регионе: судебно-правовое, территориальное, торгово-экономическое и военное . Так, например. Положение о введении общественного управления в полосе отчуждения КВЖД от 16 декабря 1906 г. закрепляло передачу части хозяйственных полномочий Общества КВЖД в общественное управление31. По договору от 17 августа 1907 г. О порядке отчуждения земель в провинции Хэйлунцзян для нужд КВЖД происходил пересмотр вопроса о территориях, переданных ранее в пользование КВЖД, в пользу китайских властей"*2. Экономические сюжеты, затрагиваются, в частности, в Соглашении относительно эксплуатации телеграфных линий КВЖД, по которому Общество продавало Китаю свои телеграфные линии, расположенные вне полосы отчуждения33. Российско-китайское предварительное соглашение об организации и введении общественных управлений» в полосе отчуждения
КВЖД» от 27 апреля 1909 г. расширяло круг полномочий китайских властей в вопросах общественного управления в полосе отчуждения34. При-анализе
данных документов можно проследить, как на практике решался вопрос об отстаивании сторонами собственных интересов. По ним отчетливо видно, что российская сторона считала первостепенным, а в чем была готова уступить для достижения более значимых целей.
Наличие подобных соглашений в период с начала постройки КВЖД и до событий 1917 г. даёт возможность проследить динамику российско-китайских отношений практически по всем направлениям.
Отдельные соглашения заключались и с некоторыми провинциями Китая. Так, 27 мая 1920 г. состоялось подписание Пэотокола заседания
30 Количество их значительно, поэтому приведем лишь некоторые. Договор, заключенный между
Обществом КВЖД и Гиринским цзянцзюнем о разведке и разработке каменноугольных месторождений в
провинции Гирнн для нужд КВЖД 22 июня 1901 г.; Соглашение между Китаем и Россией об условиях
вывода русских войск из Маньчжурии. 26 марта 1902 г.; Русско-кіггайское предваріггельное соглашение об
организации н ведении общественных управлений в полосе отчуждения КВЖД // Русс ко -китайские
договорно-правовые акты: 1689-1916 гг./Отв. ред. В.С Мясников. М.,2004.
31 См . Русско-китайские договорно-правовые акты: 1689-1916 гг. / Отв. ред. В. С. Мясников. М , 2004. С.
529-530.
32 Там же. С. 320-322.
33 Там же. С. 342-344.
34 Там же. С. 320-321.
шидел на ютников?7,
В царский период это большое количество депеш о состоянии
местах, телеграммы посланника в Пекине' \ записки тайных сов
-to '
донесения военных . Во многом на основании этих сообщений строилась политика Петербурга в отношении Китая. Они позволяют судить об экономическом положении дел на Дальнем Востоке, об отношении Пекина к России, оценить деятельность японской дипломатии в регионе и т.д. В них также содержится информация о практических действиях политиков. Ценность данной группы источников заключается в том, . что они составлялись непосредственными участниками событий. Само назначение сообщений требовало от их авторов максимальной достоверности и точности, поэтому им можно доверять. Так, например донесения И.Я. Коростовца - уполномоченного для ведения переговоров с монгольским правительством в 1912-1913 гг. — дают возможность восстановить ход переговоров с Китаем и Халхой по вопросу независимости Внешней Монголии . Цели, преследуемые Россией на этих переговорах, пути их отстаивания - обо всем этом дает представление данный материал.
Не менее важны и всевозможные указания из Санкт-Петербурга на места. Например, инструкции о том, как вести себя русским дипломатам, реагируя на .просьбы монгольских лидеров поддержать их борьбу за независимость от Китая, содержатся в телеграмме министра иностранных дел от 28 июля 1905 г. В послании министра иностранных дел С.Д. Сазонова 1911 г. четко и лаконично представлена позиция России в вопросе об использовании проблемы статуса Внешней Монголии как средства давления .
'" Например: Депеши Покотіиіова ш Пекина (АВПРИ. Ф. Китайский стол. Оп. 491. Д. 717. Л. 2, 8, 30, 73,97, 120; Д. 1126. Л. 14); Телеграммы КЗ консульства в Урге (АВПРИ. Ф. Китайский стол. Оп. 491. Д. 717. Л. 34,
3S); Записка первого секретаря Императорской миссии в Пекине Б. Арсеньева о современной политической
обстановке в Маньчжурии от 14 мая 1909 г. (АВПРИ. Ф. Китайский стол. Он. 491. Д. 1126. Л. 22-35);
Донесение И.Я. Коростовиа из Пекина (АВПРИ: Ф. Китайский стол. Оп. 49. Д. 1582. Л. 350,460,462).
31 Напр.: Записка Тайного Советника Шишмарева в Санкт-Петербург (АВПРИ. О. Китайский стол. Оп. 491.
Д. 717. Л. 65); Секретное письмо Российского дипломатического Агента в Монголии на имя МИД (АВПРИ.
Ф.Миссия в Пекине. Оп. 761. Д. 382. Л. 6).
8 Напр.: Доклад начальника заамурского округа отдельного корпуса пограничной стражи генерал-лейтенанта Чичагова (АВПРИ. Ф. Китайский стол. Оп. 491. Д. 717. Л. 3).
"Сборник дипломатических документов по монгольскому вопросу (23 августа-2 ноября 1913 г.). СПб.,
1914. С. 12.14.
40 См. Попов АЛ. Царская Россия и Монголия в 1913-1914 гг. // Красный Архив. - М., 1929. Т. 6. С. 8.
на Китай": какую позицию Россия отстаивала в этом вопросе; как и под влиянием каких факторов эта позиция изменялась. Данные послания раскрывают используемые российской дипломатией методы и приемы, которые в итоге позволили ей отстоять свою точку зрения и добиться автономии Внешней Монголии.
Столь же многочисленны и документы советской дипломатии. Различные сообщения периода становления новой власти принадлежат деятелям Дальневосточной Республики, большевикам, которые, будучи в Харбине и Урге, представляли здесь интересы советского государства, Именно от них в Москве узнавали о событиях, происходивших на Дальнем Востоке, о позициях китайской стороны по тому или иному вопросу42. Так, в записке заместителя председателя Дальневосточной республики Я.Д. Янсона43 раскрывается точка зрения китайского правительства на^ вопросы, связанные с КВЖД. В силу того, что каждый из представителей Москвы вынужден был заниматься практически всем комплексом вопросов двусторонних отношений, мы не стали подразделять их телеграммы на тематические разделы, а сгруппировали этот материал по персоналиям. Цели, преследуемые большевиками на Дальнем Востоке в первое время после прихода к власти вполне четко читаются* в посланиях В. Д. Виленского-Сибирякова в Исполком Коминтерна 1920 г.44
Стратегию, тактику, аргументацию делегации РСФСР на первых советско-китайских переговорах можно оценить, опираясь на телеграммы чрезвычайно уполномоченного РСФСР в Китае в 1921 году А. Пайкеса45. В ходе проведенных им встреч он затрагивал все основные вопросы двусторонних отношений с Китаем. Таким образом, его сообщения дают
41 Там же.
42 Например: Письмо Старынкевича на имя Вентцсля от 21 ноября 1918 г. (АВПРФ. Референтура по Китаю.
Опись 7. Д. 16. Папка 106. Л. 1; Телеграмма в Министерство Иностранных Дел от Особоуполномоченного
ДВР в полосе отчуждения Озорннна от 17 сеіпгября 1921 г. (Там же. Л. 19).
43 Записка в НКИД Г.В. Чичерину от Заместігтеля МИД ДВР Я.Д. Янсона от 6 октября 1921 г. (Там же. Л.42)
" ВКП (6), Коминтерн и Китай. Документы. 1920-1925 гг. Т.1.,- M.f 1994. С. 37.
Например: Г В. Чичерину от Чрезвычайного Уполномоченного РСФСР со специальной миссией при правительстве Китайской Республики от 19 ноября 1921 г. (АВПРФ. Референтура по Китаю. Опись 7. Д. 16. Папка 106. Л. 152); Телеграмма Г. Чичерину от А. Пайкеса от 26 ноября 1У21 г. (Там же. Л. 170).
О положении дел в Монголии сообщается в посланиях Б. Шумяцкого . Должность представителя РСФСР на этой территории давала ему возможность быть в курсе всех подробностей происходивших событий. На основе данных источников можно сформировать мнение о том, какие цели преследовала советская дипломатия во Внешней Монголии. Его отчеты отличаются детальностью, а эмоциональность посланий дает возможность более ярко представить атмосферу происходившего.
Эти документы позволяют проследить динамику позиций советской стороны по тому или иному вопросу, а также выявить, под влиянием каких факторов она менялась.
Другой блок материалов - многочисленные телеграммы из Москвы советским представителям в Китае. Например, инструкции Г.В. Чичерина А. Пайкесу о том, как вести себя на переговорах с китайскими дипломатами, какие позиции и как отстаивать в вопросе КВЖД, по проблеме статуса Внешней Монголии и т.д.49 Поскольку эти материалы не предназначались для широкого пользования и официальных заявлений, а составлялись как рекомендации и предписания для руководства действиями советских дипломатов на местах, в них нашли свое отражение реальные, лишенные идеологической «упаковки» интересы, преследуемые новой российской властью.
РГАСПИ. Ф. 195. Оп. 152. Д. 9. Л. 5, 12,30,47, 63; Он. 154. Д. 105. Л. 54, 66, 82,90. АВПРФ. Референтура по Китаю. Оп. 7. Д. 16. П. 106.
Данные документы дают возможность проследить эволюцию взглядов советского руководства на цели и задачи, а также методы- ведения дальневосточной политики. В них отразился процесс воплощения советской внешнеполитической концепции на практике. Характерной чертой этих материалов является их лаконичность и конкретность: ведь содержащиеся- в них рекомендации во избежание двусмыслстюстсй должны были пониматься исполнителями предельно точно. Их отправители порой штикуют своих представителей на местах, что свидетельствует об
представление о позиции советского руководства по ключевым направлениям дальневосточной полити ки. *
. Многочисленные телеграммы А.А. Иоффе 1923 г. содержат ценный материал о спорах в руководстве большевиков по поводу политики в отношении дальневосточного соседа. Резкость высказываний советского представителя дает возможность говорить о серьезных дебатах И' даже расколе среди дипломатов. Данные телеграммы интересны и потому, что позволяют анализировать различные точки зрения лидеров РСФСР на политику России в Китае. Эти документы проливают свет и на.истинные причины отъезда. А.А. Иоффе из Китая и смены главы дипломатической миссии в Пекине. В своих посланиях дипломат в первую очередь затрагивает проблему существования различных точек зрения советского руководства-на одни и те же вопросы: независимость Монголии, судьбу КВЖД, необходимость ведения переговоров с Пекином.
Обширную информацию о положении дел в Китае, содержат телеграммы Л.М. Карахана, сменившего А.А. Иоффе в должности российского представителя в Китае47. Он сообщает о причинах затягивания
переговоров, предлагает различные варианты, поведения советских дипломатов. Его сообщения дают представление об оформлении интересов советской власти в отношении Китайской республики, о том; чего стремилась добиться Москва на переговорах с Пекином. На. основании данных материалов можно судить о. дипломатических и политических нюансах, за счет которых Л.М. Карахану удалось подписать с Китаем дипломатический договор 31 мая 1924 г. В этих телеграммах нашли свое отражение такие проблемы российско-китайских отношений, как вывод войск СССР из Внешней Монголии, подчинение КВЖД влиянию Советской России, установление дипломатического сотрудничества с Пекином и др.
46 Письма и докладные записки полномочного представителя РСФСР в Китае Л.А. Иоффе в НКИД. (РГАСПИ. Ф.5. Оп. I. Д. 2147,2145,2194).
47АВПРФ. Ф. 0100. Референтура по Китаю. Оп. 7. Папка 107.Д. 17. Л. 167,91,101,271,278,314; On. 8. Папка 113. Д. 22. Л. 42; Д. 24. Л. 7,42,38,68.
V .'. 17
отсутствии единой точки зрения советских дипломатов на обсуждае
вопросы. ^Р
2. Вторую подгруппу материалов составляет переписка центральных российских ведомств и министерств между собой по вопросам взаимодействия с Китаем.
Применительно к царскому периоду материалы такого рода содержатся в протоколах межведомственных созещаний. В них зафиксированы рабочие моменты, которые демонстрируют весь спектр точек зрения- российских политиков на строительство Китайско-Восточной железной дороги, независимость Внешней Монголии (и реакции Пекина в этой связи), развитие торговых связей и т.д. Здесь так же можно увидеть «закулисную» сторону царской дипломатии. Протоколы проливают свет на причины, по которым в конечном итоге принималось то или иное решение. К примеру, в одной из стенограмм подобного совещания по вопросу о
необходимости включения Северной Маньчжурии в состав * России
*
представлен спор военного министра Российской империи В.Л. Сухомлинова и его оппонента - главы министерства иностранных дел С.Д. Сазонова50. Переписка' между министром финансов В.Н: Коковцевым- и министром иностранных дел А.ГЪ Извольским в марте 1909 г. по вопросу о-продаже КВЖД Китаю позволяет определить, каковы были в обозначенный период интересы России в Маньчжурии .
Аналогичные материалы советского периода представлены перепиской между комиссариатами52. Многие из этих документов, хранящихся в АВПРФ и рассекреченных лишь в конце 1990-х гг., ранее не использовались историками. Таким образом, введение в научный оборот значительного пласта важнейших источников по данной проблематике позволяет раскрыть многие малоизвестные стороны деятельности советской дипломатии на Дальнем Востоке. Несомненно, большой интерес представляет переписка,
50 АВПРИ. Ф. Китайский стол. Д. 1094. Л. 2-6.
51 Там же. Оп. 491. Д. 957. Л. 19-24.
"АВПРФ. Референтура по Китаю. Оп. 5. Пор.5. П. 102;Оп.7.Д. 16. П. 106.
касающаяся экономических отношений с Китаем. К примеру, в письмах,
которыми в феврале 1925 г. обменивались ІЖИД Г.В. Чичерин и
председатель правления Нефтесиндиката Ломов, характеризуется развитие
двусторонних отношений в области нефтяной торговли53. В докладной
записке заведующего отделом Дальневосточного НКИД Мельникова от 19
января 1925 г. отражено положение торговых связей с Китаем5'. Эти
источники дают возможность увидеть новые, слабо представленные в
отечественных исследованиях стороны экономических отношений России с
Китаем в первые годы советской власти.
///. К этой группе мы отнесли неофициальные материалы, дневники и
воспоминания современников событий, затронутых в данном исследовании.
Для изучения политики царского правительства к работе были привлечены:
Отчет Московской торговой экспедиции в Монголию 1912 г., труды
А.П. Беннигсена «Несколько данных о Современной Монголии» и
А.П. Болобана «Монголия» 56.
В 1911 г. 73 московские торговые фирмы в связи с расширением
торговли на Дальнем Востоке организовали экспедицию для изучения
Монголии. По ее итогам был опубликован отчет . Он представляет собой
подробное (почти на 400 страницах) описание Западной Монголии. Здесь
рассматриваются ее политическое устройство, нравы, верования, обычаи.
Естественно, большая часть материалов касается вопросов экономического
развития региона, текущих торговых связей. Отчет дает возможность
рассмотреть проблему русского влияния в этом крае: насколько оно было
значительным, в чем проявлялось, кто выступал главным соперником России
в нем. Дается большой фактический материал: о количестве торгующих
русских, об объемах общего товарооборота и т.д. Данная информация
* позволила понять, почему России вплоть до начала XX века не удалось
53 АВПРФ. Ф. 0100. Оп. 9. Папка. 117. Д. 12.
Гам же. Д. 14.
5-І
35 Бен и и гее и А. П. Несколько данных о современной Монголии. -СПб., 1912.
56Болобан А.П.Монголия.-СПб., 1914.
57 Московская торговая экспедиция в Монголию. - М.,1912.
закрепить в данном регионе своё влияние. Форма отчета сводит к минимуму субъективные оценки: ведь для составителей документа была необходима максимально точная информация.
Книга А.П. Беннигсена была написана им по итогам поездки по Монголии с апреля 1909 г. по февраль 1911 г. Пребывание его в этом крае практически одновременно с Московской экспедицией дает возможность сверять излагаемую авторами информацию. Несмотря на богатый фактический материал, труд А.П. Беннигсена содержит много субъективных оценок и умозаключений. Этот характерный момент, однако, нисколько не умаляет важности данного источника, материалы которого проливают свет на причины многих событий, происшедших в Монголии.
Труд А.П. Болобана «Монголия», опубликованный в 1914 г., был написан по итогам еще одной поездки в-Монголию, состоявшейся в 1913 г. На этот раз экспедиция была организована Министерством торговли и промышленности для ознакомления с положением русской торговли и экономическим, бытовым и религиозным укладом монголов. Судя' по датам, поездка эта прошла чуть позже, чем две предшествующие, что дает возможность проследить, изменилось ли сколько-нибудь положение дел в Монголии. Автор так же дает подробный отчет о деятельности русских торговых фирм, работающих в Монголии. Большое значение имеет представленная здесь информация об участии русских предпринимателей в развитии промышленности Монголии (речь, в частности, идет о золотодобыче). Ценным представляется помещенный в работе отчет о вывозе русскими товаров из этого региона.
"Єї
Такое количество поездок во Внешнюю Монголию и опубликованных работ, посвященных данному региону, свидетельствует об интересе к этому краю, значительно возросшем в начале XX в., о стремлении выяснить его енность для российской стороны, не только с позиций государства, но и с точки зрения частных лиц. Желание последних представить наиболее точно
положение дел в Монголии, необходимость определить перспективы этого рынка гарантирует наличие в рассматриваемых работах объективных оценок.
Некоторые, пусть и незначительные, записи и воспоминания по теме данного исследования были оставлены и советскими дипломатами. В Архиве внешней политики Российской Федерации находятся выдержки из дневника Я. Давтяна, представлявшего Советскую Россию в Китае в 1923 г.58 В нем достаточно подробно описываются контакты с Б.В. Остроумовым по поводу помощи последнего в деле перехода КВЖД в руки большевиков. Этот документ предоставляет в распоряжение исследователей ранее неизвестные факты и позволяет по-новому взглянуть на политику советских дипломатов в Поднебесной, ее цели и методы.
В 1963 г. в свет вышли воспоминания М.И. Казанина60 о работе первой дипломатической миссии Дальневосточной республики в Китае в 1921 г.61 Конечно, они содержат много субъективной информации, оценок, выдержанных в идеологических штампах того времени. Но, тем не менее, в этой работе есть большой фактический материал, позволяющий судить о первых дипломатических шагах советской власти в отношении. Китая, как говорится «изнутри».
IV. В четвертую группу были отнесены документы экономико-статистического характера. Они касаются двух вопросов российско-китайских отношений: торговли и положения КВЖД.
>/
58 См. ЛВПРФ. Ф.0100. Референтура по Китаю. Оп. 7. Папка І07. Д.17. Л.144 -148.
59 В 1920-е гг. Еозглавлял руководство КВЖД.
60 Казаний Марк Исаакович (1899-1957 гг.) родился в Кривом Роге Херсонской губернии. В 1906 вся семья
переехала в Маньчжурию, где Казаний в 1917 г. окончил с золотой медалью Харбинское мужское 8-
классное коммерческое училище. В 1917 г. поступил в Восточный институт во Владивостоке. В 1919 г.
работал переводчиком при американской железнодорожной миссии в Сибири. В 1920 г. назначен
секретарём дипломатической миссии Дальневосточной республики и выехал в Пекин. Осенью 1921 г. был
отозван п Моему, работал преподавателем в Институте востоковедения и был выбран в Государственный
учёный Совет. В 1923 г. - научная командировка за границу на четыре с половиной года. В 1926 г. -
секретарь штаба военных советников СССР в Китае (Ханькоу). С 1927 г. работал в Москве старшим
научным сотрудником Научно-исследовательского института по Китаю, который вскоре влился в Академию
наук. Арестован в 1937 г., и был осуждён на 5 лет лагерей за контрреволюционную деятельность. Умер от
рака в 1957 г. Реабилитирован.
Казаний М.И. Записки секретаря миссии. Странички истории первых лет советской дипломатии. - М., 1963.
Состояние русско-китайской торговли в царский период отражают некоторые публикации62 в журнале «Вестник Азии». Здесь представлены статистически данные по экспорту и импорту с 1880 по 1905 г. по различным видам товаров: чай, мука, хлеб, хлопчатобумажные изделия, скот и т.д. Эти материалы позволяют не только рассмотреть русско-китайскую торговлю в динамике, по и выявить ее основные направления (1^ Анализ и характеристика дальневосточной торговли, данные на страницах этого журнала специалистами, непосредственно бывавшими в Китае, также являются ценным материалом для рассмотрения нашей проблемы.
Для исследования вопроса о советско-китайской торговле в первые годы власти большевиков в работе был использован правительственный Отчет к IX Всероссийскому съезду Советов6'1 в 1921 г. Информация о
торговых отношениях с Китаем, представленная гам, не очень обширна, тем не менее она дает возможность выявить- основные направления- торговых контактов новой власти с дальневосточным соседом в этот период.
О том, как развивалась торговля между Россией и Китаем с 1913 по 1925 г. можно судить на основе статистических отчетов, опубликованных в 1939 г.65 Здесь представлена информация: об1 импорте и экспорте СССР, причем речь идет как. о торговле с Китаем в целом, так и в отдельности с Синьцзяном и Монголией. Правда, отсутствие надлежащего учета торговых контактов в обозначенный период не позволило сделать этот отчет максимально полным: по многим годам нет данных. Однако, это едва ли не единственная официальная информация по рассматриваемому вопросу. Последнее обстоятельство повышает ценность означенных сведений.
Экономическое состояние КВЖД в первые годы советской власти можно оценить на основе материалов, хранящихся в АВПРФ. Это
62 Русская торговля в Монголии//Вестник Азии. 1915. №33. С. 150. См. также: О «порто-франко»//Там же.
1911.№7. С. 10-15; К вопросу о сохранении Россией права беспошлинной внутренней сухопутной торговли
с Монголией//Там же. 1910. №.5. С. 12-17.
63 Торговля России с Китаем с 1880 по 1905 гг. // Вестник Азии. -М., 1910. №5. С. 102-105
61 Внешняя торговля РСФСР (декабрь 1920 - декабрь 1921 гг.) Отчет к 1Х-му Всероссийскому съезду
Советов.- M., 1921. С. 39,116-118.
6~ Внешняя торговля СССР за 20 лет. - М., 1918-1937.
рекомендации, записки, сообщения, отчеты очень различные по xaj содержанию. В них есть данные о наличии поездов, о количесп перевезенных грузов, о пассажиропотоке и т.д. Стремление большевиков і иметь подробную информацию о положении дел на дороге подчеркивает их особый интерес к ней, а исследователям дает представление о том, что интересовало власть в первую очередь.
К сожалению, насколько можно судить по историографии, все исследователи испытывают дефицит цифровых данных по интересующему нас периоду. Это объясняется прежде всего отсутствием в первые годы советской власти систематического статистического учета в российско-китайской торговле. Однако и имеющиеся в нашем распоряжении источники чрезвычайно важны для рассмотрения заявленной* проблемы, поскольку вполне позволяют создать представление о торговых связях двух стран:
V. В отдельную группу нами были выделены обращения руководства РСФСР к правительству Китая и пояснения к ним.
25 июля 1919 г. было опубликовано Обращение Правительства РСФСР к китайскому народу и Правительствам Южного и Северного Китая67. В нем
провозглашался: отказ от русской доли- боксерской контрибуции, особых привилегий российской торговли в Китае и прав экстерриториальности. Здесь же содержалось предложение о начале двусторонних переговоров. Ответа китайских властей на это обращение не последовало. Через год с небольшим'27 сентября 1920 г. советское руководство вновь обратилось, к руководству Китая . В этом, втором по счету, обращении наряду с прежними тезисами содержались адресованные китайским властям требования отказа-от поддержки «русских контрреволюционеров» и пункт, посвященный проблеме КВЖД: советская сторона предлагала заключить договор о порядке пользования дорогой для нужд РСФСР.
66 См. АВПРФ. Ф. 0100. Оп. 8. Д. 24., П. 113. Л. 30 (Записка Отдела Востока HKBT о Тарифной политике КВЖД — II VIII, 1924 г.); Там же. Л. 47 (Соображения Главного Таможенного управления об условиях
транзита по КВЖД грузов и пассажирского багажа). "ДВПСССР.Т.2: 1919- І920г.-М.,І958.С.22І. 68 Там же. Т. 3:1920 - 1921 гг. М., 1959. С. 213 -216.
Среди них особого внимания заслуживают труды крупнейшего современного российского синолога и специалиста в области российско-китайских связей B.C. Мясникова72. В своих историографических обзорах автор проводит детальный анализ работ, посвященных русско-китайским отношениям. Не останавливаясь подробно на объективно свойственных его историографическим исследованиям недостатках, 73 заметим, что автор проделал колоссальную работу, рассмотрев литературу на русском, китайском, японском и многих западноевропейских языках, дав её глубокий сопоставительный анализ, показав сильные и слабые стороны десятков сочинений конкретных авторов, выстроив периодизацию и выявив направления'научного поиска.
Переходя к характеристике собственно исследовательской литературы, отметим следующую её особенность. Зачастую историки рассматривали^ в своих трудах сразу несколько направлений российско-китайских отношений. Поэтому, чтобы не возвращаться к обзору одной и той же работы несколько раз и не создавать путаницы, привлеченная к работе историография, была нами сгруппирована по периодам: вначале рассматривается литература, изданная до 1917 г., затем работы советских и постсоветских историков. В отдельный блок выделены труды зарубежных исследователей. В* свою очередь характеристика исследовательской литературы внутри групп дается в хронологическом порядке: сначала рассматриваются работы, посвященные
>/
истори ко-библиографическое обозрение по новой истории Китая. — Л., 1968; Историческая наука в КНР. -М., 1971; Мясников B.C. Идейное банкротство пекинских лжеисториков // Проблемы Дальнего Востока, -М., 1978. №34; Скачков П.Е. Очерки истории русского китаеведения. - М., 1977; Современные буржуазные теории международных отношений. Критический анализ. - М , 1976; Кучера С. Академия Синика и наука Китайской Республики // Восток. - М., 1997. №2; Мясников В С. Договорными статьями утвердили. Дипломатическая история русс ко-китайской границы. XV11-XX пп - М., 1996; И не распалась связь времен ...К 100-летию со дня рождения П. Е. Скачкова. - М., 1993 и др.
72 Мясников B.C. Договорными статьями утвердили. Дипломатическая история русско-китайской границы.
XVII - XX вв.-М., 1996.
73 Так, например, несколько спорным видится авторское отождествление понятий «немарксистские» и
«ненаучные» сочинения зарубежных исследователей (Мясников B.C. Империя Цин и Русское государство в
XVII в. - М., 1980. С. 28). Хотя, очевидно, в условиях достаточно жесткой идеологической цеігзурьі
подобное положение было практически неігзбежньїм. Господство в обществоведческих научных принципах
«партийности» (1917 - 1991 гг.) заставляло квалифицировать как «ненаучные», «несостоятельные))
сочинения западных ученых мирового уровня (см., например: Чесноков Г.Д. Современная буржуазная
философия истории. Критический очерк. —Горький, 1972).
В связи с отсутствием какой-либо реакции со стороны дальневосточного соседа советские дипломаты на протяжении нескольких лет вынуждены были давать пояснения к этим обращениям. Например, 6 октября 1922 г. чрезвычайный полномочный представитель РСФСР в Китае опубликовал меморандум ' . В нем дипломат пригрозил Китаю тем, что данные в декларации обещания не могут действовать бесконечно. Другой меморандум от 14 ноября того же года касался вопроса о возможности безвозмездной передачи КВЖД Китаю70.
Данный материал интересен тем, что позволяет сравнить внешнеполитические декларации большевиков и политику, проводимую ими на практике. Меморандумы наглядно показывают, как менялась позиция советского- руководства о КВЖД. Кроме того, знакомство с подобными документами демонстрирует, что заявления большевиков имели значительно большую идеологическую окраску, чем их практическая политика. В целом данная группа источников играет вспомогательную роль.
Таким образом, имеющиеся, источники содержат богатый и, как надеется диссертант, достаточный фактический материал для. анализа рассмотренных в диссертации событий, понимания их взаимосвязи и
^omuwiuaj
построения самостоятельных выводов.
Характеристика историографии.
Научная литература по истории внешней политики России на Дальнем Востоке обширна и многопланова. Поэтому, приступая к обзору историографии заявленной темы, отметим, что анализ отдельных сторон политики России в отношении Китая неоднократно предпринимался, как отечественными, так и зарубежными исследователями. За последние три — четыре десятилетия появился ряд весьма глубоких работ историографического характера по данной теме .
09 АФПРФ. Референтура по Китаю. Он. 41 а. Пор. 1. П. 163. Л. 75.
70 Там же. Л. 83.
71 См. и этой связи: Скачков П.Е. Библиография Кіггая. ~ М., 1960; Никифоров В.Н. Советские историки о
проблемах Китая. - M., 1970; Его же. Восток и всемирная история. - М., 1975; Березный Л.Л. Начало
колониальной экспансии в Китае и современная американская историография. - М., 1972; Ефимов Г.В.
царским огношениям с Поднебесной, а затем исследования, затрагивающие контакты с Китаем РСФСР и СССР.
Уже дореволюционные исследователи обращали внимание на проблему присутствия России на Дальнем Востоке. М.Н. Васильев в своей книге74, вышедшей в 1899 г. откликнулся на события, происходившие в этом регионе, и одним из первых поднял вопрос о КВЖД, заявив о значимости ее строительства для реализации коммерческих интересов России. Он акцентировал внимание на экономическом факторе дальневосточной политики, отмечая ценность контактов с Поднебесной. Другой историк -В.П. Васильев75 - делал акцент на изучении-роли западных стран, и в том числе России, в деле «просвещения» Китая, распространения там христианских ценностей. Именно в этом, по его мнению, заключался, залог успеха усиления влияния России в Кт&ъ.М
Предметом изучения еще одного весьма заметного дореволюционного исследователя проблем российско-китайских отношений А.П. Болобанастала экономическая ситуация, на Дальнем' Востоке на рубеже XIX - XX веков; В своей- книге' он показал, как колебались внешнеэкономические приоритеты Российской империи в этом регионе: выделил периоды, когда происходило сближение с Китаем (последние годы XIX в. и конец первого десятилетия;XX в.), а когда - с Японией (после русско-японской войны). При этом автор видел в Китае более надежного и перспективного экономического партнера, оценивая-сотрудничество с Японией как временное явление. Данная работа, по сути, стала первым исследованием, в котором делалась попытка анализа интересов и перспектив дальневосточной политики Российской империи..
на КО
Отчасти проблема поиска Россией подходящего партнера и союзника на Дальнем Востоке затрагивалась и историком Ю. Кушелевым77. Правда, он концентрировал внимание на политической составляющей этой проблемы. В личие от А.П. Болобана, Ю; Кушелев основную цель сближения России с
74 Васильев M. Н. Торговля с Китаем. —Томск, 1899.
75 Васильев В. П. Открытие Китая. - СПб., 1900.
76 Болобан А. П. Экономические вопросы Дальнего Востока. — M., 1910.
77 Кушелев Ю- Маньчжурия и монгольский вопрос.— СПб., 1912.
Японией видел в том, чтобы лишить Китай возможности придвинуться к границам России. Однако этот вопрос рассматривался им лишь «по касательной». Главным образом его интерес был прикован к проблемам независимости Монголии и распространения влияния России в Маньчжурии.
В целом, дореволюционные историки мало касались проблем русско-китайских отношений на рубеже веков. Возможно, это было связано с тем, что до центральных районов России, где находились научные и образовательные учреждения, доходило слишком мало достоверной информации о реальных событиях, происходящих на Дальнем Востоке вообще, и о самом Китае в частности. Между тем уже в начале XX века историки обозначили приоритетные области деятельности российской внешней политики на Дальнем Востоке: экономическое усиление путем строительства железной дороги и развития торговли в Монголии и Маньчжурии; увеличение политического влияния, в том числе с помощью распространения западных идей. То есть, в этих работах исследователи, по сути, выделяли сферы, в которых проявлялись национальные интересы России.
Стоит отметить и то, что упомянутые выше авторы, рассматривая дальневосточную политику как одно из ключевых направлений царской дипломатии, подчеркивали необходимость активной деятельности в этом регионе в связи с его возрастающей экономической значимостью.
К особенностям дореволюционной историографии можно отнести ее описательный характер, отсутствие серьезной аналитики, значительных обобщений и выводов.
В годы революций и гражданской войны каких-либо исследований по данной проблеме практически не проводилось и не публиковалось. Одной из первых тем, к рассмотрению которой отечественные историки приступили е в самом начале 1920-х гг., стал монгольский вопрос. В данной связи необходимо отмстить, прежде всего, работы историков И.М. Майского и
классового подхода, а потому в работе иногда проскальзывают односторонние оценки, нарочито подчеркивается, агрессивный характер политики царизма в отношении Китая. Однако, помимо уже неизбежных в конце 1920-х гг. идеологических штампов, автором были сделаны интересные и глубокие научные наблюдения. Так, Б.А. Романов рассматривал экономическую экспансию России на Дальнем Востоке как часть общей программы СЮ. Витте по модернизации национальной промышленности с помощью мобилизации внутренних ресурсов и привлечения иностранных капиталов, как попытку с помощью государственной поддержки занять «впрок» место на дальневосточных рынках для будущего развития отечественной индустрии. Он отмечал
«официальное происхождение» политики СЮ. Витте и отсутствие
сю.
принципиальной разницы между политикой министра и политикой' статс-секретаря; фаворита императора Николая II A.M. Безобразова83. То-есть Б.А. Романов указал на заинтересованность российского государства в^освоении Дальнего Востока и подчеркнул приоритет экономического фактора в данном
процессе.
іанова вые
Оппонентом-Б.А. Романова выступил известный исследователь М.Н.. Покровский. Хотя последний специально- и не занимался- изучением дальневосточной политики царской России, однако- обойти этот вопрос в своих работах не мог. Он противопоставлял84 деятельность СЮ. Витте и A.M. Безобразова, считая при этом, что Россия на рубеже веков еще не была
империалистической страной .
Но и М.Н. Покровский, вслед за своим коллегой; говорил о приоритете экономических интересов России на Дальнем Востоке.
u Романов Б.А. Там же. С. 105.
81 Покровский М.Н. Русская история в самом сжатом очерке. Часть 3: XX век. — М., 1935.
w Американский историк Л. Рибер видит истоки расхождения между Б.Л. Романовым и М.Н. Покровским
при оценке ими внешней политики царского правительства в их принадлежности к разным историческим
школам: «Судя по широким обобщениям и очень обидим взглядам на русскую историю, М.Н. Покровский
являлся типичным представителем московской традиции в русской историографии. А Б.А. Романов, с его
стремлением к тщательному анализу источников и систематическому изучению архивных материалов,
представляет петербургскую традицию в ее послереволюционном сопетском воплощении» (Rieber A.I.
Historiography of Imperial Russian Foreign Policy: A Critical Survey // Imperialism Russian Foreign Policy.
Woodrow Wilson Center Press and Cambridg University Press, 1993. P. 377).
*7ft
С. Шойжелова . Первые советские монголоведы, видимо, опираясь на свои дореволюционные наработки, достаточно полно и обстоятельно исследовали проблемы истории Внешней Монголии 1911-1915 гг. Оценивая взгляд этих историков на роль монгольского вопроса в развитии российско-китайских отношений, необходимо отметить два момента. Во-первых, они преувеличивали роль аратства в национально-освободительном движении, которое, по их мнению, развивалось под влиянием русской революции 1905 г.79. Во-вторых, они, по существу, ушли от рассмотрения вопроса о вводе русских войск в Монголию в 1914 г.80
Среди немногочисленных работ 1920-х гг., посвященных советско-
китайским отношениям, стоит отметить книгу А. Ивина . В ней автор обратился к проблеме установления дипломатических отношений между СССР и Китаем. Исследователь пришел к выводу, что причиной затруднения переговоров в войне между китайскими милитаристскими группировками было вмешательство империалистических держав.
В 1928 г. вышла в свет фундаментальная монография Б.А. Романова . В ней анализировалась политика России в Маньчжурии в конце XIX - начале XX вв. Опираясь на обширный и богатый архивный материал, автор исследовал такие, еще не изученные его современниками вопросы, как история русско-китайского договора 1896 г., русско-китайские переговоры о строительстве КВЖД, русско-английские переговоры 1898 — 1899 гг. о «сферах интересов» в Китае и т.д. Политика России на Дальнем Востоке рассматривалась историком с опорой на принцип партийности и с учетом
JS Майский И. Современная Монголия. - Иркутск, 1921; Шойжелов С. Западная Монголия // Новый Восток. -M., 1923. №4. С. 151-161.
79 Фактическая независимость Монголии до 1915 г. поддерживалась главным образом дипломатической, финансовой и военной помощью России. Без нее было бы невозможно достижение монголами своей автономии. Урпшское правительство в период провозглашения независимости не имело собственных вооруженных сил, они стали позже создаваться русскими военными инструкторами. Не будь на территории Внешней Монголии русских войск, пекинскому правительству достаточно было послать туда одну дивизию — и с независимостью монголов было бы покончено.
so Никем не отмечено, когда и куда вводились военные отряды, какова была их численность. Вероятнее всего, такая позиция была продиктована стремлением авторов акцентировать внимание на «положительных» сторонах российского влияния в этом регионе и заретушировать его «негативные» моменты.
81 Ипин А Письма in Китая. -М.( 1927.
82 Романов Б.А. Россия в Маньчжурии (1892 - 1906 гг.).- М., 1928.
Сопоставление точек зрения двух ученых показывает, что в перві годы советской власти даже среди историков, опиравшихся на официалы марксистскую методологию, не было однозначного отношения к политике,
По существу, монография Б.А. Романова стала самым заметным явлением в довоенной историографии рассматриваемой темы. На протяжении 1925 — 1930-х гг. отечественными синологами было выпущено несколько новьтх работ, но они не имели непосредственного отношения к вопросам российско-китайского взаимодействия в обозначенный период86. Возможно, такое положение дел стало следствием выхода книги Б.Л. Романова, после которой трудно было сказать что-то действительно новое, а возможно, свою роль сыграла и недоступность архивных документов для широкого круга исследователей. Единственной достойной внимания на данном этапе развития советской историографии можно считать работу В. Лварина , вышедшую в свет в 1934 году. Автор исследовал экспансионистскую политику России, Японии и США в северо-восточной части Китая. Особенно примечательно то, что он широко использовал русскую дореволюционную периодику и опирался на нее в большей степени, чем на материалы архивов. Это было, видимо, связано со стремлением исследователя использовать новый материал, по сравнению с работой Б.А. Романова, основанной исключительно на архивных данных. Уже само название книги В. Аварина, говорит о том, что историк рассматривал российское присутствие в Маньчжурии исходя из экономических приоритетов царского правительства, что было вполне закономерным в условиях тотального главенства материалистической концепции в науке. Примечательно, что автор, относя западные страны к одному лагерю империалистов, выявил у них наличие в данном регионе различных интересов, которые периодически вступали в противоречия между собой.
86 См. Попов А.Д. Очерки истории Китая. — М , 1925; Ходоров А Е. Китай и Марокко. — М., 1975; ХарнскиП К. Китай с дрепнейших времен до наших дней. - М., 1927; Радек К Основные вопросы китайской истории //Новый Восток. - М., 1929. №16. " Аварии В. Империалшм в Маньчжурии. — М-, 1934.
Делая небольшое обобщение, отметим, что в. первые годы советской
власти послереволюционные контакты России с Китаем в отечественной
синологии фактически не рассматривались. Основной акцент был сделан на
период до 1917 г. Вероятнее всего, такое положение было связано с наличием
у исследователей определенных наработок и материалов по данному
периоду. Однако уже в этих немногочисленных работах было сформировано
научное представление о политике царской и советской России в отношении
Китая. Деятельность царских министров характеризовалась как агрессивная,
что связывалось авторами с развитием капитализма в стране. В деятельности
большевикові напротив, подчеркивалось стремление строить со своим
соседом дружественные отношения. .
Великая Отечественная война и восстановление разрушенной* страны отодвинули на задний план проблемы изучения, российско-китайских отношений. Только в-1951 г. вышла в свет объемная коллективная.работа по истории международных отношений на Дальнем Востоке88. Свою основную задачу авторы видели в создании труда по истории всего комплекса международных отношений в данном регионе на протяжении более чем полувекового-периода. Политика царского правительства уже традиционно для отечественной' историографии характеризовалась здесь как экспансионистская- и агрессивная. Между тем обилие фактического материала было непропорционально велико, в. сравнении с теоретическими обобщениями авторов. Но, видимо, историки и не пытались выйти за; рамки сложившихся представлений- о принципах международной политики дореволюционной- России. Желание приобрести новые сферы, влияния, не допустить усиления на Дальнем Востоке других стран — вот основной перечень целей, преследуемых, по мнению авторов труда, царской дипломатией. Что касается советской политики, мнение было ротивоположным. Авторами подчеркивалось, что большевики, в противовес захватнической политике царизма, стремились установить с Китаем
Международные отношения на Дальнем Востоке (1870 - 1945 гг.) / Под ред. ЕМ. Жукова. - М., 1951.
русским царизмом, то он, на наш взгляд, более сложен, чем представлялось автору.
В конце 1950-х гг. в поле зрения советских исследователей попала еще одна проблема русско-китайских отношений - урянхайская. Она нашла отражение в книге В.И. Дулова \ Эта работа дает представление об истории
превращения земли танну-уряихайцев в протекторат России.
Большое значение для изучения заявленной темы, бесспорно, имеет монография исследователя М.И. Сладковского9'1 по истории экономического взаимодействия СССР с Китаем. Работа написана на богатейшей документальной основе, с привлечением материалов советских архивов, а также китайских источников. В ней подробно рассмотрены всевозможные стороны экономических связей двух стран на длительном хронологическом промежутке. Автор проследил эволюцию, которую претерпели советско-китайские отношения в этой области, выявил формы организации торговли, попытался объяснить причины, по которым они менялись. В целом, исследователь сделал вполне объективные выводы, которые отчасти вскрывают специфику отношения советской России к Китаю. Однако, в связи с уже упомянутым отсутствием фактических данных, материалы монографии, касающиеся советско-китайских экономических связей в рассматриваемый нами период, незначительны.
В конце 1950-х гг. вышло в свет несколько работ, посвященных взаимоотношениям советского правительства с провинцией Китая Синьцзян. Так, Б.П. Гуревич 9:> высказал мнение, что сближение РСФСР с этой территорией Поднебесной объяснялось традиционной экономической и культурной взаимосвязью. Другой автор — А.П. Савицкий уделил главное внимание не дипломатическим, а военно-политическим советско-синьцзянским отношениям.
'" Дулов В.И. Социально-экономическая история Тувы.- М., 1956.
94 СладковскийМ.И. История торгово-экономических отношений СССР с Китаем (1917-1974). - М., 1956.
95 Гуревич Б. П. Взаимоотношения советских республик с пропнниией Синьцзян в 1918-1921 гг.// Советский
китаевед. 1958. .№2. С. 96-107.
96 СавиикнЙ А. П. Сннышш и гражданекая война в Средней Азии (1917—1919 гг.) //Труды Среднеазиатского
университета. Вып. 94. Кн. 14.1957. С. 28-37.
"""
равноправные отношения. Такие оценки, однако, были закономері условиях подчинения науки политической конъюнктуре.
С 1950-х гг. начали выходить работы, посвященные различным аспектам советской внешней политики. Статья М.С. Капицы89, так же как и работа А. Ивина, касалась проблемы установления контактов между Москвой и Пекином. Однако М.С. Капица особо подчеркнул роль политических и экономических контактов местных пограничных властей советской России и Китая в нормализации дипломатических отношений между центральными правительствами двух стран.'
В 1955 г. был опубликован еще один фундаментальный. труд Б.А. Романова90. В нем уже подробно анализировалась не только российская, но и японская политика на Дальнем Востоке, детально рассматривалось столкновение в регионе интересов двух держав. Дальневосточное направление внешней политики Петербурга было раскрыто автором в связи с главным узлом международных противоречий того времени - нарастанием англо-германского противостояния.
Более или менее полное исследование, затрагивающее проблему места Монголии в' русско-китайских отношениях, появилось лишь во второй половине 1950-х гг. Речь идет о работе И.Я. Златкина91, рассматривающей Кяхтинское соглашение 1915 г. Оно оценивается автором как навязанное Россией и Китаем Урге. Тем самым историк негативно оценил дальневосточную политику царских министров в отношении Монголии, характеризуя её однозначно как захватническую и империалистическую. Однако'есть основания считать, что решение монгольского вопроса в 1915 г. в Кяхте было навязано царской Россией не,только Монголии, но и Китаю92. "Тто же касается вопроса о «капитуляции» ургинского правительства перед
89 Капица М.С. История торгово-экономических отношений СССР с Китаем (1917 - 1924 гг.) /I Вопросы
истории. 1954. №3. С. 24 - 32.
50 Романов Б.А. Очерки дипломатической истории русс ко-японской войны. 1895 - 1907 гг. 2-е изд. - М.-Л.,
1955.
91 Златкин ИЛ. Очерки новой и новейшей истории Монголии. М., 1957. С. 155.
н См. подробнее об этом гл. 1 диссертации.
В 1958 г. увидел свет содержательный труд А.Н. ХейфецаУ7, связанный с историей заключения первых договоров РСФСР со странами Азии. В нем былы всесторонне рассмотрены дипломатическая подготовка советско-китайского соглашения 1924 г. и противодействие этому процессу со стороны западных держав. Тема была продолжена автором в 1960-х гг. В 1964 г. вышла еще одна его работа , осмысливающая политику большевиков в отношении КВЖД. Исследователь охарактеризовал ее как основанную на равноправии и взаимовыгодности. Именно в этом историк видел главную цель международной деятельности Советов.
Проблема признания Китаем Советской России очень занимала исследователей в начале 1960-х гг. Ей были посвятцены работы Р.А. Мировицкой", М.А. Персица100, С. С. Хусейнова101. Главная идея их трудов
заключалась в том, что большевики стремились установить дружественные отношения с соседом, основанные на принципах равноправия.
Применительно к 1970-м гг. хотелось бы особо выделить книгу А. Прохорова , где автор исследовал проблему размежевания территорий между двумя странами, с начала ее возникновения и до середины XX века. Работа, выдержанная в духе времени, важна для нас потому, что в ней обобщено большое количество сведений по истории пограничного вопроса и предпринят его анализ. Примечательно, что историк на фактическом материале стремился доказать мирный характер формирования российско-китайской границы103.
На протяжении 60-70-х гг. XX в. всё более очевидными становились попытки методологического переосмысления истории Китая вообще и его внешнеполитических связей в частности. Апеллируя к положению К. Маркса
"Хейфец A.H. Советская дипломатия и народы Востока, 1921-1927 -М., 1958.
98 Он же. Советская Россия и сопредельные страны Востока, 1918-1920 гг. — M., 1964.
99 Мнровицкая Р. А. Двігжение в Кіггас за признание Советской власти. - M., 1962.
00 Персии М. А. Дальневосточная республика и Китай. Роль ДВР в борьбе Советской власти за дружбу с Китаем в 1920-1922 гт.-М., 1962.
101 Хусейнов С. С. Вмешательство империалистических держав в совете ко-китайские переговоры 1917-1918 гт. // Народы Азии и Африки. 1962. №5. С. 83-91.
02 Прохоров А. К вопросу о совстско-китайской границе. — М., 1975. 103 Там же. С.25.
об азиатском способе производства, некоторые советские китаисты. (В:Н. Никифоров, В.П. Илюшечкин, Л.С. Васильев и др.) стремились подчеркнуть специфику китайского общества, невозможность «втиснуть» его историю в рамки формационного учения10,1.
Отметим вместе с тем, что эти попытки практически не затронули тему российско-китайских связей и большая часть трудов в этой области создавалась в традиционном для советской историографии ключе (что, однако, не умаляет их научной значимости). При этом рассматриваемые годы явились пиком в разработке советской историографией нашей проблематики. Она продолжала развиваться по двум направлениям. Во-первых, публиковались объемные подборки документов по истории русско-китайских отношений, во-вторых, шло собственно изучение различных аспектов российской внешней политики на Дальнем Востоке.
С конца 1970-х гг. отечественные- историки- стали уделять больше внимания экономическим контактам между двумя странами. Так, A.M. Петров и П.Л. Седов обратили внимание на льготные условия в торговле, которые предоставлялись советскому правительству Китаем, а А.С. Степанов указал на то, что вовлечение Китая в орбиту товарообмена с Россией имело не только важное экономическое, но и политическое значение.
В этот период советскими учеными- были созданы солидные труды по общим вопросам российско-китайских отношений. Так, работа А.Л. Нарочницкого ' была посвящена рассмотрению маньчжурского
""Васильев Л.С. Культы, религии, традиции э Китае. — M., 1970; Его же. Обшес к особенное в историческом развитии стран Востока. // Народы Азии и Африки. 1965. №6; Его же. Конфуцианство в Китае // Вопросы истории. 1968. №10; Меликсетов А.В.'О традиционности некоторых форм экономической жизни в Китае (государственное регулирование от Шан Лиа до наших дней)// Симпозиум «Роль традиции в истории Китая» Тез. докл. -М., 1968.
105 Петров А. М. Внешнеторговые связи СССР со странами Азии (1918-1940 гг.)//Народы Азии и Африки. 1977. №5. С. 30-14.
06 Седов П. Л. Экономические отношения СССР со странами Азии, Африки и Латинской Америки до Второй мировой войны //Вопросы истории. -М., 1979.№7.С. 15-29.
107 Степанов А. С. Ленинская политика мира на Дальнем Востоке: внешнеторговые и культурные связи 1917- 1922 гг.//История СССР. - М., 1984. №6. С. 22-36.
,мНарочницки,1 А.Л. идр. Международные отношения на Дальнем Востоке, (с конца XVI до . 1917 г.) кн. 1 -М., 1973.
«опроса в международной политике рубежа XIX—XX вв. Здесь в п очередь подчеркивался агрессивный характер политики США и Японии
ервую
ІНИИ в
Маньчжурии. Политика России оценивалась как ответ на экспансию других держав в Китае109. Академик АЛ. Нарочницкий110 в своей работе утверждал, что Япония в это время стремилась к оккупации Южной Маньчжурии и потому «толкала царизм к аналогичным действиям в Северной Маньчжурии» . Главный интерес России в этот период, по мнению автора, заключался в том, чтобы не позволить западным странам и Японии усилиться в Китае и на сопредельных территориях.
В 1980-х гг. продолжалось изучение места Монголии в российско-китайских взаимосвязях. В 1983 г. по этой теме была опубликована солидная монография; созданная коллективом авторов . В рамках рассматриваемой проблемы нам может быть интересен в ней лишь, очень небольшой' блок материалов, касающихся вопроса борьбы монголов за независимость и происходивших в этой связи российско-китайских переговоров. Оценивая русско-китайскую декларацию 1913 г. о Монголии, авторы отмечали, что «царская Россия и Китайская республика стремились добиться осуществления взаимовыгодных целей и решить монгольский вопрос за спиной самих монголов» "3 . То есть историки продолжали развивать позицию И.Я. Златкина, отстаивая точку зрения о захватническом характере политики царской России в Монголии.
Применительно к историографии 1980-х гг. необходимо отметить опубликованный в 1987 г. сборник статей"'1. Там в работе Г.С. Каретиной11"1
109 Речь идет о 1911-1913 гг.- периоде СиньхайскоЙ революции.
110 Нарочницкий А. Л. Агрессия европейских держав и США на Дальнем Востоке в 1860-1895 гг. М., 1956.
С. 135.
'" В действптелыюсти есть основания считать, что дело обстояло иначе. В решениях Особых Совещаний Совета министров в 1910 и 1911 гг. был четко намечен курс на при соединена Северной Маньчжурии к России, в том числе если Япония согласится на оккупацию Южной Маньчжурии. Это убедительно доказал ЕЛ. Белов, используя недавно рассекреченные документы по этому вопросу в своей работе «России и Монголия».
12 История Монгольской Народной Республики- М., 1983. шТамже.-С272.
"' Становление codстско-китайских отношений. - М.,1987.
115 Карстина Г.С. Установление дипломатических отношений между СССР и Китаем // Становление советско-китайских отношений. — М.,1987. С. 53.
равнопр
данном регионе, что являлось прямым следствием вступления' России' в империалистическую стадию развития. Цель, которую преследовала Советская Россия на Дальнем Востоке, также была бесспорна для исследователей - установление мирных, основанных на равноправии отношений с Китаем.
— Объективность научных обобщений и выводов советских исследователей заметно снижалась из-за выраженного давления со стороны-официальной идеологии.
Общероссийский кризис 1990-х гг. не мог не отразиться на синологии вообще и на исследованиях но истории международной деятельности России на Дальнем Востоке в частности. В этот период главным* образом продолжалась разработка намеченных ранее тем. Не касаясь новых проблем и не делая крупных обобщений, историки конца XX века широко вводили в научный оборот новые факты. Это в полной мере относится к статье Г.И. Романова и Ю.М. Ращупкина117 и к работе В.Г. Дацышсна118. Последний подробно остановился на различных аспектах политики России,* в этом регионе, воссоздал детальную картину происходивших событий, но не сделал каких-либо существенных выводов.
В", работах Г.Н. Песковой"' и А.И. Картуновой1"0 на основе новых материалов АВПРФ рассмотрены советско-китайские отношения1 в 1920-х гг., дана оценка позиции Москвы по вопросу владения КВЖД, представлены точки зрения-на эту проблему Г.В. Чичерина и Л.М. Карахана.
Детальному изучению начиная с середины, 1990-х гг. подверглись русско-монгольские контакты в различные периоды и разных сферах. В>этой
17 Романов Г.И., Ращупкин М. Урянхайский край в военной полігліке России (конец XIX — начало XX вв.)// Взаимоотношения народов России, Сибири и стран Востока: история и современность.Вторая международная научно-практическая конференция. 11—14 августа 1997. — М. - Иркутск-Тэгу, 1997. С. 85. 118 Дацышеп В.Г. Очерки истории российско-китайской границы во второй половине XIX XX вв. — Кызыл, 2000.
"'Пескова Г.Н. Становление дипломатических отношений между Советской Россией н Китаем, 1917-1924 гт.// Новая и новейшая история (далее - ННИ). ~ М., 1997. №ї4. С. 105-134.
,2 Картунова А.И. Китайский вопрос в переписке Г.В. Чичерина и Л.М. Карахина, 1924-1926 ггМ Там же. 1998.№6.С.З-18.
і России с Ки
была предпринята попытка сопоставления царской и советской политики в отношении Китая. Небольшой, но емкий и интересный обзор советско-китайских торговых связей был сделан в статье Г.Н. Романовой . Главная* ее идея заключалась в том, что экономические отношения России с Китаем благотворно влияли на развитие обеих стран.
Итак, оценивая советскую историографию внешней политики России на Дальнем Востоке применительно к нашей работе, отметим следующее.
- Активно продолжавшийся после 1917 г. сбор источников и
тщательная разработка отдельных локальных сюжетов, создали ситуацию,
когда все более или менее значительные события были достаточно подробно
изучены или как минимум затронуты историками.
Со второй половины 1950-х гг. в советской историографии'начался новый, весьма плодотворный этап в изучении истории международных отношений на Дальнем Востоке, характерной чертой которого явилась возросшая емкость и глубина выводов. Это стало возможно и потому, что ученые работали в рамках единой марксистской методологии. Активно происходило изучение различных аспектов русско-китайского взаимодействия: приграничный и монгольский вопросы, проблема КВЖД и т.д. В отношении царской дипломатии была подмечена ее сложность и неоднозначность, необходимость действовать в условиях давления со стороны других держав.
Вместе с тем историки не пытались выйти за рамки определенных сложившихся в 1920-х гг. стереотипов. Самый очевидный из них -захватнический характер царской политики на Дальнем Востоке. Если попытаться обобщить весь историографический материал с точки зрения вопроса о мотивах, которыми руководствовалась российская* внешняя политика в этот период, то вывод очевиден — большая часть авторов считает таким мотивом стремление как можно больше расширить свое влияние в
1,6 Романова Г.Н. Советско-китайские экономические отношения на Дальнем Востоке (1917-1949) // Там же. С. 91.
связи, в первую очередь следует упомянуть монографию Е.А. Белова|21. Ученый широко использовал ранее недоступные документы из различных архивов России (ЛВПРИ, ГАРФ). Это позволило ему полно и подробно обрисовать процесс российско-монгольского взаимодействия по различным направлениям: экономические связи, военные, дипломатические контакты. Е.А. Белов, в отличие от своих предшественников, уже не давал каких-либо негативных оценок российской деятельности в Халхе до 1917 г. В то же время собранный им материал позволил сделать выводы о непростом пути формирования монгольской политики царской дипломатии и в значительной степени помог нам осмыслить политику России в отношении Монголии.
Очень заметным явлением в изучении русско-монгольских связей стал
вышедший в 2001 г. сборник статей ш . Российские и монгольские
Ж Г4 ^^
исследователи попытались дать новую периодизацию двусторонних
отношений, проанализировать российское влияние на монгольскую революцию 1921 г., показать роль и место России в решении урянхайского вопроса, охарактеризовать российско-монгольское сотрудничество в военной области т. Особенно примечательно, что, используя ранее неизвестные
факты из монгольских архивов, историки остались верны утверждению о том, что сотрудничество двух государств было взаимовыгодным, даже несмотря на некоторые разногласия между ними.
Еще один современный исследователь - В. Молодяков и4 на обширном материале из японских архивов рассмотрел противостояние Японии и России в Маньчжурии, подробно осветил причины выбора той или иной линии в политике России, оценил действия Японии в рассматриваемом регионе как основной двигатель российской политики.
1:1 Белов Е.А. Россия и Монголия. М., 1999.
22 Россия и Монголия: новый взгляд на историю взаимоотношений в XX веке. - \1., 2001.
23 Хишигт H. Монголо-российское сотрудничество в военной области (1911-1916); Грайворонскии B.B.
Новые подходы к изучению российско-монгольских отношений в XX веке; Дамдинсурэн С. Монгольская
революция 1921 года и российский фактор // Там же.
2А Молодяков В. Россия и Япония: рельсы гудят. Железнодорожный узел российско-японских отношений (1891-1945).-М., 2006. '
М. Крюков в своей статье уделил внимание очень узкому, интересному сюжету советско-китайских отношений — поездке в Москву
;:
1920 г. китайского министра Чжан Сылиня, а также «Обращениям» правительства РСФСР к народу Китая 1919—1920 гг. " Схожий круг вопросов автор поднял в книге «Улица Мольера, 29», где им был подробно проанализирован широкий перечень ранее не вводившихся в научный оборот документов первых лет работы советской дипломатии126. В данном контексте примечательно то, что историк отметил неоднозначность процесса формирования дальневосточной политики Советской России.
В 90-х гг. XX века весьма значительным событием в историографии нашей проблемы стал новый, опубликованный в 1996 г., труд B.C. Мясникова "' . В отличие от своих предшествующих работ, здесь автор рассмотрел российско-китайские отношения на большом хронологическом промежутке: с момента их зарождения фактически до настоящего времени. Он исследовал одну, но наиболее проблемную область взаимодействия — территориальное размежевание. Мы не будем повторяться, характеризуя положительные стороны данной работы . Отметим только, во-первых, что автор в своих исследованиях применил идеи как формационного, так и цивилизационного подходов, а во-вторых, рассматривая проблему размежевания и в царский и в советский периоды, он не пытался их сравнивать, а лишь указал на мирный характер этого процесса.
. «С' іеол
духе идеологии революционного интернационализма, которая предполагала
Попытку обозначить интересы российской политики в Китае предпринял в своей работе, опубликованной в 1997 г. А.Ю; Сидоров129. Он сделал акцент на отличиях во внешней политике советской и царской России. «Советская политика в Китае, — пишет историк, — формировалась в
125 Крюков М. Была лн миссия Чжан Сылиня в Москву «странным эпизодом» совете ко-китайских
отношений начала 20-х годов? // Проблемы Дальнего Востока.. 1997. №6. С.95-109; 1998. №1. СЛОб-116.
126 Его же. Улица Мольера, 29. Секретная миссия полковника Попова (документальная повесть). - М., 2000.
С. 212.
127 Мясников B.C. Договорными статьями утвердили. Дипломатическая история русско-китайской границы.
XV1I-XXbb.-M.,1996.
I2S Принципиально они те же самые, что и в его трудах 1960-1980-х гг.
ш Сидоров А.Ю. Внешняя поліггика советской России на Дальнем Востоке (1917-1922 гг.). - М., 1997.
российской эмиграции в Китае. Несмотря на заявленные хронологические рамки (первая половина XX в.), исследовательница подробно осветила период начала строительства КВЖД (1896-1903 гг.): дала оценки позиции России в Маньчжурии в царский и советский периоды; заявила, правда вскользь, о схожести интересов царской и советской России в этом регионе. Для нас в данной работе примечательно то, что Н.Е. Аблова, в отличие от А.Ю. Сидорова, рассматривая строительство и дальнейшую эксплуатацию КВЖД, оценивала ее как способ реализации российских национальных интересов, применительно как к царскому, так и к советскому периоду.
Итак, в постсоветской историографии продолжилось изучение политики царской и советской России на Дальнем Востоке по> тем же направлениям, которые были обозначены историками' в предшествующий период, но, в связи с определенным методологическим кризисом В' отечественной исторической науке, акцент был сделан на использование новых источников. Перечень вопросов, поднимаемых авторами на рубеже XX—XXI вв., в основном остался прежним. Появились материалы. и но более мелким, не затрагиваемым ранее, сюжетам советско-китайских отношений. Это позволило к началу XXI в. накопить большой фактологический материал, связанный с рассматриваемой в диссертации проблематикой. Работы в это время. приобрели в большей степени описательный^ а не оценочный характер. Вместе с тем историки отошли от негативных оценок деятельности царских министров в отношении Китая. С другой стороны, появился ряд работ, в которых историки затрагивали вопрос об отстаивании большевиками на Дальнем Востоке как национальных (обеспечение безопасности границ, сохранение баланса сил в регионе), так и интернациональных интересов. Однако серьезной попытки осмыслить это еще не предпринималось.
Переходя к обзору зарубежной историографии российско-китайских отношений, стоит отметить, что по степени внимания, которое западные ученые уделяют различным направлениям внешних контактов царской и
приоритет задач китайской революции по сравнению с традиционными интересами России»130. Иными словами, автор утверждает, что до 1917 г. в. дальневосточной политике российского государства отстаивались сугубо национальные интересы, а после - революционные и интернациональные. Не вступая здесь в заочную полемику с А.Ю. Сидоровым, отметим лишь, что имеется ряд фактов, не вписывающихся в предложенную данным автором концепцию.
Несмотря на то, что в 1990-х годах наметился некоторый спад в области теоретических разработок по исследуемой теме, в начале XXI в. появились - работы, авторы которых стремились по-новому осмыслить обширные материалы> истории российско-китайских отношений. Заметным явлением в изучении этой проблемы стал новый, изданный в 1999т., труд А.Д. Воскресенского131. При том что монография снабжена внушительным списком источников, она страдает отсутствием достаточных ссылок на факты, а также обилием теоретических умозаключений. В отличие от последней работы историка B.C. Мясникова, где автор ратовал за совместное применение формационного и цивилизационного подходов, А.Д. Воскресенский, похоже, полностью отказался от учения о формациях и построил свое исследование на концепции многофакторного развития. Историк указал на то, что и в царский, и в советский периоды руководство России стремилось соблюсти баланс сил на дальневосточных рубежах. То есть, по мнению ученого, главный интерес, который преследовала отечественная дипломатия на всем протяжении контактов с Китаем, заключался в сохранении стабильности в регионе и мирном
сосуществовании
.
ичие от А.Д. Воскресенского, историк Н.Е. Аблова132 затронула предельно конкретный, хотя и многоплановый аспект российско-китайских отношеий. Она рассмотрела проблему КВЖД через призму деятельности
130 Там же. -С. 132.
131 Воскресенский А- Д. Россия и Китай: теория и история межгосударственных отношений. -М., 1999.
32 Аблова Н.Е. КВЖД и российская эмиграция в Китае. Международные и политические аспекты истории (первая половина XX века). - M., 2005.
советской России, непосредственно за темой отношений России с Западом идут отношения России с Китаем.
Очезидно, что- дипломаты западных стран внимательно следили. за действиями России на Дальнем Востоке, справедливо видя в ней своего главного конкурента в отношениях с Китаем. Это наложило известный отпечаток и на взгляды западных историков. Однако при анализе их работ трудно придерживаться какой-либо схемы, выделять тенденции и характерные черты. В своем обзоре остановимся на наиболее значительных трудах.
Так, В.В. Велогби133 в книге, изданной в 1927 г., пытаясь выявить причины, по которым Советской России и Китаю долгое время не удавалось установить дипломатические отношения, в качестве одной, из. главных причин назвал неопределенное положение КВЖД и Монголии. Любопытно сопоставить точку зрения В.В. Велогби и мнения- отечественных исследователей на вопрос о причинах, по которым процесс установления дипломатических отношений между советской' Россией и Китаем шел' столь долго и грудно. Отвечая на него, В.В. Велогби, а вслед за. ним и другие западные исследователи делали акцент на существовании разногласий между Москвой и Пекином, в то время как отечественные историки подчеркивали наличие внутренних противоречий в самом Китае и деструктивное влияние иностранных держав.
Исследователь советско-китайских отношений 1920-х гг. А. Уайтинг в своей монографии все успехи советской дипломатии и политики Коминтерна объяснял только гениальностью политической стратегии' В.И. Ленина, талантами советских политиков, работавших в Китае. При этом на основании всех фактов, которые автор добросовестно собрал из советских источников, он последовательно провел тезис о неискренней и непоследовательной политике СССР в отношении Китая.
" Willouehby VVcstcl W. Foreign rights and interests in China. -L.. 1927. 134 Whiting A.S. Soviet policies in China 1917-1924.-N-Y., 192S.
Наряду с трудами, где исследуются узкоспециальные проблемы, в западной историографии есть работы, касающиеся общих вопросов российско-китайских отношений. Так, в работе В. Юнга пристальное внимание уделено столкновениям иностранных держав в Маньчжурии. (При этом еще в конце 1920-х гг. историк отмечал, что в первых своих декларациях большевики отказывались от КВЖД.)
Обпгирный материал по общей истории стран Центральной и Восточной Азии в связи с территориальными и демографическими проблемами содержат работы американского востоковеда Оуэна Латтимора . Однако применительно к рассмотрению нашей темы его замечания носят очень общий и обтекаемый характер.
Среди западноевропейских исследователей следует выделить тех, кто,
Место Внешней Монголии в дальневосточной политике царского правительства
В связи с выше изложенными обстоятельствами особо следует отметить соглашение РСФСР с Монголией 5 ноября 1921 г.28 Хотя вопрос о международно-правовом статусе Урги в нем был обойден, официальное признание Москвой Внешней Монголии как субъекта международного права, зафиксированное соглашением, стало необходимой основой в борьбе за признание ее независимости. Важность этого соглашения заключалась и в том, что оно возвращало России функцию патроната Халхи и гаранта ее будущих свобод.
Несомненно, важнейшим источником для данного исследования явилось Соглашение об общих принципах для урегулирования вопросов между СССР и Китайской Республикой от 31 мая 1924 г.29 Оно стало итогом многолетней кропотливой работы советских дипломатов в процессе признания Китаем Советской России. В нем нашли отражение узловые противоречия двусторонних отношений: проблема КВЖД, монгольский вопрос. Здесь было зафиксировано то положение, которого советская Россия смогла добиться к середине 1920-х гг. на Дальнем Востоке. Данный документ позволяет сравнить результат, достигнутый большевиками, с результатами деятельности царских министров. Кроме того, следует подчеркнуть, что договор стал первым равноправным соглашением Китая с другой державой.
При анализе этих материалов становится очевидным, чего реально добилась царская и советская дипломатия в отношениях с Китаем, насколько результат соответствовал проводимой политике и преследуемым целям.
Ко второй подгруппе можно отнести соглашения, затрагивающие конкретные области двусторонних контактов России с Китаем.
Значительная часть этих материалов - соглашения по регулированию взаимоотношений на территории КВЖД. Они позволяют детально представителей Советской респуолики с представителями Синьцзянской провинции в Китае в г. Кульдже35, получившее название Илийский протокол, по которому учреждались советское и илийское агентства для решения торговых и дипломатических вопросов. Протокол свидетельствует о том, что политика Советов в отношении Китая была достаточно гибкой. И даже до подписания официального договора с Пекином в 1924 г. Москва с целью развития экономических связей, а возможно, и стремясь восстановить прежний механизм «посредничества», пыталась устанавливать отношения с отдельными провинциями соседнего государства.
Источники данной группы фиксируют положение, реально существовавшее в двусторонних отношениях. Они показывают, чего удалось и не удалось добиться дипломатам в ходе длительных переговоров.
Наличие во второй подгруппе меньшего количества документов по советскому периоду, на наш взгляд, связано со следующими причинами. К началу XX века основные проблемы двухсторонних российско-китайских отношений были решены, а решения должным образом оформлены. Большевикам же многие вопросы приходилось решать фактически с «чистого листа», в связи с чем частные моменты в первые годы их власти не затрагивались.
Вторая группа источников —российская официальная документация делопроизводственного характера. Эта группа документов весьма многочисленна и чрезвычайно важна, поскольку с их помощью можно проследить, как менялись позиции России по тому или иному вопросу, проникнуть во внутренний процесс выработки и принятия решения. Материалы этой группы также следует разделить на несколько частей.
Переписка центральных органов власти со своими представителями на приграничных территориях. рассмотреть направления, по которым развивались отношения в этом регионе: судебно-правовое, территориальное, торгово-экономическое и военное . Так, например. Положение о введении общественного управления в полосе отчуждения КВЖД от 16 декабря 1906 г. закрепляло передачу части хозяйственных полномочий Общества КВЖД в общественное управление31. По договору от 17 августа 1907 г. О порядке отчуждения земель в провинции Хэйлунцзян для нужд КВЖД происходил пересмотр вопроса о территориях, переданных ранее в пользование КВЖД, в пользу китайских властей" 2. Экономические сюжеты, затрагиваются, в частности, в Соглашении относительно эксплуатации телеграфных линий КВЖД, по которому Общество продавало Китаю свои телеграфные линии, расположенные вне полосы отчуждения33. Российско-китайское предварительное соглашение об организации и введении общественных управлений» в полосе отчуждения КВЖД» от 27 апреля 1909 г. расширяло круг полномочий китайских властей в вопросах общественного управления в полосе отчуждения34. При-анализе данных документов можно проследить, как на практике решался вопрос об отстаивании сторонами собственных интересов. По ним отчетливо видно, что российская сторона считала первостепенным, а в чем была готова уступить для достижения более значимых целей.
Наличие подобных соглашений в период с начала постройки КВЖД и до событий 1917 г. даёт возможность проследить динамику российско-китайских отношений практически по всем направлениям.
Политика царского правительства в урегулировании приграничных споров
Концессионный договор был невыгоден Империи Цин: постройка российской железной дороги на территории Маньчжурии означала начало прямого экономического вторжения России в эту китайскую провинцию, и при случае эту дорогу можно было использовать для оккупации Маньчжурии. Но создание российско-китайского оборонительного союза было вызвано объективными причинами: во-первых, закрепление Японии в Корее создавало реальную угрозу как российским владениям, так и Империи Цин, во-вторых, Великобритания, которая имела в Китае безусловное экономическое и политическое первенство, проявила бездействие во время Японо-китайской войны, чем косвенно поддержала Японию, а Россия поддержала Китай, правда, защищая свои интересы на Дальнем Востоке.
Таким образом, для России создались выгодные условия для. расширения её влияния на Китай: авторитет Великобритании подорван, появился общий для России и Империи Цин враг - Япония.
Осложнилось и внутреннее положение империи: в 1898—1899 гг. здесь началось восстание ихэтуанй , направленное против произвола иностранных держав, которое распространилось на провинции Шаньдун, Чжили, Шанси и Маньчжурию. В июне восставшие захватили Пекин и подвергли осаде дипломатические миссии. Заинтересованные державы решили- осуществить интервенцию в Китай, главным мотивом которой был страх потерять свои привилегии в регионе. Вооружённые контингенты послали Австро-Венгрия, Бельгия, Испания, США, Франция, Великобритания, Италия, Япония, Нидерланды и Россия. Командующим международной экспедиции
Великобритании и США против данного договора. Под давлением Россия предложила Империи Цин более смягчённый проект договора, однако Китай отверг и его: переговоры прекратились.
В этой ситуации наглядно был продемонстрирован один из традиционных принципов китайской внешней политики: использование одних варваров против других варваров для защиты своих интересов. И в целях своей защиты Цины поступались даже договоренностями с Россией. Что наглядно было продемонстрировано в ходе русско-японской войны 1904-1905 гг. Несмотря на условия договора с Москвой 1896 г. о взаимопомощи в случае военных действий с третьей стороной, Пекин принял решение держать нейтралитет9. Д.В. Гуляев выделил несколько причин такой политики. Во-первых, полная военная солидарность с одной из воюющих сторон могла привести к зависимости Китая от вероятного победителя. Во-вторых, в самом Китае отношение к русско-японской войне было неоднозначным. Если центральная власть избегала откровенных антироссийских выпадов, то местные власти, особенно чиновники в северо-восточных провинциях, открыто демонстрировали свои симпатии японской стороне13. Согласно Портсмутскому мирному договору, Россия была вынуждена уступить Японии Порт-Артур и свои владения на Ляодунском полуострове. Это было сделано без всяких предварительных консультаций с Пекином, что наглядно свидетельствовало о слабости и зависимости Пекина от западных стран.
В последующие шесть лет в Китае постепенно нарастала революционная ситуация, вылившаяся в Учанское восстание 1911 г., итогом которого стало свержение маньчжурской династии и установление республики во главе с президентом Юань Шикаем". Если последним указом вдовствующей императрицы Юань Шикаю передавали власть реакционеры и монархисты Севера, то из рук Нанкинского собрания генерал получил власть от конституционалистов и республиканцев Юга. Тем самым Юань Шикай выступил в роли объединителя Севера и Юга, гарантом единства Китая.
Сразу после падения монархии развернулась острейшая борьба за выбор столицы Китайской республики. Левые республиканцы выдвигали на эту роль Нанкин; Юань Шикай, его генералы и реакционеры севера отстаивали приоритет Пекина. В середине февраля 1912 г. Нанкинское собрание определило в качестве местопребывания центрального правительства и президента Нанкин. Юань Шикай организовал кампанию протеста против переезда правительства в Нанкин и после возникновения угрозы гражданской войны выиграл схватку за столицу. Южане потерпели поражение и при формировании первого республиканского правительства, где они получили лишь второстепенные посты. Все ключевые должности попали в руки верных сторонников Юань Шикая. Это не устраивало представителей революционного лагеря. Ситуация в стране обострялась очень быстро. 10 марта 1912 г. Нанкинское собрание приняло выработанную под руководством Сунь Ятсена Временную конституцию. Китай объявлялся парламентской республикой. Таким образом, левые республиканцы рассчитывали на предстоящих выборах получить большинство мест в парламенте и создать однопартийный ответственный кабинет министров из своих сторонников, после чего перенести столицу из Пекина в Нанкин, сделать парламент главной силой республики и закрепить эту победу буржуазной демократии в постоянной конституции. Для победы на выборах республиканцам нужна была массовая политическая партия. В августе 1912 г. в Пекине была создана «Национальная партия» (Гоминьдан). Ее рождение стало одной из предпосылок назревающей войны, которую южане быстро проиграли. Сунь Ятсен выну-ен был бежать в Японию. Юань Шикай пытался восстановить в стране монархию под своим руководством. Все попытки модернизировать политическое устройство страны, лавировать между интересами других государств, чтобы сохранить свою независимость не приводили к желаемым результатам.
Что касается российской стороны, то она достаточно умело использовала ослабление Китая в ходе внутренних и внешних катаклизмов, для распространения своего влиянии на Дальнем Востоке, добиваясь этого, в отличие от других держав, в основном дипломатическими, мирными методами.
Политика большевиков по налаживанию торговых контактов с Монголией
Торговля России с Синьцзяном, несмотря на давние контакты, активно стала развиваться лишь в начале нового века. В рассматриваемый период можно выделить два уровня российско-синьцзянских отношений: экономический и политический.
Экономическую политику государства нельзя назвать активной. Судя но некоторым фактам, российские внешнеторговые ведомства даже не всегда могли предметно сформулировать экономические интересы России в Синьцзяне на текущий момент. Здесь обеспокоенность выражали скорее местные российские власти, и если какие-то государственные меры осуществлялись, то только благодаря им. Однако, положение меняется по мере того, как нарастает антирусская политика Пекина. На регион обращают все больше внимания, и экономические по своему содержанию вопросы успешно решает внешнеполитическое ведомство. Таким образом, политический интерес здесь встал впереди экономического. Однако обеспечение политического преимущества сыграло свою положительную роль и для купечества. То есть приоритетными были интересы не частника, а государства, с другой стороны, активностью государства были обеспечены права русских купцов в Синьцзяне. а) Политика царского правительства в урегулировании приграничных споров К концу XIX в. территориальное расширение Российской империи; ко торая присоединила Сибирь, Дальний Восток, Казахстан198 и расширение
Сложная ситуация во второй половине XIX века складывалась вокруг пограничного района, расположенного на левом берегу Амура в районе устья реки Зеи. Маньчжурский Зазейский район появился благодаря Айгун-скому договору 1858 г., в котором говорилось: «Находящихся на левом берегу р. Амура от Зеи на юг, до деревни Хормолдзинь, маньчжурских жителей оставить вечно на прежних местах жительства, под ведение Маньчжурского правительства, с тем, чтобы русские жители обид и притеснений им не делали»203. В середине 1890-х гг. местными российскими властями было решено обложить китайских подданных в Зазейском районе поземельным налогом и прочими сборами наравне с соседними крестьянами, на том основании, что по Айгунскому договору вся земля по левому берегу Амура была уступлена России и что в 1 статье договора «вовсе не упоминается о даурах и китайцах, проживавших в числе 10 000 в означенной местности, вместе с маньчжурами»204.
В итоге здесь было поставлено два казачьих пограничных поста, а китайскую администрацию перестали пускать в маньчжурские поселения. В свою очередь новый Айгунский фудутун Шоу Шань в 1899 г. попытался восстановить полный контроль над Зазейским районом. Под предлогом зашиты от хунхузов он добился от русских властей согласия на отправку своего отряда на левый берег Амура и вооружение зазейских маньчжур. В декабре он даже выставил на левом, российском, берегу Амура, китайский военный пост в 35 солдат при офицерах из состава регулярных войск. Российский пограничный комиссар предложил в течение трех дней вывести китайский отряд с русского берега. Не дождавшись ответа, китайцев разоружили и передали властям Айгуна.
Проблема на этом решена не была. Летом 1900 г. во время восстания ихэтуаней китайские войска обстреляли Благовещенск и русские суда на переправились через Амур и захватили плацдарм в Зазейском рай- империи Цин, присоединившей Корею, Монголию, Восточный Туркестан привели к сближению двух государств и к демаркации границы.
К этому времени территориальное разграничение между Россией и Китаем было практически завершено. В 1858 г. был подписан Ашунский договор. По нему стороны соглашались на то, что левый берег Амура от реки Аргуня до устья признавался собственностью России, а Уссурийский край от впадения Уссури в Амур до моря оставался в совместном владении впредь дс определения границы. Плавание по Амуру, Сунгари и Уссури было разрешено только российским и китайским судам и запрещено всем остальным200. В 1860 г. был подписан Пекинский договор, уточнявший статьи Айгунского договора201. Санкт-Петербургский договор 1881 г.20 передавал Илийский край (за исключением небольшого района) Китаю, уточнял іраницу в районе озера Зайсан и реки Черный Иртыш, определял порядок решения-гюграничных вопросов.
Инициатором размежевания была российская сторона, которая стремилась тем самым максимально решить все вопросы, связанные с определением границ. Между двумя империями возникла самая длинная в мире граница, общей протяженностью более 10 тысяч км. Примечательно, что она проходила по территориям, которые изначально не были землями собственно русских или ханьцев. Поэтому вопрос о ее правовой основе был весьма непростым. Юридически обе стороны подписывали соответствующие договоры и другие документы относительно прохождения линии рубежа. В то же время между ними назревали споры и относительно характера договоров о границе, и относительно самого территориального размежевания. На рубеже ХІХ-ХХ вв. существовало несколько проблем, которые и создавали приграничный вопрос.
В результате боев с повстанцами и стихийных погромов не только тайские войска были разбиты, но сожжены все китайские селения, а не-ус олько ки-u а не ус певшие бежать жители были убиты. После окончания военных действий подданным Цинской империи было запрещено возвращаться в этот район, являвшийся по договору российской территорией, а земли были отданы Амурскому казачьему войску. 17 ноября 1901 г. вышел приказ: «Государь Император высочайше повелеть соизволил: предоставить Амурскому войску для заселения землю, находящуюся на левом берегу Амура от реки Зеи на юг до бывшей деревни Хормолдзинь, называвшейся Зазейским районом, во воздаяние за доблестную службу казаков этого войска при защите Приамурского края и в последующем столкновении с кигайцами»2(Ь. Так проблема Зазейского края была решена путем ликвидации самого края.
Эта ситуация продемонстрировала возможность достаточно вольного толкования сторонами договоров, что и создавало проблему, чреватую конфликтными ситуациями в будущем206. Этот эпизод показал и то, что китайская сторона достаточно ревностно относилась к приграничному вопросу и старалась всевозможными методами разрешить его в свою пользу. Россия же, проявив жесткость в этом вопросе, отстояла свои права. В то же время российская сторона стремилась решать проблему размежевания мирным путем, не ущемляя при этом собственные интересы.
Отношение советского правительства к проблеме р азмежевания с Китаем
7 декабря 1921 г. Г. В. Чичерин телеграфировал советскому представителю, что отношения с Южным Китаем надо строить «в такой осторожной форме, которая не помешала бы нашей политике в Пекине»7. То есть, большевики принципиально были готовы пойти на сотрудничество с проимпериалисгическим правительством Пекина, для достижения желаемых целей. Однако пекинское правительство и глава Северо-Восточного Китая Чжан Цзолин, испытывая нажим иностранных держав, проводили недружественную политику по отношению к РСФСР и /ДВР. Таким образом, большевики вынуждены были вести переговоры и с Севером и Югом Китая. Об официальных переговорах речь могла идти только с Пекинским правительством этих условиях советские руководители и направляли миссии в столицу Китая, и параллельно поддерживали связь со своими союзниками на юге. Так, в переписке А.А. Иоффе с Сунь Ятсеном обсуждался вопрос о создании единого китайского правительства. Летом 1922 г. и в РСФСР и в ДВР стали делать ставку на союз Сунь Ятсена с генералом У Пейфу. А.А. Иоффе предлагал генералу для усиления позиций Китая параллельно русско-японской конференции созвать русско-китайскую конференцию в Чанчуне. В то же время, в ответ на просьбы Сунь Ятсена прервать отношения с милитаристами Севера, А.А; Иоффе 15 сентября 1922 г. писал ему, что отказ от переговоров с пекинским правительством был бы непонятен широким народным массам Китая, требующим вступления в переговоры с Россией и создания нормальных дипломатических отношений, и произвел бы плохое впечатление.
Отмечая колебания и маневры Сунь Ятсена, А.А. Иоффе телеграфировал 17 октября 1922 г. Г.В. Чичерину, что такая его позиция приведет к необходимости использовать китайских милитаристов одного против другого. Для достижения успеха в этой борьбе было решено помочь Сунь Ятсену создать боеспособную армию.
Наблюдая за событиями в Советской России, лидер Юга понимал, что только сплоченная и дисциплинированная партия может проводить эффективные реформы. Он серьезно взялся за реорганизацию своей партии. В октябре 1923 г. по его приглашению в Гуаньчжоу прибыли советские военные специалисты и политические советники во главе с М.М. Бородиным. Группа военных специалистов в конце 1923 г. состояла из 5 человек, к июню следующего года она выросла до 25 человек (то есть выросла в 5 раз!). В Гуаньчжоу были созданы районные и низовые комитеты Гоминьдана, а в больших городах бюро исполкома партии. Осенью-зимой 1923 г. стали открываться партийные районные конференции.
На I съезде Гоминьдана (январь 1924 г.) Чан Кайши выдвинул идею создания военной школы для подготовки партийных военных кадров. Уже зимой в Вампу при участии советских специалистов была создана военная школа, официальные занятия в которой начались 1 мая. В мае же Сунь Ятсен назначил Чан Кайши ее начальником. Тогда же в Гуаньчжоу прибыли первые советские военные советники (под видом добровольцев из уволенных в запас военных, нанятых гуаньчжоуским правительством) во главе с главным военным советником П.А. Павловым.
Все расходы, связанные с организацией и работой школы Москва взяла на себя (до начала 1926 г.). Боеприпасы поставлялись из Советского Союза, учебным процессом руководили советские военные советники, которые первое время главную работу вели по своим планам, но держались в тени. Постепенно они добились права непосредственно показывать офицерам и курсантам, как нужно выполнять то или иное упражнение. Среди всех советских военных советников в Китае выделялся В.К. Блюхер, с именем которого были связаны все победы НРА (Национально-революционная армия Гоминьда-на), одержанные с октября 1924 до августа 1927 гг. . В школе преподавались следующие военные предметы: тактика, топография, артиллерия, военно-инженерное дело и связь. По этим предметам готовили командиров батальо-ов, рот и взводов. Со второго набора было открыто отделение для подготовки младших офицеров. Их готовили по сокращенной программе. Школьная программа обучения включала не только военные предметы. Преподавались три принципа Сунь Ятсена и ряд политических дисциплин, то есть была организована политическая работа среди солдат и офицеров. В создании новой армии немалую роль сыграла КПК (коммунистическая партия Китая).
Помимо этого, члены партии Гоминьдан и китайские коммунисты направлялись на учебу в Советскую Россию в учебные заведения Коминтерна, где их обучали и военной тактике. Советская Россия распространяла среди коммунистов.в Китае идею подготовки пролетарской революции и обеспечивала деньгами КПК. Все это видели в Гоминьдане, которому, чтобы не уйти с политической сцены и не потерять влияния в обществе, приходилось создавать новую систему органов власти и армию при поддержке Москвы.
Во многом благодаря деятельности советских (политических и военных) советников, а так же финансовой и военной советской помощи (в конце сентября 1924 г. Москва предоставила Гоминьдану заем в 10 млн. юаней и начала поставлять оружие) в политическую борьбу в Китае включилась армия Гоминьдана. Л.М. Карахан (замнаркома иностранных дел) в письме от 1 марта 1925 г. отмечал: «Части, руководимые нашими инструкторами, и в особенности школа Вампу и гоминьданская дивизия, шли впереди и в самых трудных местах наносили удар по противнику. Из Гуаньчжоу на имягоминь-данского ЦИК получаются телеграммы, где все кантонские генералы выражают восхищение и восторг нашими комсоветами и в особенности Блюхером» .