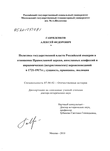Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Исторические предпосылки внешнеполитической стратегии империи Цин 22
1.1 Традиционное видение «мирового порядка» и место в нем Китая 22
1.2. Китаецентризм как основа внешнеполитической стратегии в эпоху Цин 34
Глава 2. «Вассалитет» в структуре китайской системы международных отношений в эпоху Цин 54
2.1 Формы и методы вассалитета 54
2.2. Внешняя политика Цин по отношению к «внутренним вассалам» (Халха, Тибет) 66
2.3. Внешняя политика Цин по отношению к «внешним вассалам» (Вьетнам) 90
Глава 3. Российско-цинские отношения в их историческом развитии 101
3.1. Возникновение отношений России и империи Цин. Нерчинский договор 101
3.2. Развитие отношений России и империи Цин. Кяхтинский период 116
3.3. Стабилизация российско-китайских отношений 130 .
Заключение 154
Библиография 158
Приложение 1 174
Приложение 2 175
- Китаецентризм как основа внешнеполитической стратегии в эпоху Цин
- Внешняя политика Цин по отношению к «внутренним вассалам» (Халха, Тибет)
- Возникновение отношений России и империи Цин. Нерчинский договор
- Развитие отношений России и империи Цин. Кяхтинский период
Введение к работе
Современный Китай - держава мирового значения; постоянный член Совета Безопасности ООН, член клуба ядерных держав и крупнейшее по размерам населения государство. Китай упрочился в качестве великой страны благодаря своим значительным экономическим успехам и устойчиво высоким темпам экономического развития.
Наряду с этими достижениями, Китай играет важную роль на региональном уровне. В Восточной Азии он фактически претендует на доминирующие позиции в региональной экономике, ускоренными темпами развивая и укрепляя свои торгово-экономические связи с соседями - от Южной Кореи до стран членов АСЕАН. Курс на сближение и последовательную интеграцию в региональные структуры, взятый правительством КНР в начале 90-х годов, создает условия для претворения в жизнь установки патриархов «китайских реформ» по превращению Китая к середине XXI века в регионального лидера и ведущую мировую державу.
В этом процессе явно просматривается взаимосвязь между геоэкономикой и геополитикой. Претендуя на роль лидера в регионе, Китай, заинтересован в формировании единого пространства со странами региона по многим направлениям - от торговли до выработки основных направлений региональной политики. Интеграция в единую систему хозяйствования откроет для китайских производителей новые рынки, новые каналы продвижения своих товаров на перспективные рынки Европы, России, арабского мира, американского континента, Африки. Насколько Китай сможет справиться с поставленными задачами и достичь намеченных целей покажет будущее.
В этой связи можно предположить, что в решении своих геополитических задач Китай не может быть в стороне от формирования правил и условий общемирового и регионального развития, и, вероятнее всего, он будет действовать по многовековой политической и дипломатической традиции. Живучесть традиций прошлого, следование им составляют основу китайского (преимущественно, конфуцианского) менталитета. В этом аспекте обращение к
такой парадигме внешней политики Китая как «китаецентризм» в эпоху империи Цин (1644-1911 гг.) несомненно, представляет большой научный интерес.
Для современной Российской Федерации изучение данной эпохи и её внешней политики актуально уже в силу того, что именно на этот период приходится возникновение регулярных дипломатических отношений Российской империи и Китая, взлеты и определенные просчеты. Советские, да и российские ученые проделали большую работу по исследованию «китаецентризма» , но в современных условиях возникает целый ряд вопросов по исследуемой нами теме и имеющих важное практической значение. Таким образом, обращение к изучению китаецентризма актуально в силу складывающейся геополитической картины мира, прогнозирования сценариев будущего развития российско-китайских отношений, и, наконец, для дальнейшего изучения этой внешнеполитической стратегемы в российской исторической науке.
Степень научной разработанности проблемы. В китаеведении в целом сравнительно слабо изучен период конца XVII—XVIII в. Много «белых пятен» остается и в изучении внешней политики империи Цин, хотя в 70-е годы прошлого века в советской исторической науке отмечался всплеск интереса к данной тематике. В первую очередь, надо отметить выпуск документальной серии «Русско-китайские отношения в XVII-XX вв.», позволившей воссоздать историю взаимоотношений двух великих государств, что было продиктовано как научными, так и практическими интересами. К настоящему времени вышло 5 томов по истории отношений в XVII-XIX вв. и один том в 2-х частях по
истории советско-китайских отношений в 1937-1945 гг. Они содержат свыше 2500 документов. В перспективе предполагается издание еще 10 томов. Необходимо подчеркнуть, что все тома этой серии написаны на документальной основе, которую составляют первоисточники, хранящиеся в крупнейших отечественных архивах - Архиве внешней политики Российской империи и Архиве внешней политики России МИД РФ, Российском государственном архиве древних актов, Архиве президента РФ, а также материалы из архивов Китая и Монголии.
Эти документы воссоздают особенности развития взаимоотношений двух стран-соседей и позволяют, с одной стороны, проследить гибкость и последовательность российской дипломатии в отстаивании государственных интересов, направленных на постепенную корректировку китаецентристских взглядов цинских властей во взаимоотношениях с Россией, а с другой, -высветить и проанализировать основы традиционной китайской дипломатии. В целом, документальная серия «Русско-китайские отношения» является уникальным изданием, не имеющим аналогов в мировом китаеведении. В КНР два тома по истории отношений в XVII в. были переведены на китайский язык и изданы в объеме трехтомника.3
В этот же период появились коллективные труды и монографии советских ученых Демидовой Н.Ф., Мясникова B.C., Нарочницкого А.Л., Ермаченко И.С, Мартынова А.С. и др.. в которых дается общая оценка основных направлений цинской внешней политики (расценивалась как агрессивная), анализируются взаимоотношения Китая с другими странами с позиций
классового подхода. Так, А. Л. Нарочницкий, отмечая завоевательный характер цинской политики XVII—XVIII вв. в отношении сопредельных стран, связывал это с общей реакционностью всей внутренней и внешней политики Цинской империи на данном этапе. 4 С. Л. Тихвинский рассматривал агрессивность цинского правительства в тесной связи с его реакционной национальной политикой внутри Китая.5 Господствовавшие в советский период в методологии марксистские догмы обусловили слабость многих публикаций по истории русско-китайских отношений. Труды многих исследователей подпадали под влияние политических соображений. В 1960-х, -1980-х годах отечественные исследователи проводили идею об агрессивном характере цинской политики в отношении соседних стран, что опровергалось китайскими авторами6. Впоследствии российские исследователи отмечали несоответствие между азиатским (китайским) и западным (российским) традиционными подходами к установлению равноправных дипломатических отношений.7
Причины «агрессивной» политики империи Цин в XVII—XVIII вв. исследовались еще в 30-е годы. Так, в монографии, посвященной проникновению Цинов в Центральную Азию, Л. И. Думан впервые обратил внимание на внутриполитические факторы, толкавшие цинскую правящую верхушку на путь экспансии.8 Помимо простого стремления к ограблению соседних народов, обычно сопутствующего завоевательным планам в эпоху феодализма, автор акцентировал внимание на социальной, классовой стороне этого вопроса и пришел к заключению, что «на путях внешней экспансии цинское правительство пыталось найти выход из обострившихся классовых противоречий в империи, отвлечь внимание масс от антифеодальной
борьбы».
В советской литературе также исследовалась проблема преемственности и традиции в китайской внешней политике и дипломатии. Отмечалось, что традиционность была характерна для цинской политики. Так, в этой связи Нарочницкий А.Л. указывал на следующие субъективно-психологические факторы: 1) стремление китайской стороны всячески унизить иноземных послов во время их представления двору; 2) толкование подносившихся иноземными послами подарков как «дани» цинскому императору; 3) унизительность фразеологии китайских дипломатических документов для тех лиц, кому они адресовались. Говоря об общетеоретической доктрине построения внешних отношений с китайской империей (в том числе и империей Цин), А. Л. Нарочницкий отмечал, что «такой подход был рассчитан на внушение китайскому народу и соседним странам преувеличенного понятия о могуществе цинской монархии», то есть вновь исследование сущности внешней политики Цинов ограничивалось психологическими факторами.9
Анализу внешней политики империи Цин посвящены также работы Мясникова B.C.10 В них он всесторонне проанализировал средневековую китайскую дипломатию, определил ее особенности и содержание.
Средневековая китайская дипломатия, по мнению B.C. Мясникова, была основана на философско-политических воззрениях древнего Китая, главным образом на конфуцианстве, а стратегические идеи и методы она черпала из древнекитайского военного искусства. Её особенностью был исключительно разработанный дипломатический церемониал, направленный на утверждение превосходства Китая над всеми, с кем он когда-либо вступал в контакты. Таким образом, (конфуцианский менталитет, военное искусство и тщательно
разработанный дипломатический ритуал и определяли, согласно Мясникову B.C., специфику средневековой китайской дипломатии по сравнению с дипломатией любой другой феодальной империи. Безусловно, это интересное соображение, но вряд ли оно в должной мере отражает всю сущность китайской дипломатии, хотя нам представляется чрезвычайно интересным используемый Мясниковым термин «стратегемность китайской дипломатии».11 В своем автореферате на соискание ученой степени кандидата исторических наук Мясников B.C. отмечал, что «стратагемность- сумма целенаправленных дипломатических и военных мероприятий, рассчитанных на реализацию долговременного стратегического плана, обеспечивающего решение кардинальных задач внешней политики государства» п. Причем, в 1977 году доминантой китайской (цинской) дипломатии Мясников B.C. считал теорию военного искусства. Позднее работе Мясников B.C. подчеркивал, что в настоящее время созданы предпосылки для рассмотрения цинской
дипломатии не просто как составной части «общей истории международных отношений, но и как естественного компонента всемирно-исторического процесса межцивилизационной конвергенции».13 Мы также считаем, что новые смыслы понятия «стратагемность» открываются в рамках цивилизационного подхода. Исследователи внешнеполитических доктрин древнего и средневекового Китая отмечали две традиционные модели общения Китая с внешним миром: китаецентристскую модель и модель договорных отношений. Причем, признавая наличие этих двух моделей, они по-разному и зачастую противоречиво оценивают их иерархию. Одни рассматривают договорную модель как «деформацию» китаецентристской схемы «мироустройства»14, в то время как другие считают «договорную» традицию совершенно независимой.15
Китаецентристская модель представляется адекватной при анализе политических контактов старого Китая с более слабыми государствами, но как только Китай сам оказывался в более слабой позиции, он прибегал к договорной модели 16. Китаецентристская модель затрудняла объяснение ситуации, когда Китай был вынужден признавать суверенитет другого государства 17.
Естественно, применение таких стратагем было обусловлено определенными характеристиками более чем 200-летней российской политики в отношении Китая, главное в которой состояло в том, что российская дипломатия подчеркивала равенство отношений с Китаем и почти никогда (вплоть до наступления XX века) не применяла методы прямого военного насилия на китайской территории, в то время как такие методы широко использовались другими державами.18
Сущность традиционных методов китайской дипломатии применительно к империи Мин была проанализирована в монографии А. А. Бокщанина19 Разбирая конкретные проявления «вассалитета» иноземных стран по отношению к Китаю на примере стран Южных морей (обмен посольствами, присылка «дани», титулование местных властителей, предписание пользоваться китайским летосчислением и т. д.), он пришел к выводу, что такой «вассалитет», не подкрепленный другими политическими акциями, был чисто номинальным и его нельзя считать какой-либо формой политической зависимости. В заключение автор отмечал то значение, которое имели традиционные воззрения и методы китайской дипломатии минского времени для последующего периода Цин. Работа Бокщанина А.А. интересна для нас тем, что позволяет проследить эволюцию китаецентризма в историческом срезе.
Отдельные аспекты внешней политики империи Цин рассматривались в коллективном труде «Новая история Китая» под редакцией С. Л. Тихвинского, статьях, а также в книге Г. В. Мелихова «Маньчжуры на Северо-Востоке. XVII век» и в монографии В. С. Кузнецова «Экономическая политика цинского правительства в Синьцзяне в первой половине XIX в.»20. Однако, ни в одной из названных работ внешняя политика империи Цин не была основным предметом исследования. Кроме монографии Корсуна В.А.21, подход которого к проблеме китаецентризма скорее политологический, до сих пор нет монографических трудов, посвященных интересующей нас проблеме.
Историки Китайской Народной Республики в недалеком прошлом давали оценку внешней политики империи Цин, близкую к оценке советских авторов. Это относится к коллективному труду «Очерки истории Китая» под редакцией Шан Юэ22. Политика маньчжурских властителей и правящей группировки в начале XVII в. (до перенесения центра империи Цин в Китай в 1644 г.) в отношении соседних племен и народов характеризуется здесь как захватническая. Говоря же о причинах агрессивной политики цинского государства после 1644 г., авторы отмечают, что завоевательные походы были предприняты маньчжурами «в целях расширения территории, упрочения своего господства, а также физического уничтожения китайцев и отвлечения их внимания от антиманьчжурской борьбы».
Увлечение китайских ученых марксизмом привело к тому, что они отводили большое место изучению проблем крестьянства и рабочих восстаний, а также роли «национальных меньшинств», то есть некитайских народов (монголов, тибетцев, уйгуров и др.), населяющих территорию страны. Во второй половине XX в. группа историков пользовалась «Правдивыми записками династии Цин» для
создания «Наброска истории династии Цин» (Цин ши гао)23, концепция которой полностью совпадает с концепцией официальных анналов. Однако, в течение последних десятилетий китайские ученые вынуждены были пересмотреть собственную историю. Так, например, на страницах китайских изданий стали появляться оценки цинской политики, прямо противоположные отмеченной выше. Характерна в этом отношении статья Лю Да-няня «Лунь Канси» («О • Канси»).24 По мнению автора, завоевательная политика Цинской империи была лишь «стабилизацией границ», а сами войны велись с целью «покончить с феодальной раздробленностью». Расширение территории империи Цин, по мнению Лю Да-няня, отвечало интересам народных масс, а политическое единство в рамках империи— интересам малых национальностей. Автор не согласен с теми, кто рассматривает политику Канси в отношении соседних народов «как территориальную экспансию или покорение других национальностей».
Аналогичную позицию заняли и некоторые другие китайские ученые. • Например, Фань Вэнь-лань в ходе дискуссии, опубликованной в журнале «Синь цзяньшэ», отметил,что применительно к китайской внешней политике: «Нельзя расширение территории считать агрессией, а слабые и гибнущие национальности объявлять объектами агрессии... Действия сильной нации или государства, направленные на расширение своей территории, соответствуют законам общественного развития своего времени». За последние годы в газетах и журналах КНР было помещено немало статей, в которых авторы рассматривают историю Китая, в частности историю нового времени, с позиций китаецентризма. В отличие от китайских коллег, российские исследователи обычно полагают, что китайские ученые испытывают трудности в применении методологических подходов и в своих исследованиях опираются на официальную китайскую версию событий (а при изучении русско-китайских отношений - на официальную императорскую историографию), тем самым
сохраняя тот же подход к истории, который практиковался в Китае с древних времен25. В соответствии с этим подходом, из первоисточников отбираются только те факты, которые соответствуют «ядру» концепции, а все другие материалы отвергаются, либо игнорируются как ненадежные 26. Согласно российской исторической школе, в силу подобного подхода китайская историография склонна к предвзятости. В то же время аналогичную критику можно высказать и в адрес отечественных трудов о русско-китайских отношениях. Невзирая на осознание «китаецентристской» ориентации китайских источников и, как правило, успешной реконструкции исторических фактов, «подправленных» в официальных китайских хрониках или в официальной историографии, российским исследователям самим зачастую не удавалось правильно интерпретировать эти факты, ибо они не могли устоять перед искушением объяснять все события с точки зрения государственных интересов России. Поэтому в России и в Китае были разработаны диаметрально противоположные концепции, которые нуждаются в уточнении.
Западная историческая наука овладевала новыми методами, которые стремилась применить к истории Китая. Первыми стали переводы оригинальных исследований Станисласа Жюльена и Эдуара Шаванна. В последние годы появились переводы ряда работ, близких по тематике, но носящих в основном популяризаторский характер. Среди них работа Жака Жерне, почетного профессора Коллеж де Франс- «Древний Китай» 27 и работа Дени Ломбара, сотрудника Французского Института Дальнего Востока-«Императорский Китай».28
Отдельные моменты, характеризующие те или иные черты внешней политики империи Цин в отношении соседних стран, отмечались американскими историками. Так, например, О. Латтимор подчеркивал стремление цинской империи не допустить создания вблизи своих границ сколько-нибудь крупного
государственного или племенного объединения. Для этого маньчжуры прибегали к тактике натравливания одних народов и племен на другие, а затем выступали в роли арбитра, что облегчало вмешательство в их дела.29
Наиболее обстоятельно в интересующем нас аспекте проблемой китаецентризма занимался американский исследователь Дж.Фэрбенк. 30 Совместно с Дэн Сы-юем он опубликовал исследование о даннической системе при Цинах. В данной работе характеризуются общие принципы внешних отношений империи Цин, ставится вопрос о традиционности китайской политики этого периода в связи с внешними связями Китая в предшествующее, минское время (XIV—XVII вв.), рассматривались проблемы внешней торговли империи Цин, отношения между империей и европейскими державами.31
Нам представляется, что термин «данническая система» не достаточно строго передает сущность сложившихся внешних отношений Китая. Сами авторы исследования отмечают, что формальности, связанные с этой системой, далеко не ограничивались поднесением «дани». Поэтому более правильно было бы говорить о системе номинального вассалитета (Бокщанин А.) многих зарубежных стран, на основе которой китайские средневековые политики пытались строить свои внешние отношения .
Интересующие нас проблемы были вновь затронуты в сборнике «Китайский мировой порядок. Традиционные китайские международные-отношения», под редакцией Дж. Фэрбэнка и монографии самого Дж Фэрбенка «Внешняя политика Китая в исторической перспективе». В названных работах он отмечает, что во многовековой практике отношения между Китаем и окружающим миром сложились в определенную систему, которую можно
сопоставить с системой международных отношений, выросшей в Европе. Отличительной чертой в китайской системе международных отношений автор называет концепцию китаецентризма, и считает, что идеология
«китаецентризма» связана с иерархичностью и неэгалитарностью самого китайского общества в древности и средневековье. В этом свете «китаецентризм» является попыткой китайских политиков и мыслителей распространить привычные для них отношения, сложившиеся внутри страны, на весь мир.
Нам представляется, что Дж. Фэрбэнк не совсем прав, утверждая, что «китайский порядок мира» мог существовать лишь для китайской стороны. Разве можно отрицать что «китайский порядок мира» существовал объективно для многих стран-соседей Китая и достаточно длительное время, и это вовсе не «фантом» больного воображения китайцев!
Но для нас наиболее близко и интересно утверждение Дж. Фэрбэнка, что китайская точка зрения на окружающие страны «была обоснована, культурными мотивами и ориентирована в политические». По нашему мнению, будучи ориентирована в политику, эта теория (китаецентризм) обосновывалась культурными факторами в гораздо большей степени, челі какими-либо другими.
Ранний период российско-китайских отношений до 1792 г. - достаточно хорошо описан на основе русских источников. Еще в начале XX века были опубликованы труды Дж. Бэддли (Baddlcy) «Россия, Монголия и Китай»32 и Г. Коэна (Cahcn) «История русско-китайских отношений»33, которые базируются в основном на русских источниках и давно устарели. Две выдающиеся, но совершенно различные по толкованию работы по периоду Нерчинского договора-опубликованы на английском и на русском языках; их авторы - Дж. Себес (Sebes,
1962)34 и B.C. Мясников (1980; 1985; 1987, работа B.C. Мясникова написана на русском, но переведена также на английский и французский языки). К западной классике по этому же периоду можно отнести книгу М. Мэнколла (Mancall) «Россия и Китай»35, где рассматриваются отношения в 1618-1728 гг.; это исследование, пожалуй, является уникальным в плане тщательной проработки русских и китайских источников на основе историко-структурного метода. Однако даже этот классический труд уже устарел, ибо Мэнколл не имел возможности учесть опубликованные в России архивные материалы (не говоря уже о самих архивах), а также несколько опубликованных в России фундаментальных исследований, основанных на материалах отечественных архивов - в частности, работы В.А. Александрова36 и B.C. Мясникова (1980, 1985) и др. российских авторов. Более поздняя книга М. Мэнколла «Китай в Центре»37 посвящена внешней политике Китая, но во многом данная работа устарела. Что касается периода после 1792 г., то краткий очерк отношений можно найти в главе «Русско-китайские отношения, 1800-1862» в Кэмбриджской истории современного Китая» (Cambridge History of Modern China, 1979)38. При рассмотрении отношений между двумя странами автор этой главы Дж. Флетчер (Fletcher) уделяет основное внимание поведению китайской стороны. В книге, Р. Квэстид (Quested) «Экспансия России в Восточной Азии», 39 которая охватывает период 1857-1860 годов, детально описаны миссии Г.Н. Потанина и В.А. Перовского в Китай, причем позиция российской стороны представлена более подробно, чем в главе Флетчера. В основу книги положены западные источники, но автор также использовала некоторые русские и китайские публикации. Русские архивы оказались для Квестид полностью недоступными. Что касается российских работ, следует вновь сослаться на упомянутую выше
классическую монографию академика РАН В.С.Мясникова (1980, 1985, 1987), опубликованную на русском, английском и французском языках. В этой книге рассматриваются первые контакты между Россией и Китаем в XVII веке и дается анализ основных позиций России в отношении «русской политики» цинского Китая.40 Пожалуй, среди всех работ по данной теме, опубликованных в России в 1970-е - 1980-е годы, монография B.C. Мясникова была наиболее значительной. По этому поводу английская исследовательница Р. Квестид последовательно занимавшаяся российско-китайскими отношениями на протяжении всей своей академической деятельности, справедливо указывала, что: «История советско-китайских отношений еще не изучена в той степени, какой она заслуживает. Хотя в настоящее время опубликовано - главным образом, на китайском языке - значительное количество общих очерков российско-китайских отношений, фундаментальная научная история этих отношений, подкрепленная всеми доступными источниками, еще не написана. Более того, по сей день существует сравнительно мало подробных монографических трудов по конкретным периодам на европейских языках».41 С тех пор, как были написаны эти слова, прошло почти сорок лет, и за это время был выпущен целый ряд книг на Западе и в Китае, меньше - в России. Однако, невзирая на существующие в литературе объяснения структурного характера, в концептуальном понимании как российско-китайских отношений, так и истории русско-китайских отношений мало что изменилось. Существующая литература, по данному предмету характеризуется двумя общими чертами: эти книги либо слишком конкретны, т.е. охватывают конкретный «узкий» период или «узкий» вопрос, либо написаны слишком популярно, но при этом не охватывают российско-китайских отношений в целом. К настоящему времени не появилось ни одного комплексного аналитического исследования отношений между данными двумя странами. В то же время, особенно после распада Советского Союза, в
научный оборот были введены новые китайские источники и различные отечественные архивные материалы. Все это, как представляется, подспудно предполагает необходимость выработки в данной сфере нового комплексного концептуального подхода к проблеме изучения Китая и России, что с одной стороны требует многогранного обобщения фактов и данных, а с другой - более высокого уровня концептуализации.
В данной работе предпринята попытка восполнить этот пробел и аналитически рассмотреть принципы внешней политики империи Цин. В последние годы некоторые из исследователей (Воскресенский и др.42) пытаются реализовать комплексный подход, выявляя, прежде всего, «устойчивые» группы детерминант, образующих более или менее неизменный набор внутренних объективных и субъективных факторов, которые существуют в обеих странах в течение длительного периода времени. Именно эти факторы оказывают влияние на характер равновесия в международных отношениях. Они имеют важное значение, ибо их анализ помогает установить соотношение между культурными, историческими и прочими факторами, т.е. в анализ вводятся культурный и исторический аспекты. Здесь намечается переход на новый уровень анализа внешней политики империи Цин- цивилизационный. В определенной мере реализации этого подхода к изучению внешней политики империи Цин посвящена работа Забровской Л.В. «Китайский миропорядок в Азии и формирование межгосударственных границ». Однако, для автора данного исследования приоритетной была проблема формирования межгосударственных границ. Более близка нам по методологии работа Корсуна В.А. «Китайский мировой порядок: трансформация внешнеполитической парадигмы»., хотя и в ней недостаточно полно реализованы новые подходы к анализу внешней политики империи Цин, в ней преобладает политологический подход. Мы считаем, что методологически было бы более правильным говорить не просто
«о системе факторов» , а о цивилизационном подходе, который и объединяет все факторы в устойчивую целостность. Именно с позиций подобного подхода можно понять и объяснить устойчивость китаецентризма, его способность к трансформации.
Из диссертационных исследований, защищенных в последние годы, по близкой к нашей тематике можно назвать работу Григорьевой Е. А43. «Российско-китайские отношения второй половины XVII - первой четверти XVIII века в контексте развития внешнеполитической доктрины империи Цин», а также Новгородской Н.Ю. 44 «Становление и модификация дипломатического стереотипа русского государства и империи Цин в XVII-сер. XIX вв.» . Как видно из названий тематика упомянутых выше работ лишь частично совпадает с выбранной нами.
Источники. В диссертации использованы как опубликованные документы и материалы, так и неопубликованные. Несомненную ценность представляют материалы из Архива внешней политики России (АВПР), Ксилографические издания Цинских сводов, хранящиеся в синологической библиотеке РАН Российской Федерации. Опубликованные источники, используемые в диссертации, можно разделить на следующие группы: 1) официальные документы и материалы; 2) периодические издания; 3) материалы интернет-изданий; 4) статистические и другие справочные материалы.
Основным и важнейшим источником явилась «Да Цин личао шилу» («Хроника правления всех государей великой [династии] Цин»), которую часто называют просто «Шилу». Источник состоит из 1220 томов (цэ), насчитывающих 4510 глав (цзюаней). В каждом цзюане приблизительно 100 двойных (китайских) страниц. Это крупнейшее по объему материала собрание хроникальных записей и официальных документов с 1583 по 1912 г. имеет
внутреннее подразделение по периодам правления отдельных маньчжуро-цинских правителей. 45 «Шилу» легла в основу «Цин ши гао» («Черновая история династии Цин») и ряда других источников. В синологической библиотеке РАН хранятся ксилографические издания цинских сводов.
В качестве источника была использована периодическая печать на русском, китайском, западноевропейских языках, в которой представлен большой объем информации по изучаемой теме. Использованную в диссертации периодическую печать можно разделить на издающуюся в КНР; в Европе, в США и в РФ. Среди периодических изданий, издаваемых на китайском языке, следует отметить такие известные издания, как Guoji Wenti Yanjiu, Lishi Yanjiu, Xiandai Guoji Guanxi, Shijie Zhishi. Среди европейских и американских изданий необходимо выделить Asian Survey, China Quarterly, Central Asian Survey, International Affairs, Orbis, World Politics. Большое значение при написании диссертации имела и информация из журналов на русском языке, среди которых «Вопросы истории», «Проблемы Дальнего Востока», «Восток», «Мировая экономика и международные отношения», «Отечественная история», «Новая и новейшая история».
Важным источником явились материалы Интернет-изданий Автор использовал тексты договоров, записки, статьи российских и западных ученых на исследуемую тему, выложенные, на сайтах http://polit.mezhdunarodnik.ru. www.china.by.nu http://zaimka.ru. http://asiapacific.narod.ru.
http://muse.ihu.edu/iournals/ late imperial china/.www.sinica.edu.tw/ mingching/. http://vostok.amursu.ru/ net_sour/hist.htm.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в комплексном подходе к изучению стратегии и принципов внешней политики империи Цин, включающем анализ предпосылок, методов, потенциальных возможностей и конкретной истории китайской дипломатии на протяжении двух веков её истории. Комплексный подход предполагает рассмотрение важнейших принципов внешней политики Китая, в том числе
«китаецентризма», методами цивилизационного, а не только формационного анализа. В данном случае под «цивилизацией» мы понимаем качественное своеобразие взятых в единстве социально-экономических и культурологических характеристик того или иного общества, той или иной страны. Цивилизационный метод анализа исторических явлений представляет в отличие от формационного многомерное моделирование исторического процесса, и соответственно требует междисциплинарных комплексных исследований, что и определило комплексный характер нашего исследования. Именно в этом ключе можно понять устойчивость и жизнеспособность «китайской цивилизации».
Новизна исследования, его комплексность заключается также в том, что нами предпринята попытка обобщить отдельные результаты, предпринятые исследователями по проблемам отношений -«Китай-Халха», «Китай-Тибет», «Китай-Вьетнам», «Китай-Россия», выявить в них общие и особенные черты. Исследование базируется на широком круге источников. В работе также использована историческая литература, еще не нашедшая отражения в исторических исследованиях. Речь идет о ряде книг французских и англоязычных синологов.
Объект исследования -формирование и развитие внешней политики Китая в эпоху империи Цин, её освещение в западной и российской синологии. Хронологические рамки исследования были продиктованы его целями и задачами. Так как преимущественное внимание уделялось изучению реализации основных принципов внешней политики империи Цин, временные границы исследования- конец XVII первая половина XIX века, вплоть до разрешения Амурского вопроса. Именно в этот период Китай выступал как активный субъект внешней политики. Вторая половина ХГХ и начало XX века ознаменовались для Китая крахом империи и потерей суверенитета вследствие интервенции западных стран и «опиумных войн», а для российско-китайских отношений исчерпанием потенциала стратегии «китаецентризма» и перехода на новый этап взаимооотношений двух стран.
Предмет исследования - принципы и стратегия внешней политики Китая в . теоретическом и практическом воплощении во внешней политике империи Цин. Причем особенное внимание уделялось трансформации внешнеполитической стратегии в зависимости от исторических условий.
Цель исследования - выявление мировоззренческих оснований внешнеполитической стратегии Китая и её принципов в эпоху империи Цин, анализ эволюции стратегии «китаецентризма».
Исходя из этой цели были определены следующие задачи:
-рассмотреть взаимосвязь традиционного мировоззрения и принципов внешней политики Китая, историческое выделение «китаецентризма» как • стратегического принципа внешней политики;
-проанализировать «китаецентризм» как системное понятие во взаимосвязи с такими понятиями как «вассалитет», «данничество», ритуал;
-проследить такие формы и методы внешней политики империи Цин «как «отношение к внутренним вассалам» и «отношение к внешним вассалам»;
-показать эволюцию китаецентризма в историческом срезе на примере формирования международных отношений Китая и Халхи, Китая и Вьетнама, России и Китая;
-провести сравнительный анализ освещения знаковых событий российско- • китайских отношений в российской, китайской и западной синологии.
Методология исследования основывалась на принципах конкретного историзма, научной объективности, системности. Автор опирался на такие методы исторического познания как конкретно-исторический, сравнительно-исторический, культурологический, анализ ментальностеи, использование достижений смежных наук - философии, политологии, социологии.
В соответствии с целями и задачами работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и приложения.
Китаецентризм как основа внешнеполитической стратегии в эпоху Цин
Главный постулат китайской политологии: власть всегда и везде есть тайна, и тот, кто умеет обращаться с тайной, будет господином мира. Именно на этом постулате основаны два древних трактата- «Туй Гу-цзы » и «Сунь -цзы», посвященные основам китайской дипломатии.57
Великий китайский историк Сыма Цянь, живший в начале I века до н. э., в своем монументальном труде смог сообщить об авторе «Гуй Гу-цзы» лишь то, что он был «мужем эпохи Чжоу, скрывшимся в уединении». Отшельнический образ жизни не помешал обитателю Чертовой долины приобрести славу основоположника китайского искусства стратегии. Очень важно понятие «искусства горизонтальных и вертикальных союзов», которое встречается в тексте «Гуй Гу-цзы». В китайской традиции оно стало обозначать искусство дипломатии и политической стратегии в широком смысле слова. Гуй Гу-цзы слывет наставником знаменитых дипломатов и стратегов древности Су Циня и Чжан И, которые в последней трети III века до н. э. помогли правителю царства Цинь создать очень выгодные для него политические союзы с рядом царств — так называемые союзы «по горизонтали» и «по вертикали» (цзуп-хзп). В свое время дипломатические успехи Су Циня и Чжан И (активное использование союзов «по горизонтали» и «по вертикали») позволили циньским правителям разгромить поодиночке остальные государства и объединить под своей властью весь древний Китай
«Гуй Гу-цзы» всегда входил в число популярнейших книг в области военной и политической стратегии, хотя многие конфуцианцы критиковали отца китайской дипломатии за его беспринципность, равнодушие к моральным устоям общества и в особенности за то, что он учит «обманывать людей». Обвинения конфуцианских моралистов были явно несправедливы: никакая мораль не может отменить стратегического измерения в политике, ибо ни одно общество не может жить только формальными правилами. Достаточно вспомнить Макиавелли и его «Государя».
Даже поверхностное знакомство с трактатом «Гуй Гу-цзы» убеждает в том, что мы имеем дело с весьма сложной концепцией политики, которая, строго говоря, не имеет адекватных аналогов в западной политологической мысли. Привычные западные классификации политических систем с их понятиями «монархии», «демократии», «анархии» не работают применительно к китайской исторической и политической мысли.
Автор «Гуй Гу-цзы» разделяет общую посылку китайской политики: для него правитель есть величайший мудрец, который обладает недоступным простым смертным «сокровенно-утонченным», «опережающим» знанием. Невыразимость этого знания, его сакральность и недоступность формализации как раз и делает его в высшей степени практичным и эффективным.58
Гуй Гу-цзы, таким образом, на свой лад развивает традиционное для китайского менталитета, основанного на даосизме и конфуцианстве, представление о власти как действенном бездействии, или «недеянии». Собственно, власть потому и есть тайна, что она обладает наибольшей действенностью там, где как будто бездействует. По той же причине власть, так сказать, двухполюсна: правитель в китайской традиции немыслим без мудрого советника, ведающего собственно «делами правления». Отсюда и исключительно большое значение, придаваемое Гуй Гу-цзы искусству подспудно внушать государю нужное мнение, ибо политику-стратегу принадлежит область молчания, которое, не только в Китае, но вообще на Востоке рассматривалось как особая добродетель. 59 Тот же принцип воспроизводится и в самой структуре книги: ее композиция подчинена не внешнему порядку логического доказательства, а внутренней логике самого процесса, обусловленной естественным ходом событий (такой подход еще более заметен в главном военном каноне Китая — трактате «Сунь-цзы»). Традиционное деление трактата на три части («свитка») обозначает основные этапы этого процесса. В четырех главах первого «свитка» излагаются общие принципы стратегического поведения, восемь глав второго «свитка» посвящены способам применения этих принципов, а семь последних глав касаются конкретных приемов стратегического искусства.
Для того, чтобы со всей достоверностью уяснить для себя намерения и характер других людей, политик пользуется двумя дополняющими друг друга стратегиями: он прибегает к приему «открытия» партнера, побуждая его раскрыть свои заветные чувства и помыслы, но он может прибегнуть к стратегии «закрытия», то есть противодействия объявленным желаниям партнера, чтобы проверить его искренность. В целом же он ищет правильную меру в сочетаниях жесткости и мягкости, действий в обход («по кругу») или напрямик (по принципу «квадрата»), вражды и союза, взаимного сближения и отдаления. Самое же чередование, а в конечном счете и сосуществование в поведении человека тенденций к «открытости» и «закрытости», «жесткости» и «мягкости», «пустоты» и «наполненности», «противоборства» и «согласия» имеет корни в китайских учениях об устройстве мироздания и взаимодействии космических сил Инь и Ян.
Другим важным источником китайской дипломатии стал трактат Сунь Цзы «Искусство Войны». Сунь Цзы был военным теоретиком и удачливым полководцем Древнего Китая. Как следует из названия, основная тема трактата - ведение войны, однако при детальном его анализе можно увидеть, что в трактате очень полно раскрываются и принципы ведения переговоров, основы дипломатии, поведения в конфликтах.
Уникальность данного трактата состоит в том, что он описывает правила ведения конфликта в условиях многополярпого мира и не ставит во главу угла силовые методы. Сунь Цзы предпочитает маневр силе. Именно поэтому в своей работе основное внимание он уделяет рассуждениям о подготовке конфликта и его ведении. Конфликт нужно выигрывать до его начала. Искусство маневрирования, управление ресурсами, адекватная система принятия решений, тщательно взвешенные действия, умение ждать - вот какие факторы делают победу. Прямое столкновение (военное или дипломатическое) рассматривается Сунь Цзы именно как крайнее, менее удачное из всех возможных средство для разрешения конфликта, ибо это означает затрату большого количества ресурсов (ресурсная составляющая, наряду с маневром и потенциалом, является одной из главных тем трактата). Сунь Цзы предлагал покорять противника, не сражаясь и не принося ему чрезмерный вред.60 Очень интересно сравнить понятие войны у Сунь Цзы и у фон Клаузевица. Немецкий теоретик призывал вести войну до полного разрушения противника. В условиях жесткого биполярного мира (например, первая половина холодной войны) постоянно идет игра с «нулевой суммой», и данная мысль Клаузевица к ней подходит.
Внешняя политика Цин по отношению к «внутренним вассалам» (Халха, Тибет)
Изучение маньчжуро-монгольских отношений в XVII веке имеет важность при исследовании внешнеполитической концепции и методов ее претворения в жизнь правителями Цинской империи.
В конце правления китайской династии Мин (40-е годы XVII века) уже существовало деление Монголии на Внутреннюю (Нэй Мэнгу) и Внешнюю (Вай Мэнгу). Оно сохранилось и при начале правления маньчжурской династии. В основе его лежало определение местоположения тех или иных районов Монголии по отношению к пустыне Гоби. Земли к югу от Гоби носили название «Внутренняя Монголия», что соответствует принятому нами названию «Южная Монголия». Территории, расположенные севернее пустыни Гоби, назывались «Внешняя Монголия», что равнозначно понятию «Северная Монголия» 12.
До и после образования империи Цин (в 1644 году) отношения с монголами играли весьма важную роль в истории маньчжуров. Государство " маньчжуров возникло как военно-племенное объединение, которое поначалу развивалось и укреплялось за счет войн, захвата соседних племен, военных походов.
Маньчжуры усилились после завоевания княжеств Южной Монголии, так как использование южномонгольских войск в противостоянии с империей Мин облегчило им завоевание Китая. А включение Халхи (Северная Монголия) в состав Цинской империи стало важным успехом завоевательной политики маньчжурской династии Цин.
В начале XVII века Монголия занимала одну треть современного Северо- " Восточного Китая и находилась в состоянии феодальной раздробленности. Она делилась на две крупные, обособленные друг от друга части - на Южную (Внутреннюю) и Северную (Внешнюю) Монголию. Южная Монголия соответствовала современному автономному округу «Внутренняя Монголия» в КНР, а Северная Монголия - современной МНР.
К началу XVII века Южная Монголия была раздроблена на множество различных по величине и значению феодальных княжеств. Правители этих княжеств постоянно враждовали между собой и совершали частые набеги на кочевья своих соседей и на пограничные территории Китая.
Северная Монголия (Халха) распалась на семь самостоятельных владений, между правителями которых часто царили междоусобицы и раздоры. Что касается Южной Монголии, маньчжуры присоединили к себе эту территорию уже за 8 лет до образования империи Цин, в 1636 году . Во . взаимоотношениях маньчжурского государства с княжествами Южной Монголии ученые выделяют два важных этапа13: 1) первый этап характеризовался наличием относительно равноправных и независимых отношений между маньчжурским государственным объединением и соседними южномонгольскими княжествами. Весьма распространенной формой укрепления отношений в тот период было заключение брачных союзов между маньчжурской знатью и верхушкой монгольских феодалов. Этот этап завершился с началом походов маньчжурских войск против отдельных южномонгольских княжеств. 2) военные походы маньчжуров против одних южномонгольских княжеств и заключение военно-политических союзов с феодалами других, постепенная замена союзнических отношений вассальной зависимостью монгольских феодалов от маньчжурского правителя составляли содержание второго этапа. С падением Чахарского ханства (1635) процесс укрепления зависимости от маньчжурского государства ускорился, завершившись превращением населения Южной Монголии в подданных цинского императора. Маньчжурские правители, используя раздробленность Монголии и" отсутствие единства действий монгольских феодалов, к 1636 г. в результате военных походов и дипломатических интриг сумели овладеть Южной Монголией. После присоединения Южной Монголии к Цинской империи маньчжурские правители продолжали проводить политику натравливания и использования одних монгольских феодалов против других в своих интересах. На базе той же политики строились и отношения между маньчжурским государством и Северной Монголией. Северная Монголия (Халха) распадалась на семь самостоятельных владений и называлась «Халхаин долон хошун» («Семь халхаских хошунов»). Между халхаскими феодалами также царили раздоры и междоусобицы. Среди феодалов Халхи выделялись три наиболее могущественных— Тушэту-хан (Ту-се-ту хань), Дзасакту-хан (Чжа-са-кэ-ту хань) и Цэцэн-хан (Чэ-чзнь хань), которые к началу XVII в. подчинили себе остальных владетельных князей и сыграли важную роль в последующей истории Северной Монголии.14 Установление дипломатических отношений между маньчжурским государством и Северной Монголией (Халхой) относится к тому времени, когда под ударами завоевателей пало Чахарское ханство, последний оплот сопротивления маньчжурам в Южной Монголии. Халхаские феодалы не принимали участия в борьбе южномонгольских княжеств с маньчжурскими завоевателями15, что было вызвано крайней феодальной раздробленностью и Южной, и Северной Монголии. Укрепляя свою власть в присоединенных южномонгольских княжествах и совершая походы на китайскую территорию, маньчжурские власти в первые годы установления связей с Северной Монголией не препятствовали попыткам халхаских феодалов поддерживать мирные отношения с Цинской империей.
Возникновение отношений России и империи Цин. Нерчинский договор
Формирование отношений между Россией и Китаем как внешнеполитических началось достаточно поздно. При Минах официальные контакты Китая с русским государством, уже имевшим к XVII в. опыт посольских и торговых связей с различными странами Востока - Турцией, Крымским ханством, Персией, Индией и государствами Средней Азии, закончились практически ничем. Составленная в полном соответствии с нормами «дипломатии коутоу» грамота минского императора Чжу Ицзюня, посланная в 1619 г. русскому царю с томским казаком И. Петелиным, в силу языкового барьера не была прочитана в Посольском приказе при русском дворе вплоть до 1675 г.
Первые попытки установления отношений между Россией и Китаем предпринимались самостоятельно сибирскими властями в начале XVII века.
Методы освоения русским правительством вновь присоединенных земель в Забайкалье были те же, что и в остальной Сибири, - небольшие партии казаков приводили к «шерти» (присяга, клятва верности) местные племена, а затем закрепляли территории кочевий ясачных подданных путем строительства острогов. Форпостом русского продвижения на юг в этом районе был Енисейский острог, построенный еще в 1619 г. К 50-м годам границы русских владений распространились уже до Шилки, где в 1654 г. П. Бекетовым были построены Шильский и Ергенский остроги, к которым «прилегли Богдойского и Китайского и Мунгальского государств многие земли».
Неизменно находились в центре внимания правительства России и проблемы Приамурья, открытого и первично освоенного русским населением. Трудно было переоценить использование такого удобного водного пути, связывающего Даурию с русскими землями на побережье Тихого океана, каким являлся Амур. Необходимость использования Амура для удовлетворения различных русских интересов все более возрастала с укреплением влияния России на Тихоокеанском побережье в Азии и в Русской Америке. Однако, внешнеполитическая обстановка побуждала отложить решение этого вопроса на длительное время.
Главную роль в общественно-политической и экономической жизни русского Дальнего Востока стали играть такие административные центры края, как Нерчинск и Якутск. В 1689 году Нерчинск был объявлен городом и вступил в XVIII век процветающим торговым центром Дальнего Востока, сосредоточившим в своих руках все нити транзитной русско-китайской торговли. Наряду с Нерчинском и его крупным очагом земледелия в Забайкалье, на юго-востоке дальнейшее развитие получил и Якутск как административный и хозяйственный центр всего северо-востока Сибири. Якутск занимал чрезвычайно важное экономическое положение, находясь в центре богатого ценными мехами, моржовыми клыками, мамонтовой костью, скотом, рыбой и различны полезными ископаемыми края, на пересечении важнейших водных путей и сухопутных дорог и трактов.
Каждый власть имущий в Сибири также отправлял для торговли и «своих прихотей» в Китай послов, совершавших зачастую проступки, несовместимые с китайскими воззрениями. В 1727 г. Владиславич-Рагузинский С.Л. отмечал, что в пекинском архиве записано приездов из России «после сочиненного при Нерчинску мира» более 50 послов и посланников, а Государственной Всероссийской Иностранной Коллегии известно, что более четырех публичных экспедиций в Китай не было.1
Русские избежали названия «варвары», в цинских исторических сочинениях их именуют, как правило, по названию их страны — олосы или элосы. Контакты с цинским двором русские посланцы вынуждены были начать как бы с нуля, не подозревая о том, что они уже включены в «систему вассалитета» на правах очередного «данника». Ведала их приемом, как и в целом делами «вассалов» (вплоть до 1858 г.), Палата по управлению вассалами (Лифаньюань), учрежденная маньчжурами еще до вторжения в Китай в 1638 г.
Можно отметить довольно «теплое» отношение чиновников Лифаньюаня в 1655 г. к главе первого, прибывшего в Пекин после воцарения там цинской династии, русского торгового каравана П. Ярыжкина. Хотя этот купец и не имел при себе царской грамоты, удостоверяющей его посольские полномочия, он согласился выполнить в полном объеме обряд «коутоу» и поэтому удостоился роскошного пира, вручения ему ответных даров и императорского указа русскому царю. Содержание этого указа весьма характерно: «Ваша страна находится далеко на северо-западе; от Вас никто никогда не приходил в Китай. Теперь Вы обратились к нашей цивилизации и прислали посла, представившего в качестве дани произведения Вашей страны. Мы весьма одобряем это. Мы специально награждаем Вас милостивыми подарками и поручаем незамедлительно отпустить с ними Вашего посла. [Эти подарки] выражают наше возвышенное желание всегда милостиво принимать чужестранцев. С благодарностью, получив дары, навечно будьте преданны и послушны, дабы ответить на милость и любовь, выраженные к Вам». Из приведенного текста видно, что Россия уже была жестко вмонтирована в «даннические отношения», осознавали это в России или нет, и ее ранг «вассала» нашел свое не только протокольное, но и институциональное оформление со стороны Китая.
Развитие отношений России и империи Цин. Кяхтинский период
По мнению отечественных экспертов , в правовом плане Нерчинский договор не соответствует ни современным, ни прошлым нормам международного права. Географические определения в тексте договора носят расплывчатый, схематичный и слишком общий характер; стороны не обменялись ни какими-либо картами региона, ни инструментами ратификации; тексты на двух языках не идентичны друг другу, а статьи допускают различную интерпретацию. С исторической точки зрения эти моменты имеют важное значение. Однако, с точки зрения многофакторного равновесия, гораздо более важным представляется тот факт, что данный договор фактически зафиксировал возможность флуктуации границ в зависимости от конкретной эволюции других (главным образом, военных и экономических) факторов в рамках многофакторного равновесия.
Как известно, территориальные статьи Нерчинского договора значительно ущемляли интересы России. Наиболее удобный выход в Тихий океан непосредственно с базовой, освоенной и развитой территории Нерчинского и Албазинского уездов был для страны в результате этого договора временно закрыт.
Потеря этого удобнейшего водного пути поставила в русско-китайских отношениях так называемый амурский вопрос; вместе с тем она значительно задержала дальнейшее освоение русскими людьми побережья Охотского моря, острова Сахалин и других прилегающих к побережью островов, а равно и непосредственные контакты с Японией и ее народом, хотя, конечно, не могла остановить этого естественного процесса. Обычный для XVII века путь сюда с запада был закрыт; оставался лишь более протяженный и труднопроходимый путь к русским владениям на Тихом океане с севера и северо-востока — со стороны Якутска и Охотска.
Изучение русско-китайских отношений представляет собой трудную задачу в данной сфере исследований. Вопрос о характере отношений непосредственно связан с вопросом о равенстве или неравенстве старых русско-китайских договоров, которые определили нынешние границы между Россией и Китаем и новыми независимыми государствами Средней Азии. Как отмечалось исследователями, китайские ученые (например, Бу Пин, Сюэ Сяньтянь, Ли Цзягу) исходят из того, что все российско-китайские договора - за исключением самых первых, подписанных в период китайского господства в регионе (Нерчинский и Буринский) - были направлены против Китая и навязаны «агрессивным» российским государством. Подобный подход безоговорочно опровергается большинством российских ученых (например, С.Л. Тихвинским, Н.С Мясниковым, Е.Л. Беспрозванных и другими)15.
С точки зрения российских исследователей, китайские труды представляют государственную политику России слишком упрощенно, подчеркивая ее насильственный характер и не учитывая того факта, что внешняя политика России в большинстве случаев находилась под сильным влиянием внешних факторов и внутриполитической борьбы. Внешняя политика маньчжурских императоров в китайских исследованиях, напротив, идеализируется и представляется как противовес «агрессивной политике» российского государ ства. Тем не менее, идея о неравноправных отношениях, при всей своей упрощенности, основана на исторических фактах. На протяжении определенных периодов Китай действительно был гораздо более слабым государством, чем Россия, из чего, однако, отнюдь не следует, что интерпретации, в основу которых заложены элементы истины, не поддаются критике. Следовательно, нельзя утверждать, что интерпретация, предложенная одной школой (например, российской) есть абсолютная истина, а другой (китайской) - должна полностью отвергаться, или наоборот. Подобная аргументация безусловно страдала бы односторонностью..
Следует отметить, что китайские ученые единодушно квалифицируют экономические (хозяйственные) аспекты деятельности русских поселенцев на Дальнем Востоке и в Сибири как «агрессию русского царизма» и «аннексию исконно китайских земель», в то время как с российской точки зрения ни эти земли, ни их население никогда целиком и полностью не входили в традиционные пределы Китайской империи. В России также бытует мнение, подкрепляемое российскими и китайскими источниками, что до освоения русскими данные земли не принадлежали ни одной из двух стран (Мясников).16 Следовательно, все русско-китайские договора - за исключением Нерчинского договора, подписанного под давлением Цинской империи, рассматриваются китайскими историками как «неравные» и «насильственно навязанные» Китаю. Российские исследователи не разделяют подобную точку зрения. В обеих странах в основе исторического анализа лежала спорная посылка, что ассимиляция малых местных народностей была процессом благотворным и ненасильственным. Обвинения в колонизаторстве либо игнорировались, либо переадресовывались другой стороне, а значение Китая и России в мировой истории искусственно завышалось. Фактически исторические события подчинялись представлениям о «желаемой» истории каждой страны. Подобная идеологическая «зашоренность» весьма осложнила, если не заблокировала, поиск нейтральной или сбалансированной интерпретации истории российско-китайских отношений.
Таким образом, история российско-китайских отношений с момента возникновения первых официальных контактов до начала XX века делится на ряд этапов. В ходе первого - в 1649-1689 гг. Российская империя пыталась добиваться одновременно двух целей сразу - расширять свое политическое влияние на Дальнем Востоке и добиваться экономических выгод в торговых отношениях с Поднебесной. Цинская же империя в Китае, имевшая самодостаточную экономику, в торговле не только с россиянами, но и с другими европейскими нациями не особенно нуждалась, и тем самым могла спекулировать их устремленностью к получению торговых выгод от нее ради достижения политических целей.