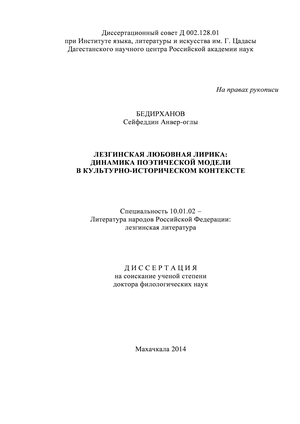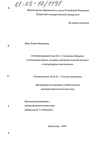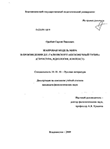Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. Лезгинская любовная лирика классической эпохи (ХVII– XVIII вв.) 25
1.1. Художественный образ в поэтической концепции классической эпохи .30
1.2. Художественный образ классики и современное эстетическое мировоззрение 80
ГЛАВА II. Ашугская любовная лирика XVII–XIX вв 86
2.1. Образ возлюбленной в эстетической доктрине ашугского искусства .88
2.2. Художественный образ в ашугской поэтической концепции XIX в 130
2.3. Любовная лирика Е. Эмина (опыт эстетического осмысления) .143
ГЛАВА III. Лезгинская любовная лирика советского периода .171
3.1. Лирический субъект в контексте становления новой социалистической культуры 171
3.2. Творческое «я» в любовной лирике 60–80 гг. XX в .193
ГЛАВА IV. Лезгинская любовная лирика постсоветского периода 230
4.1. Лирическое «я» в контексте трансформации структурных доминант общества 234
4.2. Образ возлюбленной в современном поэтическом пространстве 240
Заключение .294
Список использованной литературы
- Художественный образ классики и современное эстетическое мировоззрение
- Художественный образ в ашугской поэтической концепции XIX в
- Творческое «я» в любовной лирике 60–80 гг. XX в
- Образ возлюбленной в современном поэтическом пространстве
Художественный образ классики и современное эстетическое мировоззрение
Ценностно-смысловая иерархия любовной лирики имеет основанием чувственные переживания поэтического субъекта, которые транслируются в семантические структуры, объективирующие пределы единого содержательно - информационного пространства. Действенность этих пределов фиксирует деятельную сущность Я (субъекта) и Ты (объекта – возлюбленной), которая схватывается индивидуально заданными импульсивными ритмами творческого сознания, уже равнодушного к устойчивым структурам поэтического универсума.
Сравнительное исследование специфики формирования и функционирования художественного образа в различных эстетических системах делает возможным прослеживание динамики поэтической модели любовной лирики в культурно-историческом контексте.
Степень изученности темы. Актуальность темы диссертационной работы обусловлена и отсутствием монографических исследований, представляющих лезгинскую любовную лирику как духовное явление, репрезентирующее цельность этнопоэтического сознания.
Исследовательские подходы в основном концентрируются вокруг смысловых доминант отдельных поэтических моделей, несущих мировоззренческую нагрузку тех или иных культурно – исторических эпох. Это и создает некий дисбаланс в обосновании непрерывности и цельности чувственно – эмоциональных явлений этнопоэтического духа. В этом плане можно отметить любовную лирику средних веков, которая осталась вне поля научных воззрений лезгинских ученых – литературоведов. Поэтому в ходе работы мы опирались на труды востоковедов, в которых в том или ином аспекте освещена традиционная классическая поэзия.
Известный арабист и исламовед Густав Эдмунд фон Грюнебаум в своих статьях затрагивает проблему эстетических основ арабской литературы. Сосредоточивая внимание на психологических мотивациях традиционализма в литературных формах и содержании арабского словесного искусства классической эпохи, он пишет: «Литературные формы или жанры существуют сами по себе, независимо от каждого отдельного произведения, в котором они представлены и их сохранение имеет этическое значение. Поэтому теория литературы в значительной мере состоит из назиданий и наставлений о том, как писать… Поэт может выбрать тему, жанр, форму, но коль скоро выбор сделан, то он обязан обработать их строго определенным образом»1.
Средневековая художественная культура арабов заняла центральное место и в работах И. М. Фильштинского. Ученый обращает внимание на проблемы формирования арабского классицизма. По мнению исследователя, тяжелая социально-политическая обстановка в Халифате в VII–IX вв., кризис общественного сознания способствовали идеализации древнеарабского родоплеменного уклада, следствием чего явился возросший интерес древних арабов к культуре и словесному искусству. Теоретики арабской литературы на основании классических образцов древнеарабской поэзии начали формулировать общие законы арабской нормативной поэтики, в результате в литературной критике средних веков сложились два понятия: поэтическая тема, или идея (ма на), и способ ее словесного выражения (ляфз). «Эти понятия, – пишет – И. М. Фильштинский, – не могут быть идентифицированы с современным представлением о содержании и форме, ибо «содержание» арабской средневековой поэзии было строго обусловлено жанром того или иного поэтического произведения, который сам по себе уже предполагал комбинацию из более или менее постоянного набора тем. Под словесным же выражением нормативной темы (ляфз) арабы подразумевали лишь разработку каждой такой традиционной темы. Поэтому к средневековой арабской поэзии такие привычные нам понятия, как «реализм», «натурализм» и другие, можно прилагать лишь условно. Конечно, время от времени поэты «изобретали» и новые темы, в частности такие поэтические открытия делали стихотворцы Обновления. Однако арабская критика подобное новаторство либо вовсе не ставила поэтам в заслугу, либо ценила его лишь во вторую очередь. Почти все критики признают примат ляфза над ма на»1. Далее ученый приводит слова филолога аль-Аскари (ум. ок. 1005 г.): «Самое главное в поэзии – не отыскивать новую поэтическую тему, ибо это может сделать в равной степени и араб, и чужеземец, и горожанин, и кочевник. Важно лишь то, как эта тема выражена, как сильны, чисты, прекрасны и выразительны эти слова»2.
Преимущество словесного выражения перед темой отмечает и исследователь классической индийской поэтики П. А. Гринцер. При этом он соглашается с М. Винтерницем, который называет классическую санскритскую поэзию (кавья) «придворной и орнаментальной». «Первая и наиболее важная особенность стиля кавья – нагромождение метафор и сравнений… В орнаментальной поэзии основной целью поэта было по мере его сил удивлять читателей или слушателей многочисленными оригинальными и изысканными сравнениями. Сфере орнаментальной поэзии принадлежат также бесконечно растянутые описания… использование искусственных внутренних рифм и тщательно разработанных метров, редких выражений и длинных сложных слов – в особенности таких, которые имеют более чем одно значение. В общем и целом для нее характерно настойчивое стремление избегнуть необходимости чего-либо прямого и, насколько это возможно, все завуалировать, перефразировать, намекнуть на суть дела в форме загадки»1. Исследованию образной системы арабской литературы VI–XII вв. посвящена и книга известного востоковеда Б. Я. Шидфар2. Опираясь на теоретические работы средневековых ученых-филологов, автор выделяет следующие основные принципы арабской литературы: «разумности», «комичности», «преклонения перед словом», «гармоничности», «иерархичности», «классификации», «канонического». Ученый особо подчеркивает роль канона в арабском эстетическом мировоззрении средних веков. Как пишет Б. Я. Шидфар, «для средневековой арабской литературы характерна иная мировоззренческая основа, видение мира в определенных символах, метафизичность мировоззрения, которая в литературном творчестве выражается в закреплении определенных канонов, штампов, в стремлении к «заштампыванию» отражения действительности в определенных формулах, в неподвижности характеров персонажей, благодаря чему мы имеем перед собой как бы «маски» постоянно закрепленных не только за каждым персонажем, но нередко и за тем или иным литератором или поэтом. Именно в этом и следует видеть особенности «отражения действительности» в классической арабской литературе»3.
Художественный образ в ашугской поэтической концепции XIX в
В этих строфах тематические поля создают слова: «локоны возлюбленной заманивают оленей Хутена в ловушку», «тайна губ дошла до пророка Исы» и т.д. Как могло рядоположение слов, имеющих столь отдаленные значения, в одном стихотворном ряду создать в сознании восточного человека единое эстетическое поле? Как было сказано выше, в любовной лирике классической эпохи единый эстетический мир образует непрерывный процесс проявления возлюбленной своей субстанции. Этот процесс захватывает все поэтическое пространство стиха, в котором лексические единицы теряют предметно–понятийные значения и превращаются в носителей символических кодов художественного сознания.
Полагание идеалом самого себя – это процесс мыслительный, навязанный разумом. Он не может быть материализован. Поэтому мышление лирического «я» занято поиском, вернее, выбором многочисленных предикатов, определений, эпитетов, которые и образуют информационное пространство стихотворения. Так, например, произведение Лезги Салеха «Олмушам муштакъ» («Влюбился я») состоит только из сравнений:
Бир къаьдди эр,эрэ, алтун кэмерэ, Бир фэсли багьара, суьбгьи – сэгьэрэ, Бир тейфун тавара, гьуьлузь нигара, Бир гоьзаьл нигара олмушам муштакъ.
Бир эсэр дэфтэрэ, Нугь пейгьэмбэрэ, Бир завал бэшэрэ, шагьы – сэрвэрэ, Бир сузи – эййарэь руг и дилбэрэ, Бир дуьрр тэки йара олмушам муштакъ1. В одну, у которой стан, как кипарис, В одну, кто похож на весну, на утреннюю зарю, В одну, которая красива, как картина, В одну красавицу влюбился я… В творение на целую тетрадь, в пророке Ноя, В одно творение природы, в шахин-шаха, В одну разрывающую сердце бестию, красавицу, В одну, подобную жемчужине, девушку влюбился. Информационное поле лезгинской любовной лирики, созданной в классических стихотворных формах, заполнено лексическими единицами арабского и персидского языков. Так, например, в вышеприведенных примерах из 39 лексических единиц, образующих поэтическую ткань строф, 30 относятся к этим языкам.
Ярахмедов М. Дары Дагестана. С. 55. Такое явление мы наблюдаем и в азербайджанской классической поэзии. Ученые-литературоведы объясняют использование арабизмов и персизмов поэтами необходимостью сохранения ритма аруз, на котором и создана классическая поэзия.
Как известно, во время арабских завоеваний «родная» метрика арабской литературы – аруз проникает в художественное пространство народов Востока. «Развитие тюркоязычной поэзии совпало с широким распространением персоязычной поэзии, где аруз уже приобретал гражданское право. Еще в достаточной мере не обладающая определенной художественной спецификой и традицией, письменная тюркоязычная поэзия оказалась под влиянием персоязычной поэзии, что показало себя в первую очередь в ритме, цезуре и строфике»1. Говоря об арузе в тюркоязычной поэзии, надо отметить, что его фонетическая специфика не совпадает с фонетическим и морфологическим строем тюркских языков. Поскольку в арабском языке гласные различаются долготой и краткостью, то аруз основан на чередовании долгих и кратких слогов. Но в тюркских языках гласные по долготе не различаются, поэтому приспособление аруза к азербайджанскому стиху было длительным эволюционным процессом. Он шел двумя путями: во-первых, из большого количества принятых в арабской и персидской практике моделей аруза отбирались такие, которые больше соответствовали нормам азербайджанского языка; во-вторых, поэты вводили в азербайджанский язык много арабских и персидских слов, которые от природы имеют долгие и краткие гласные. В некоторых текстах количество арабо-персидских заимствований достигало 80–90%. Что касается азербайджанских слов, то часто поэтам приходилось искусственно удлинять гласные, чтобы приспособить их к размеру стиха»2. Но все это, по мнению А. М. Дадаш-заде, не умаляет значение
Однако противоположного мнения придерживается исследователь уйгурской поэзии Хамраев М. Он считает, что использование аруза в качестве размера ритма в поэзии тюркских народов – явление не прогрессивное, потому что «аруз как метр, внесенный в тюркскую поэзию извне и опирающийся на законы арабского языка, культивировался в тюркской поэзии искусственно и, в силу своей чужеродности, не мог органично слиться с грамматическим строем тюркских языков, законы которых в корне отличаются от арабского»2.
Не вдаваясь в подробности об арузе, хотелось бы отметить, что столь массовое использование арабских и персидских слов вряд ли можно объяснить только необходимостью сохранения ритма аруз. Многочисленные изобразительные средства в произведениях классического периода в первую очередь выполняли символические функции. Изменение их звуковой материальной оболочки и передача их в лексических эквивалентах другого языка привели бы к разрушению внутренней структуры художественного строя классической поэзии, что могло бы способствовать серьезным изменениям логических моделей эстетического мышления, в первую очередь временно-пространственной модели.
Образ возлюбленной и временно - пространственная модель средневековья Поэтические фигуры, постоянно используемые поэтами классической эпохи, являются носителями символических кодов, тайна Дадаш-заде М. А. Азербайджанская лирика XVIII в. Баку–Элм, 1980. С. 172. (На азерб.яз.). Хамраев М. Основы тюркского стихосложения. Алма-Ата, 1963. С. 95. расшифровки которых кроется в категориях времени и пространства, в специфике их восприятия средневековым общественным сознанием.
Духовный мир восточного человека, проживающего в огромных тоталитарных государственных образованиях, был наполнен ощущением собственной неполноценности, слабости. Конечно, он не мог смириться с этим и искал выхода из тупика. Но при первом же столкновении с жестокой, бюрократической государственной машиной он получал мощный отпор. Не найдя в себе силы противостоять ей, он погружался в себя, где и надеялся найти смысл жизни и ощутить всю полноту бытия. Однако для этого нужно было навести порядок в собственной душе и передать ей состояние покоя и стабильности, что было возможно, лишь при условии изоляции собственного мышления от чувственно-предметного мира, от единичных, непосредственно наблюдаемых предметов. Поэтому содержательное поле мышления средневекового человека образовало общие опосредованные понятия, лишенные чувственной конкретики. «Индивидуализации он предпочитал типизацию». Следует отметить и то, что средневековый человек не так уж далеко ушел от мифологического восприятия мира, которое сформировалось на тотальном отрицании индивидуального «я». Миф навязывал общине единые законы, которые были «неотделимы от самой коллективной жизни, рассматриваемой как продолжение священного коллективного порядка»
Все это способствовало преобладанию в средневековом восточном сознании циклического восприятия времени. А. Я. Гуревич пишет: «Так или иначе, по кругу движется сознание многих народов, создавших великие цивилизации древности. В основе систем ценностей, на которых строятся древневосточные культуры, лежит идея вечно длящегося
Хамраев М. Основы тюркского стихосложения. Алма-Ата, 1963. С. 95. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1978. С. 8. настоящего, неразрывно связанного с прошлым… Время течет в повседневной жизни, но это время высшей реальности, не подверженной изменениям. Мир в глазах древних египтян вышел готовым из рук творца, прошлое и будущее присутствуют в настоящем»1.
Циклическое восприятие времени, уподобление его вечности легли в основу классицизма, сформировавшегося в арабской поэзии в IX –XI вв. В нем поэтические традиции воспринимаются как некий Абсолют, постижения которого можно достичь путем «меморизации традиции, ее закрепления в памяти»2. Более подробно расшифровал способы «меморизации» И. М. Фильштинский. Он пишет, что «не только темы заимствовались поэтами у их предшественников – поэты широко черпали из «общего фонда» клишированные сравнения, эпитеты и разнообразные поэтические фигуры… Средневековые арабские поэтические жанры (мадх, газель, риса, хамрият) восприняли одну из главных эпических черт – всякий конкретный факт превращался в схему, единичное, историческое абстрагировалось. Поэты классической эпохи не знали искусства конкретизирующего портрета, герой их стихов должен быть наделен в соответствии с определенными требованиями жанра всеми каноническими (положительными или отрицательными) чертами»3. Не углубляясь в проблему каноничности, нормативности классической поэзии (поскольку данная проблема подробно освещена в работах И. М. Фильштинского4, Б. Я. Шидфар5, А. Б.Куделина6), отметим лишь то, что канон, нормы, соблюдение традиций становятся важнейшими эстетическими принципами средневековой культуры.
Творческое «я» в любовной лирике 60–80 гг. XX в
Лирического героя гошмы отличает оптимистическое настроение. Причина – приезд возлюбленной. Его внутреннее состояние определяется ее приездом или отъездом. В зависимости от этого, чувства лирического героя меняются на грустные, вызванные отъездом возлюбленной, и на радостные, связанные с ее приездом. Стихотворение состоит из противопоставления этих чувств. Поскольку это противопоставление прослеживается в хронологическом плане, то в произведении имеются два временных пласта: прошедшее и настоящее время. Отъезд возлюбленной и грустные чувства лирического героя представлены на фоне прошедшего времени, а приезд ее и радостные чувства – на фоне настоящего.
Представление единого течения времени в разных хронологических пластах в произведении приобретает важное значение. Эти пласты становятся структурообразующими элементами его содержания. Дело в том, что в данной гошме конфликт между «я» и «не я» (объектом) снят. (Возлюбленная приехала, она рядом с лирическим героем. Оба счастливы) Он (конфликт) переносится во внутренний мир лирического героя. Но лирический герой может придать своим чувствам противоречивость, лишь «разместив» их в разные временные пласты.
Мысленное разделение времени на прошедшее и настоящее свидетельствует и о возможностях сознания ашуга свободно оперировать временем. Это позволяет ему при необходимости снять хронологические границы, без чего невозможно моделирование образного мира.
В лирических произведениях центральное место занимает настоящее время, в котором проявляется сущность поэтического бытия. Будущее время можно лишь предполагать, а прошедшее уже прошло, поэтому оно само по себе не имеет ценностного значения. Мышление поэта может включать прошедшее время в свое содержательное поле, лишь зарядив его своей энергией, которая активна только в настоящем времени:
Мискин Вэли чагъ эйлэди, Коьксуънуь жэннэт багъ ейлэди, В этой строфе грамматическим временем является прошедшее. Оно входит во внутренний мир лирического героя, образует его эмоциональное состояние, которое может реализовать себя только в процессе, в движении. А движение, как известно, есть свойство настоящего времени. Ссылаясь на «Метафизику» Аристотеля, А. М. Жаров пишет: «Движение есть претворение в действительность того, что существует в возможности, поэтому движение происходит лишь тогда, когда имеет место само осуществление, а не прежде и не после»2. Необходимо отметить и то, что движение не может охватить предмет в конечном виде. Предмет в движении всегда находится в процессе становления. «…Движение как осуществление и становление чего бы-то ни было всегда отмечено «печатью» неопределенности в том отношении, что оно не сводится ни к тому, чем был предмет изменения, как некоторая «статическая» определенность, ни к тому, чем он стал в процессе движения как некоторая другая (статическая) определенность»3. Это обстоятельство играет важную роль в формировании ашугской эстетики. Дело в том, что процесс становления (теперь) сохраняет неопределенность во взаимоотношениях лирического героя и возлюбленной, столь необходимой для эстетической мысли. Реципиенту не дано узнать, достиг ли лирический герой своей цели, получил ли он согласие любимой девушки, что активизирует эмоциональную составляющую его мышления.
В образовании ашугской эстетической доктрины немаловажную роль сыграли и пространственные представления. Чувственная данность, которая легла в основу художественной концепции ашугства, требовала присутствия пространственного содержания. В XVI–XVII вв. образная система ашугской поэзии моделировалась на основании «конкретно чувственного отношения к природе» (Осипов А.И.). Занятый, в основном, аграрным производством, человек ощущал себя частью природы и не мог отдалять себя от нее, поэтому природа не могла быть для него объектом деятельности. Подчеркивая своеобразность роли пространственных представлений в средневековой поэзии, А. Я. Гуревич пишет: «Пространство не только окружает героя, но и переживается им. Герой средневековой поэзии обладает собственной, как бы внутренне ему присущей пространственной сферой действия, в которую излучаются исходящие из него силы и которая, со своей стороны, придает ему специфическую определенность. Пространственная среда и пребывающий в ней герой проникают и наполняют друг друга»1. Эту мысль ученого можно отнести и к пространственным представлениям ашуга. Если в классической поэзии встречаются единичные, в основном, крупномасштабные образы природы, такие, как солнце, луна, райский сад, звезды и т.д., то в ашугской поэзии часто используются природные явления. Лирический герой ощущает себя частичкой природы. Она для него загадка, и он не в силах понять ее. Лирический герой воспринимает природу через свои душевные страдания и стремится найти в ней параллели своему состоянию. Зима, осень, ураган, ветер, холод все время сопровождают его:
Образ возлюбленной в современном поэтическом пространстве
Интегральному или смешанному типу культуры соответствовали творческие запросы социалистического реализма, в основе которого лежит «определенный взгляд на мир, на жизнь, на человека, на искусство и его назначение»2. Философский аспект этой определенности известный литературный критик А.И. Овчаренко видит в полном освобождении представлений людей «о мире и человеке от всякой мифологии»1, восприятие действительности в ее непрерывном революционном становлении, а также в активном отношении художника к миру с целью его переустройства на основах нравственных ценностей12. Эстетическими эквивалентами данной определенности ученый считает максимально широкое и глубокое выражение жизненной правды в художественных образах, осознанный историзм восприятия и изображения действительности, ясность авторской позиции, гармоническое соединение в искусстве элементов отражения, воссоздания и пересоздания»2. С одной стороны, вера в первичность материального мира, возведенная советской философской мыслью в догмат, активизировала чувственное содержание в художественном изображении этого мира, с другой – задача, поставленная государством перед литературой – художественно воссоздать меняющийся мир в свете социалистической перспективы – требовала усиление роли разума в логической структуре творческого сознания. Все это отразилось и в стилистическом своеобразии советской литературы, в особенности, в сочетании его реалистического и романтического начал. Обращаясь к специфике функционирования романтического стиля в литературе социалистического реализма, Н. Гей пишет: «Анализ жизни под углом зрения идеала и утверждение его – одна из характернейших и существенных особенностей метода социалистического реализма, которая выражалась полно и ярко в романтическом стихе социалистического искусства с его вниманием к обобщенным … образам, … смыслам, гиперболам и метафорам, … условному, … сказочному жанру»3. Характерность сочетания реалистической основы выражения действительности с романтической формой ее изображения уже для аварской поэзии послевоенных лет отмечено в «Истории аварской советской литературы» (1920–1950). Как отмечает ее авторы, «стиль поэтических произведений нельзя охарактеризовать однозначно, ибо он представляет собой сочетание ответственно-возвышенного романтического изложения с предметной зримостью описания. Традиционная условность и символика сочетаются с конкретностью. Но одно не исключает другого, они важны и действенны в зависимости от функции жанра, аспекта решения тематики, от пафоса, интонации»1.
Довольствуясь тем, что вышесказанное в какой-то степени подтверждает выводы Н.А. Хренова о том, что культуру XX в. образовали интеграциональные процессы элементов чувственного и идеационального типов культуры, мы обратимся к лезгинской любовной лирике 50–80 гг. XX века. Но здесь перед нами встанут очень серьезные вопросы. Выдерживает ли любовная лирика одного из народов, входивших в СССР, интегральную логику развития искусства? Как же отразилось доминирование в художественном пространстве Советского Союза государственной идеологии на национальное творческое сознание, генерирующее поэтическое бытие любовной лирики? Поиск ответов на эти вопросы вынудит нас акцентировать внимание на творческом «я», так как именно в нем отразился весь драматизм эпохи.
Революция, а затем и гражданская война, показали внутреннюю мобильность большевистской партии. Эффективность ее политики проявила необходимость установления диктатуры коммунистической идеологии, в результате она должна была решать гигантскую задачу, связанную с реконструкцией всего народного хозяйства страны. А это требовало огромной энергии, которую и обеспечила в 20-х гг.революционный оптимизм, В этом оптимизме было снято социальное расслоение поколения революции, потому она смогла мобилизовать всю мощь общественного сознания, существенность которого открывала перспективу становления индивида как родового человека (Л. А. Булавка). В этом становлении реализовалась его творчески – преобразующая деятельность, которая и определялась взрывообразным характером «развертывания творческой энергии общественного субъекта, обусловленным его мощными преобразовательными интенциями»1.
Преобразующая деятельность активизировала в общественном субъекте чувство сопричастности к созиданию нового мира, которое обнаружило потребность в преодолении собственной индивидуально бытийной ограниченности. В этой потребности выявилась проблема дробления бытийной целостности индивида. Обращая внимание на размышления одного из основателей экзистенционального направления в философии Кьеркегора, который «из гармоничного XIX в. видел человека будущего столетия», литературовед В.В. Заманская отмечает: «Кьеркегору принадлежит одна из краеугольных идей экзистенциональной антропологии – идея дробления человеческого «Я»: появляется другой, я утрачивает свою определенность, обезличивается, размывается моральные критерии. Пока лишь ответственность (базирующаяся на устаревающих преданиях, установленных Богом) удерживает «Я» от окончательного распада; с отходом от Бога дробление «Я» неминуемо. Кьеркегор еще верит в прочность этих пределов: но перспектива распада ему открывается со всей очевидностью. Кьеркегор первым констатирует ситуацию, когда из под ног человека уходит почва.