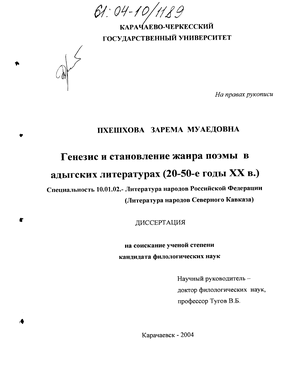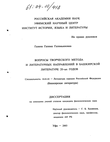Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Национальные истоки литературной поэмы ... С. 17 - 70.
Глава II. Устная литература индивидуального творчества и ее роль в возникновении письменной поэмы с.71 - 104.
Глава III. Жанрово-стилевые особенности поэмы первого эта па развития адыгских литератур с.105 - 152.
Заключение с.153-160.
Словарь непереведенных слов и выражений...с. 161.
Библиография с.162-172.
- Национальные истоки литературной поэмы
- Устная литература индивидуального творчества и ее роль в возникновении письменной поэмы
- Жанрово-стилевые особенности поэмы первого эта па развития адыгских литератур
Введение к работе
Поэма занимает важное место в жанровой системе всех национальных литератур мира. В адыгских новописьменных литературах - адыгейской, кабардинской и черкесской - поэма -один из доминирующих жанров на протяжении всей истории их развития - от зарождения до формирования зрелой эстетической системы. С поэмой в адыгских литературах связаны значительные эстетические достижения. Это обусловлено глубокими историческими причинами. Как известно, в фольклоре адыгов, как и в фольклоре всех абхазо-адыгских народов, сильное развитие получили эпические жанры, которые и стали почвой и арсеналом возникшей в начале XX века письменной литературы.
Поэма - жанр эпический. Эпос же, как известно, «представляет собой повествовательный жанр, в котором рассказывается о жизненном пути человека, обрисовываются события, в которых он участвует, поступки, которые он совершает, показываются взаимоотношения людей между собой» [75;358]. В отличие от лирического произведения, в котором субъект сосредоточен на изображении отдельного переживания, или драме, в которой главное - самостоятельное действие персонажа на сцене, в эпосе индивид изображается в рассказе о нем. Таким образом, «эпический образ - это образ, в основе которого лежит развернутый многосторонний человеческий характер, представляющий собой определенную индивидуальность, показанный в известном законченном (т.е. имеющем начало и конец ) моменте своего жизненного пути (в сюжете), т.е. отражающей в своей судьбе характерные черты жизненного процесса» [75;358].
Мы привели известное положение теории литературы для того, чтобы еще раз подчеркнуть, что в фольклорном наследии адыгов широко представлены произведения, в которых нарисован развернутый эпический характер, показанный в законченном моменте своего жизненного пути. К таким произведениям относится, в первую очередь, героический народный эпос, пред ставлягощий собой своеобразную эпопею, мифологически типизирующую доисторическую действительность.
Существует мнение, что «поэма по праву может быть названа прародительницей устных и письменных словесных жанров. Иногда поэму в её вершинных достижениях называют эпосом, подобно тому, как за большим, обычно многотомным романом, обращенным к судьбам человеческим, к судьбам народным, закрепилось жанровое определение «эпопея». Однако следует иметь в виду, что поэма - жанр литературы, а эпос или эпопея в их изначальном значении представляли собой результат коллективного, до-письменного творчества» [44;3]. Вывод этот верен, ибо подтверждается многочисленными фактами историй национальных литератур, в том числе и новописьменных. Так прародителями письменной поэмы, например, в адыгских литературах стали эпические и лиро-эпические жанры фольклора. Поэтому история стихотворных эпических жанров в адыгских литературах начинается с поэм, в основе сюжета которых лежат конкретный фольклорный памятник или мотивы и идеи устного народного творчества. Однако это вовсе не означает, что не писались и не издавались поэмы на материале современности. Их было немало, но показательно: наиболее художественно состоятельными оказались те поэмы, которые творчески развивали многовековые эстетические традиции, отложившиеся в фольклоре. Творческие удачи в поэмах, сюжеты которых строились на фактах реальной действительности, в начальный период развития новописьменных литератур крайне редкие. Появление их объясняется рядом объективных и субъективных причин. К ним, в частности, относятся осознанное усвоение иноязычного художественного опыта и адаптация его в стихии национальной образности, в индивидуальной талантливости поэта и т.д. Авторы же, продолжавшие традиции фольклора, оказывались в более выигрышном положении, ибо опирались на выработанные в веках эстетические завоевания.
Исходя из изложенного, генезис и эволюцию литературной (письменной) поэмы в новописьменных литературах невозможно объективно понять, не изучив её национальные (фольклорные) истоки. История формирования жанровой системы новописьменных литератур убедительно свидетельствует о том, что эстетика устного народного творчества послужила для первых письменных поэтов незаменимым подспорьем при создании первых литературных эпических произведений. Поэтому при изучении путей возникновения, становления и развития литературной поэмы настоятельно необходимо учитывать художественные традиции устно-поэтического творчества народа, последовательно придерживаясь принципа историзма и памятуя о том, что фольклорные жанры также подчиняются общим законам художественной эволюции, неизбежно требующей как сохранения художественной преемственности, так и преодоления ее. На это справедливо указывал известный фольклорист А.Ахлаков: «...Литературы народов Северного Кавказа.... выросли в основном на фольклорных традициях. Процесс формирования национальных литератур шел не как отмена фольклорной традиции и утверждение совершенно нового художественного метода, а как постепенное преодоление фольклоризма и выработка собственных литературных принципов на основе достижений устного народного творчества... Необходимо также заметить, что фольклор в специфических условиях Северного Кавказа .... на позднейшем этапе его развития сам «движется» к литературной поэзии. Внутри самого фольклора происходят существенные процессы, приближающие его к литературе... Для решения проблемы об истоках и путях формирования национальной поэзии Северного Кавказа необходимо поставить задачу исследования поступательного движения в фольклоре» [14;13-14].
Особую методологическую ценность для нас представляет последний тезис исследователя, ибо необходимость преодоления фольклоризма и выработка собственных литературных принципов обусловлена самой спецификой фольклора и литературы как разных видов словесного искусства, имеющих самостоятельные эстетические системы, присущие только им художественные способы познания и отражения действительности.
Как известно, от литературы фольклор как вид искусства отличается следующими признаками: фольклорные памятники бытуют изустно; это неизбежно порождает поливариантность текста; та же традиция обеспечивает устойчивую традиционность и известную нормативность поэтических понятий; стереотипность поэтических тропов и фигур; однотипность сюжетных ситуаций; наличие общих мест; отсутствие разнообразия для выражения и передачи одной и той же мысли, являющегося необходимым компонентом поэтики литературного произведения; коллективность, ведущая к тому, что «личный опыт немедленно вливается в запас коллективного, весь коллективный опыт становится достоянием каждого члена группы» [120;49].
Коллективность в устном народном творчестве, пожалуй, ярче всего проявляет себя в том, что у безымянного автора фольклорного произведения, да и у самих фольклорных персонажей, нет неотъемлемого у создателя письменного произведения и его героев художественного самосознания. Кажется, об этом говорил еще В. Ч. Чичеров, когда писал: «Народ создал культуру устной художественной речи, достиг в ней подлинного мастерства, но она в то же время ставит определенные границы, рамки художественной деятельности» [132;74]. Жанрами, невозможными в устном бытовании, ученый считал роман и повесть.
Литературное творчество обладает собственными эстетическими признаками, к которым, в частности, относятся: ясно выраженная творческая индивидуальность автора; «каноничность» письменного текста; отбор и типизация жизненных реалий; личностное (субъективное) отношение к объекту повествования и т.д.
Однако, как справедливо указывает У.Б. Далгат, «специфичность фольклора и литературы не означает их замкнутости и непроницаемости» [30;9]. «Между системой фольклора и системой литературы существуют сие темообразующие отношения, - продолжает ученый, - выяснение которых составляет главную суть решения литературно-фольклорной проблемы... Фольклор в литературе является системообразующим фактором» [30;9]. Мы разделяем мнение известного ученого. При этом учитываем, что долгое и трудное обретение литературой собственных путей типизации явлений действительности, создания характеров-типов, обретения эстетического разнообразия для выражения одной и той же мысли, становления гибкого и пластичного языка и т.д. объясняется, прежде всего, жесткой «властью» традиции, не желающей ( и не могущей) расставаться со своими позициями. Поэтому чуть ли не самой труднопреодолеваемой преградой для молодых авторов письменной литературы стал переход от фольклорной внеличностной системы языка к индивидуальному речевому языку.
Письменная поэма в адыгских литературах, повторим еще раз, имеет мощные национальные истоки.
Как и всякое общественное явление, поэма в адыгских литературах исторически видоизменялась. Изменения происходили на всех уровнях и в содержании, и в структуре, и в образной системе, и в языке. Содержательная и эстетическая эволюция жанра вызывалась многими причинами, в частности, идеологическими запросами и эстетическими предпочтениями времени, творческой индивидуальностью поэта, зрелостью самой литературы, все более и более обретающей творческую самостоятельность, в том числе и в адаптации, согласно требованиям нового времени, эстетических завоеваний предшествующих эпох в контексте философских, нравственных, художественных взглядов, складывающихся в ту или иную историческую эпоху, степенью и глубиной творческого усвоения развитого иноязычного литературного опыта и т.д.
Вместе с тем поэма удерживает в своем содержательном компоненте эпическую родовую субстанцию. Еще Гегель утверждал, что содержанием поэмы является «национальная жизнь в рамках всеобщего мира». Мысль ве ликого философа сохраняет актуальное содержание. Действительно, если обратиться к опыту новописьменных литератур, в том числе и абхазо-адыгских народов, то становится очевидным, что эпическая поэма в них всегда ориентировалась на исторически масштабные события, способные выразить саму эпическую сущность жанра, ибо, по убеждению того же Гегеля, эпический мир поэм вытекает из «необходимости общенационального дела, в котором могла бы отразиться полнота духа народа» [119;236].
В. Г. Белинский, развивая идеи Гегеля в новых исторических условиях, решительно подчеркнул второй важнейший компонент современной поэмы - субъективное начало, которое и определяет отношение автора к событиям и участвующим в них людям.
В свете идей Гегеля и Белинского можно утверждать, что родовым признаком современной поэмы является содержание, вбирающее в себя исторически изменяющиеся «дух эпохи, дух нации». А содержание же в значительной степени определяется позицией поэта - исторической, политической, нравственной, этической.
Как бы ни возрастала роль автора в современной поэме, все же «на протяжении всей истории письменности поэма .... сохраняет два .... содержательных структурных центра. Судьба нации, судьба народа, в наши дни -человечества, и творческая личность, сопрягающая историческую реальность с полетом фантазии. Поэт и мир - таковы равновеликие константы современного эпоса» [44;5].
Субъективное начало в поэме - констант не изначальный. Оно в европейских литературах сформировалось в эпоху Возрождения, а в новописьменных литературах, родившихся в XX веке, оно сложилось к 60-м годам прошлого столетия. Ныне в адыгских литературах представлены следующие виды поэмы: 1) сюжетно-повествовательная (эпическая), сюжет которой строится на конкретном фольклорном памятнике, мотивах и идеях устного народного творчества или исторических реалиях; 2) лиро-эпическая, темой которой становится самый разнообразный материал, взятый из истории или современности; 3) лирическая, в которой главное действующее лицо ( порой и единственное) - сам автор, часто замаскированный под лирического героя.
Понятно, что перечисленные жанровые виды поэмы в свою очередь дробятся на многочисленные подвиды, если позволительно употребить такое определение. Это связано, очевидно, с социальным, духовным и эстетическим опытом автора, с особенностями его творческой индивидуальности, с его субъективным взглядом на действительность, с его индивидуальным мироощущением и миропониманием, с его ориентацией на те или иные гуманистические ценности, которые он отстаивает или отвергает, и со многими другими, в том числе и привходящими моментами. В современной поэме, будто бы не вмещающейся в классические формы и потому ломающей положения о главных константах жанра, лирический герой - не двойник автора: он - носитель и выразитель социально-исторического и духовно-нравственного опыта истории, всего народа.
Переход к такому состоянию жанра потребовал немало времени и творческих усилий. В новописьменных литературах расстояние от сказителя до профессионального писателя, от ашуга - импровизатора до письменного поэта, от навыков передачи эмоционального состояния персонажа до психологического анализа мыслей, действий, чувств человека, до умения воссоздать «диалектику души» - расстояние, протяженное во времени; путь этот тернист, тяжел, порой драматичен. Это и понятно: поэтика фольклора оказывала и до сих пор оказывает всестороннее и глубинное воздействие на специфику жанров в молодых литературах, на поэтически-образное освоение бытия и человека, на тип художественного мышления автора, на стилистику, на изобразительные и выразительные средства языка. Продуктивное использование зрелого иноязычного эстетического опыта возможно лишь тогда, когда сама национальная художественная словесность достигает такого эстетического уровня, когда становится способной на равных взаимодействовать с развитыми эстетическими литературными системами на всех уровнях. В период возникновения и в первые годы становления новописьменной литературы диалектически органическая адаптация «чужого» опыта невозможна: давление фольклорной эстетики глобальное; литература еще не дифференцировалась от устного народного творчества, не сложилась в самостоятельную идейно-эстетическую систему. Как отмечает один из исследователей фольк-лорно-литературных взаимосвязей, в абхазо-адыгских литературах, «фольклор двигает молодую литературу, формируя ее вкусы, идеи и национальные черты.... это естественно» [4;54].
Как и у всех народов мира, в устном народном творчестве адыгов «художественная стихия носит ещё ... бессознательный характер», но фольклорные памятники «созданы теми же средствами, какими создается вообще всякое искусство, - средствами художественной фантазии» [125;38]. Бессознательная художественная стихия фольклора активно «препятствует» переходу к иному - литературному - типу художественного мышления и потому он, этот переход, требует длительного исторического времени. В то же время та же «художественная стихия» облегчает подключение к литературному типу художественного обобщения и типизации, ибо становящаяся литература создается теми же средствами художественной фантазии, что и фольклор. Эту диалектически сложную взаимосвязь фольклора и письменной литературы необходимо в должной мере учитывать при изучении проблем формирования жанровой системы молодых литератур.
Все, без исключения, абхазо-адыгские фольклористы и литературоведы, к работам которых мы обращаемся и выводы которых внимательно учитываем, подчеркивают, что «объектом искусства» для пионеров национальных литератур был фольклор - наиболее концентрированное выражение художественного сознания бесписьменного народа. И совершенно верно, что «народное творчество дало огромнейшие возможности воображению творцов собственно художественной литературы, придало самую форму устремлени их творческой фантазии и национальную специфику, наконец, научило их владеть языком словесного искусства» [4;55].
При исследовании фольклорно-литературных взаимосвязей необходимо последовательно придерживаться принципа историзма, который требует учета того, что фольклорно-литературные взаимосвязи не остаются неизменными в живом литературном процессе: они эволюционируют, трансформируясь, видоизменяясь, обогащаясь. Однако, хотя «меняются эпохи, меняются стили, но всякий раз меняются лишь формы отношения каждого нового стиля к фольклору, сама же связь с фольклором не уничтожается» [124;109-110]. Отмеченная связь в современной литературе не всегда «предметно» обнаруживается, ибо, как остроумно заметил один из отечественных ученых, «.... в отношениях писателя с фольклором действует, думается, своего рода закон превращения энергии : усваивая фольклор как одну из форм энергии, писатель превращает её во многие другие, качественно отличные формы, в которых специфические признаки этой «первичной» формы исчезают, но которые тем не менее обязаны ей в какой-то мере своим происхождением» [34;176]. Таким образом влияние фольклора на того или иного поэта может быть очень велико, но не иметь очевидного, «видимого» материального выражения.
В устном народном творчестве адыгов отложился огромный художественный опыт, требующий углубленного научного осмысления. Изучение национальных художественных традиций, выяснение их роли в становлении жанров письменной литературы - одна из актуальных задач национальной филологической науки. Наряду с этим требует более глубокого исследования и проблема роли опыта «старых» литератур в становлении и эволюции новописьменных, ибо молодые национальные письменные словесности достигли в лучших произведениях уровня старописьменных, опираясь на два «кита» -национальный фольклор и творчески усвоенный и глубоко адаптированный в контексте национального миропонимания и национальной образности развитый инонациональный художественно-эстетический опыт.
Предлагаемая диссертационная работа посвящена проблемам национальных истоков, становления и эволюции одной из жанровых разновидностей письменной литературной поэмы - сюжетно-повествовательной (эпической). Выбор темы определен тем, что эпическая поэма в адыгейской, кабардинской и черкесской литературах сохраняет осязаемую близость с фольклорными поэтическими традициями и представляет значительный теоретический интерес. В этих литературах стихотворная эпика непосредственно вырастает из фольклора. Поэтому важно выяснить, какие идейные, нравственные, этические накопления прошлых эпох оказались дееспособными в новых исторических условиях, какие элементы устной поэзии перешли в письменную, какой эволюционный путь они прошли в процессе становления национальных литератур и т.д.
Письменная поэма в адыгских литературах, повторимся, вырастает из богатых и разветвленных устно- поэтических традиций, многие из которых ещё не востребованы письменной словесностью, как они того заслуживают. А это, в свою очередь, объединяет панораму жанровой системы национальных литератур. Еще не освоена письменной поэзией, в частности поэмой, к примеру, историческая песня на тему антиколониальной борьбы горцев, хотя это благодатный материал для создания крупных стихотворных форм. Причины такого явления известны: колонизаторская политика русского самодержавия до недавнего времени выдавалась чуть ли не цивилизаторской. Мало привлекает внимание поэтов и махаджирская поэзия.
В связи со сказанным исследование проблем, связанных с генезисом и эволюцией поэмы в адыгских литературах, представляется вполне актуальным.
Адыгские фольклористы и литературоведы сделали очень много в изучении вопросов становления жанровой системы национальных литератур, в том числе и поэмы. Однако до сих пор нет специального монографического исследования, комплексно исследующего на материале всех адыгских лите ратур проблемы становления и развития сюжетно-повествовательной поэмы. Своей работой мы пытаемся в какой-то мере восполнить этот пробел в национальном литературоведении и фольклористике. Сказанным, представляется, определяется актуальность предлагаемого диссертационного исследования.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является исследование проблем, связанных с генезисом и становлением поэмы в адыгских литературах. В этой связи предпринимается попытка изучить вопросы национальных истоков и становления поэмы в адыгейской, кабардинской и черкесской литературах, выявить национальные художественные традиции, определить их роль в становлении жанров письменной литературы. Выдвинутая цель потребовала решения следующих задач:
- выявить национальные истоки письменной поэмы в адыгейской, кабардинской и черкесской литературах;
- изучить традиции, сложившиеся в стихотворно-песенных жанрах фольклора, начиная с нартских пшинатлей и кончая бытовыми песнями, и определить формы их вхождения в письменную культуру;
- выяснить, какие национальные художественные традиции оказали наиболее плодотворное влияние на жанрово-стилистические особенности литературной поэмы;
- попытаться исследовать сложный процесс взаимодействия фольклорных и литературных традиций, приобретающих в каждый период развития письменной словесности новые формы;
- выявить национальное своеобразие письменной поэмы в каждой из адыгских литератур.
Научная новизна предложенного диссертационного исследования, по нашему мнению, состоит в том, что в нем впервые в адыгском литературоведении предпринимается попытка комплексно изучить вопросы национальных истоков, становления и эволюции сюжетно-повествовательной по
эмы в родственных адыгских литературах, привлекая для этого весь имеющийся фольклорный и литературный материал.
Хронологические рамки работы охватывают период от зарождения письменных литератур до 50-х годов XX столетия, т.е. тот период литературной истории, когда фольклорно-литературные взаимосвязи выступают в наиболее «обнаженном» виде.
Методологической основой работы стали исследования известных отечественных фольклористов и литературоведов, касающихся нашей проблемы, а также труды специалистов, изучавших и изучающих фольклор и литературы абхазо-адыгских народов, в частности, вопросы жанрообразова-ния в поэзии, - А. Ахлакова, В. Агрба, А. Алиевой, А. Аншбы, Л. Бекизо-вой, X. Бакова, А. Гадагатля, А. Гутова, Л. Егоровой, С. Зухбы, Ш. Инал-ипа, Р. Мамия, 3. Налоева, У. Панеша, Ш. Салакая, М. Сокурова, А. Схаляхо, В. Тугова, 3. Толгурова, Ю. Тхагазитова, А. Тхакушинова, Р. Унароковой, А. Хакуашева, Р. Хашхожевой, В. Цвинария, Т. Чамокова, П. Чекалова, К. Шаззо, А. Шортанова, Ш. Шаззо, Е. Шибинской, Т. Эфендиевой и многих других.
Материалом исследования явились поэтические жанры адыгского фольклора и связанные с ними прозаические предания, поэмы в адыгейской, кабардинской и черкесской литературах. В необходимых случаях привлекаются и произведения абазинских и абхазских поэтов.
Если наши выводы и заключения окажутся научно состоятельными, они, как мы надеемся, «закроют» один из существенных «пробелов» в адыго-ведении, в частности, литературоведении, в какой-то степени окажутся небесполезными в общей теории жанрообразования, сыграют позитивную роль в написании научной истории адыгской письменной литературы. В этом видится теоретическое значение предлагаемого диссертационного исследования.
Практическое значение диссертационного труда, как мы надеемся, будет состоять в том, что оно может быть использовано в курсах «Теория литературы», «История адыгских литератур», в написании диссертаций, дипломных и курсовых работ, в общеобразовательных и специальных средних учебных заведениях северокавказских республик.
На защиту выносятся следующие основные положения:
1. Поэма в адыгейской, кабардинской и черкесской литературах занимает одно из ведущих положений; на ее генезис и становление определяющее влияние оказало художественно-поэтическое мировидение этноса;
2. В устной поэзии индивидуального творчества, явившейся переходным этапом к литературному, усиливается авторское начало и начинает реа-лизовываться свободная воля художника;
3. Авторы современной поэмы организовывают сложный повествовательный сюжет, создают многоплановую композицию, осмысливают крупные события национальной истории;
4. Поэма в адыгских литературах обладает национально- специфическим арсеналом изобразительных и выразительных средств, посредством которых она исследует национальную и социальную психологию человека, достаточно убедительно обосновывает причины и следствия его поведения.
Апробация результатов данного диссертационного исследования проходила в течении ряда лет в форме докладов и сообщений на итоговых ежегодных научно-практических конференциях: «Алневские чтения» (Кара-чаевск - 2000, 2001, 2002, 2003, 2004) Карачаево-Черкесского госуниверситета, «Художественно-историческая интеграция литературного процесса» (Майкоп - 2003); они обсуждались на заседаниях кафедры литературы КЧГУ, изложены в публикациях автора. Диссертация обсуждена и одобрена на объединенном заседании кафедр русской и зарубежной литературы, черкесской и абазинской филологии Карачаево-Черкесского государственного универси ? тета (март, 2004) и на кафедре русской литературы Кабардино-Балкарского государственного университета (апрель, 2004).
Национальные истоки литературной поэмы
Истоки жанров письменной литературы - в устном народном творчестве. Непосредственными источниками письменной поэмы в адыгских литературах следует признать нартские поэмы-пшинатли, исторические и историко-героические, разнообразные бытовые песни различного содержания. В возникновении и формировании литературной поэмы, безусловно, участвовали и другие жанры фольклора, в частности, лирическая песня и сказка, наполненная вымыслом, без которого не может обойтись ни одно литературное произведение.
Если верно, что прародительницей литературных жанров является эпическая поэма, переросшая в эпопею или обнаруживающая тенденцию к такому перерастанию, то отдаленные истоки литературы логично искать в героическом народном эпосе «Нарты». Дело, думается, в том, что героический эпос, дошедший до наших дней в фазе циклизации, имеет все признаки изображения эпической картины жизни сообщества людей-богатырей, живших, по народной памяти, в доисторическую эпоху. Циклы «Нартов» правомерно считать «поэмными» частями этой грандиозной эпопеи. Такое допущение косвенно подтверждается очевидной тягой сказаний об одном богатыре к складыванию в законченное эпическое повествование. Об этом вполне обоснованно говорит известный адыгский фольклорист A.M. Гутов в монографии «Поэтика и типология адыгского нартского эпоса». Ученый убежден, что «существование биографических» сюжетов - о рождении, богатырском детстве, гибели богатыря - означает тенденцию к осмыслению известных отдельных сказаний в контексте какого-то единого целого» [27; 16]. Уточняя мнение А.И. Алиевой, полагающей, что «встречаемая иногда многосостав-ность (сюжетов нартских сказаний - З.П.) - результат поздней контаминации» [7;115]. А. Гутов задается вопросом: «Но в таком случае закономерен вопрос: почему же в период затухания жанра эпические сюжеты объединя ются?» [27; 17] И приходит к выводу: «Видимо, причина такого явления скрыта... в традиции, в силу которой сохраняется (а отнюдь не появляется!) тенденция к контаминации, которая на стадии завершения продуктивного периода жизни эпоса воспринимается как стремление сугубо механически объединить разные сюжеты» [27; 17].
Развивая свою мысль, ученый формулирует ряд методологически важных для нашего исследования положений. Например: «Свидетельства К.Атажукина и С.Крым-Гирея и популярность «обрамляющих» биографию эпического героя сказаний о рождении и гибели позволяют считать, что в прошлом существовала традиция исполнять вместе ряд сказаний об одном нартском богатыре как одно цельное произведение. Судя по тому, что сказания о чудесном рождении и о гибели нарта Сосруко, видимо, изначально бытовали в прозе, форма народных сводов была смешанной, песенно-прозаической» [27; 17].
В 1864 году известный кабардинский просветитель К.Атажукин опубликованные им два текста нартских сказаний назвал «отрывками из народной поэмы» [172;142], а через год, в 1865, году С. Крым-Гирей писал: «Важнейшие старинные горские песни воспевают подвиги Георгия и неразлучного его друга-коня (Совсорук и его рыжий конь Тхозий). Собрание песен о Георгии и Рыжце составляет целую героическую поэму, наподобие Гомеровской» [134; 72].
Таким образом, уже в XIX веке было замечено, что в структуре эпоса наличествуют завершенные героические поэмы. Уже в наше время известный фольклорист М.Е.Талпа писал: «Сказания о нартах некогда были поэмами» [41;25].
Суммируя приведенные свидетельства, подчеркнем еще раз: нартский эпос - своеобразная народная эпопея, а тенденция к контаминации сюжетов -это стремление к созданию эпической поэмы, охватывающей всю жизнь богатыря. Отдельные пшинатли не что иное, как героические поэмы. Не требует, полагаем, особых обоснований то обстоятельство, что особенности сю-жетостроения, композиции, создания образов, языка и стиля эпоса оказали заметное влияние на другие жанры фольклора и через них ( а порою и непосредственно) и на возникшую в начале XX века письменную литературу.
М.Е. Талпа, проанализировав известный ему отрывок из пшинатля о Бадыноко, сделал один важный вывод: «Суровая выразительность короткого стиха, медлительное развитие действия, тормозимое диалогами, повтор стандартных формул и немногочисленных, но весьма постоянных эпитетов, редкие, но развернутые сравнения, отсутствие психологических мотивировок и исключительная законченность образов - таковы особенности этого отрывка» [41;25]. Отмеченные исследователем особенности поэтики нартского пшинатля перейдут в историческую и в историко-героическую песню XVI-XIX веков, приспособившись к новым общественным условиям и эстетическим запросам времени.
Проникновение элементов сюжетостроения, создания образов героев, поэтических троп, отдельных изобразительных и выразительных деталей героического эпоса в историческую песню было запрограммировано процессами, которые происходили внутри «Нартов» в период затухания эпической традиции. Именно в этот период, как убедительно показал А.Гутов, героический эпос начинает активно взаимодействовать с историко-героическим эпосом. Более того, историко-героическая поэзия постепенно замещает героический эпос. Это замещение обеспечивается естественной эволюцией устно-поэтической традиции народа, общественно-политической жизнью адыгов и историческими событиями XVI-XIX веков. Бурные исторические события периода привели к забвению или трансформации многих сказаний нартского эпоса; место эпических богатырей заняли «имена и подвиги конкретных лиц, проявивших себя в новых битвах» [27; 18].
О процессах, происходивших в фольклоре адыгов, в частности, в героическом эпосе, дает убедительное представление «Песня древних нартов», подробно проанализированная в монографии A.M. Гутова. Как отмечает исследователь, «специалисты обычно затрудняются, к какому жанру эпоса ее причислить - к героическому или к историко-героическому», ибо «по... поэтике и музыкальной фактуре она во многом отделилась от нартских песен и стоит ближе к жанру песен исторических» [27; 19].
Видимо, от нартского эпоса в песню перешли героические мотивы, типологически близкие к сказаниям о Сосруко; в ней присутствуют нартские богатыри младшего поколения - Батараз и Тотреш. В то же время, в отличие от нартских пшинатлей, в песне нет развернутого сюжета; композиционно она ближе к историческому эпосу, чем к героическому. В чем это выражается? В нартском эпосе, как давно известно, композиция сказания охватывает подвиг конкретного богатыря, образ которого раскрывается в действии. В «Песне древних нартов» нет какого-то конкретного героя. Мы уже сказали, что в песне упоминаются нартские богатыри Батараз и Тотреш, но их характеристика сводится к тому, что исполнитель отмечает их достоинства посредством оценочных эпитетов: Тотреш - «предводитель войска», «свирепый», «Батараз - «сын Хамышев», «гроза для целого войска», «со слоновым станом». Такая характеристика более органична для исторических песен, чем для героического эпоса.
Устная литература индивидуального творчества и ее роль в возникновении письменной поэмы
«Новая форма словесного искусства вырастает непосредственно на почве самой жизни...» - писал видный отечественный теоретик литературы В. Кожинов [47;42]. Это, кроме всего прочего, означает, что явления искусства, в том числе и словесного, нельзя изучать вне связи с историей народа. Время, события, обстоятельства, т.е. сама история, определяют характер и своеобразие типа художественного мышления. Весь XIX век (Кавказская война, махаджирство, проникновение товарно-денежных отношений в горскую патриархально-феодальную среду) и начало XX века (усиление колонизации Северного Кавказа, развитие капиталистических отношений, затем февральская и октябрьская революции) не могли не отразиться на образе мысли кавказских горцев, на их словесном искусстве. Это особенно наглядно проявилось в устной литературе индивидуального творчества, сочетающего в себе традиционное (общенародное) и личное творческое начало.
Как установлено в специальной литературе, зарождение адыгской устной литературы индивидуального творчества относится к концу XVIII-нача-лу XIX веков [36; 128]. Появление индивидуального творчества - это начало формирования нового типа художественного мышления, удерживающего в своей эстетике преемственность поэтической традиции и прокладывающего пути к субъективизации искусства. Отсюда становится понятным непреходящее значение индивидуальной устной литературы в эволюции художественной мысли народа.
Устная литература индивидуального творчества сохраняет генетическую связь с предшествующей художественной традицией, с одной стороны, а, с другой, приближается к письменно-литературным формам типизации и обобщения. Как видим , это - двуединый процесс.
Генетическая связь с предшествующей традицией ярче и нагляднее всего проявляется в том, что творчество индивидуальных авторов непосредственно вырастает из института гегуако.
Другими словами, корни нового художественного явления в творчестве народных певцов-гегуако. Мы не отбрасываем другие, может быть, не менее важные моменты, но считаем обоснованным подчеркнуть важнейший исток своеобразной «индивидуальной» поэзии, ибо между творческими принципами гегуако и поэтами индивидуального творчества обнаруживаются несомненные типологические схождения, как, впрочем, эстетические и иные параллели.
Об общественном положении гегуако, о силе их слова, об их личной самооценке, о значении их песен в жизни общества сказано много и справедливо. Но, пожалуй, общественное и социальное значение института гегуако и самих певцов глубже других вскрыл известный писатель-просветитель второй половины XIX века А-Г. Кешев в статье «Характер адыгских песен»: «Черкесские песни имели своих привилегированных составителей и хранителей - гегуако, напоминающих во многом средневековых трубадуров. Это были певцы-наездники, прославлявшие или произносившие строгий приговор над событиями и лицами своего времени... Встречались между гегуако и такие, которым могли бы позавидовать, в сознании своего достоинства и неподкупности своего дара, многие из поэтов образованных наций» (подчеркнуто нами - З.П.). Свои наблюдения подкрепляет писатель случаем из жизни. Он рассказывает о том, как некий влиятельный и с «европейским образованием» черкес, пожелал записать кое-что из репертуара приглашенного в дом и обласканного гегуако. Тот наотрез отказался и объяснил, почему: «На все просьбы и увещевания» гегуако извинился, тем, что он не продает своих песен ... не согласен, чтобы песни его сделались достоянием кого бы то ни было посредством письменного закрепления» [130;141].
Для нашей темы первостепенное значение имеет то, что поэт-импровизатор произносит строгий приговор над событиями и лицами своего времени. Традиционный сказитель, присутствующий во всех жанрах традиционного фольклора, обычно передает и оценивает дела давно минувших дней. Гегуако же судит о сегодняшнем дне. У него появляется авторское сознание. Эта традиция перейдет в новом качестве и в творчество авторов устной индивидуальной поэзии, а затем и в письменную литературу.
Самооценка гегуако почти текстуально будет повторена в широко цитирующейся статье A.M. Горького «Разрушение личности». Эта самооценка, считаем нужным отметить, еще нагляднее свидетельствует о возникшем и окрепшем авторском самосознании, обусловленном, как говорил Л.Н. Толстой, «сознательной силой художника». Без сознательной силы художника невозможно индивидуальное творчество, тем более письменно-литературное. И в этом аспекте творчество певцов-импровизаторов имеет немалую ценность. Институт гегуако, как и все общественные явления, не оставался неизменным во времени и обстоятельствах. Творчество гегуако должно было отражать реалии новой действительности. Ушла и функция трубадуров (с конца XIX века отпала необходимость сопровождать и вдохновлять вооруженные отряды; с отменой крепостного права не было уже нужды в придворных певцах и т.д.), но сохранило главное - социальную направленность песен и поэм, ориентированных на борьбу с многоликой социальной несправедливостью. В новейшее время гегуако превратились в распорядителей праздников с танцами и песнями. «Только в племенах, удерживающих цельнее древне-адыгский строй жизни у шапсугов и абадзехов, - писал А..-Г. Кешев, - гегуако сохранили до конца некоторое подобие угасших своих родоначальников» [130;141]. Каких бы изменений не претерпел институт гегуако, традиции народных певцов не канули в лету, а получили новую жизнь в творчестве творцов устной поэзии индивидуального творчества.
В XIX - начале XX вв.широкой известностью пользовались певцы-импровизаторы Лилюх Неш, Осмэн Шапсугский, Юсуф Хаджебиеко (Аб-редж), Хапит Хамакоко, (Хусен Бэчий), Дэгу Сэлэчэриеко (Магамет Едидж), Куйнеш Джанчатов, Тхайшау Аутлев, Патун Пшизов, Щэмэджук Дзыбов, Щэрабыку Туо, Гажуан Гучетль, Хаджибеч Анчок, Шаочас Тугуз, Цуг Те-учеж, Сагид Мижаев, Бекмурза Пачев и др.
Жанрово-стилевые особенности поэмы первого эта па развития адыгских литератур
Письменные литературы на адыгских языках, как и всех младописьменных народов бывшей Российской империи, возникли в начале XX века, и рождение их связано с событиями Октябрьской революции, кардинально изменившими всю общественную систему страны.
Формирование жанров прозы и поэзии в младописьменных литературах фактически шло синхронно, правда, с разной степенью интенсивности. В одних случаях на время вперед «вырывались» одни жанры, в других - другие. Так, например, в адыгейской и кабардинской литературах в первое же десятилетие их функционирования пишутся и печатаются стихотворения, поэмы, рассказы, очерки, пьесы, драматические произведения, повести и даже романы, а в черкесской жанр поэмы возникает лишь в послевоенные годы.
Возникновение и становление жанровой системы молодых литератур происходило в сложнейших обстоятельствах строительства «нового мира».
Новому миру и его новой литературе требовался новый человек, новый герой, который способен в короткие исторические сроки построить справедливый миропорядок, в котором не будет ни бедных, ни богатых, а все будут равны. Литература должна была поддержать этот тезис.
Как и всякое общественное явление, строительство нового мира - процесс диалектически сложный, противоречивый, сопровождающийся как позитивными, так и негативными последствиями. Советская власть «дала язык» почти всем «безъязычным» народам: были разработаны алфавиты, изданы учебники и учебные пособия, развернута сеть школ, стали появляться первые ростки письменной литературы и т.д.
Таким образом, новой литературе, в том числе, естественно, новописьменной, разрешалось быть только партийной, а писателям только по комму нистически идейными. Отсюда «возникала сложнейшая проблема: если есть или появляется литература, то должен же быть читатель, для которого она создается и при этом создается не просто художественная литература, а литература социально сверху ориентированная, литература на большевистских идеологических дрожжах. Естественно, и читатель должен быть социально ориентированным, идеологически воспитанным в духе новых понятий, отношений, социальных задач. Соотношение «писатель-читатель» становится замкнутым кругом. Писатель пишет те произведения, которые нужны для укрепления идеологии господствующего класса, а последний формирует именно такого читателя, которому неведомы другие произведения, нежели идеологически разрешенные» [82;43].
В таких сложно-неоднозначных условиях делают первые шаги новописьменные литературы. Самое трагическое заключалось в том, что естественное, эволюционное развитие художественного мышления прерывалось и декретивно переводилось на партийно-классовое. Это не могло дать сколько-нибудь ощутимых эстетических результатов. Поэтому позитивные художественные движения происходили на путях развития эстетических традиций, накопленных в тысячелетнем устном народном творчестве, а не путем «внедрения» пролеткультовско-рапповского идеологического мировоззрения, построенного по модели: черно-белое. Такая «методология» могла рождать только штампы, клише, более или менее образные, - в зависимости от индивидуального художественного таланта, - а не глубокое художественное исследование и воплощение в живых образах диалектически противоречивой реальной жизни, бытия отдельного человека и общества в целом. Как справедливо отмечает исследователь адыгейской поэзии, «о жизни настоящей, трудной, сложной, сплетенной из множества противоречий, о проблемах общества и личности, духовных, нравственных ее исканиях не говорили [поэты - З.П.] и говорить не могли» [99;211]. В этой общественно-идеологической обстановке, как уже говорилось, наиболее эстетически результативным, по естественной логике, стало продолжение накопленных (главным образом в фольклоре) художественных ценностей. Отказ «от дырявой рубахи Сосруко», как и ожидалось, оказался не только мало продуктивным, но неизбежно губительным. В этой связи вызывают восхищение те, которые добились эстетических достижений в темах современности.
В целом адыгская письменная поэзия 20-30-х годов, по справедливому заключению К. Шаззо, «была творчеством масс и обладала почти всеми особенностями сказовой поэзии. Облик творца, лирического индивида в стихах 20-30-х годов почти невозможно уловить. Даже и тогда, когда поэт говорил от лирического «я», он говорил от имени масс, выражал их мысли, чувства, говорил их языком, ориентировался на их жизненный и эстетический опыт» [97;72].
Для нашей темы определяющее методологическое значение имеет обобщающая мысль исследователя: «Народная поэзия создает характер, воплощающий в себе все лучшее, духовно и интеллектуально здоровое в нации, но индивидуального выражения этих качеств в личности почти не наблюдается в ней. Младописьменная поэзия, переняв эту особенность у устного творчества, приспособила ее для выражения общественного подъема. В ней нет еще человеческого характера, но есть характеристика народа. И ее волнует то, что выражает настроение, пафос обновленной жизни наро-да»[97;73].
Отмеченная особенность устно-поэтического творчества стимулировала появление в 20-30-е годы больших стихотворных произведений - эпических поэм, «определивших главные успехи новописьменной поэзии» [36;227]. Выделяются две разновидности сюжетно-повествовательной поэмы. Первая - это эпические произведения, сюжетом которых становится конкретный фольклорный памятник, или оно конструируется из мотивов устного народного творчества, другая - это поэмы, повествующие о реальной - исторической или современной - действительности. Композиция поэмы своеобразно «сопрягает» прошлое и настоящее: поэмы о прошлом почти во всех случаях выходят на современность, а современность - возвращается в прошлое. В том и другом случаях поэт утверждает одну и ту же мысль: в прошлом все было плохо, в настоящем хорошо. Редко кому из авторов удавалось выходить из этой схемы. Разница лишь в эстетическом уровне произведений, что, в свою очередь, зависит от таланта, гражданского мужества и нравственной зрелости поэта. Эта тенденция явна в адыгских литературах, как впрочем, и во всех новописьменных литературах Российской Федерации.