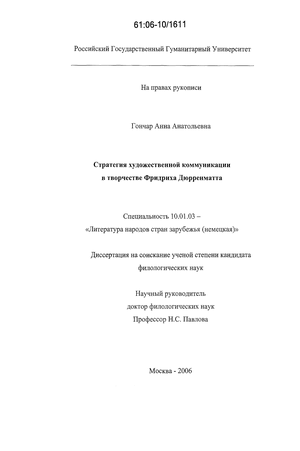Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Художественное пространство как поле реализации художественной коммуникации 31
1.1 Значение границы 31
1.2 Топос Лабиринта 43
Глава 2. Характер и значение диалога в художественной коммуникации Фридриха Дюрренматта 62
2.1 Диалог в пьесах Фридриха Дюрренматта 62
2.2 Диалог в прозе Фридриха Дюрренматта 89
Глава 3. Роли автора и читателя в художественной коммуникации Фридриха Дюрренматта 103
3.1 «Субъективная камера» как форма авторского присутствия 103
3.2 «Рассказ в рассказе» как форма коммуникативной установки автора в художественной коммуникации 116
3.3 Ремарки как проявление авторского присутствия 120
3.4 Роль читателя/зрителя в художественной коммуникации 128
Заключение 137
Библиография 144
- Значение границы
- Диалог в пьесах Фридриха Дюрренматта
- «Субъективная камера» как форма авторского присутствия
Введение к работе
Фридрих Дюрренматт (Friedrich Diirrenmatt, 1921 -1990) - одна из крупнейших фигур не только швейцарской, но и мировой литературы XX века. Начав с рассказов (часто абсурдных и мрачных), он перешел к крупной прозаической форме - романам, и, наконец, к признанной вершине его творчества - драматургии. Остро очерченная проблематика и своеобразие художественного мира вызвали быстро возраставший интерес к его творчеству не только в Швейцарии, но и за ее пределами. Пик популярности Фридриха Дюрренматта пришелся на шестидесятые годы. Пьесы «Ромул Великий» (1949), «Визит Старой Дамы» (1956), «Физики» (1962) обошли сцены мира. На какое-то время Дюрренматт становится популярен и в Советском Союзе. В 1962 году пьесу «Физики» ставит Ленинградский театр комедии, а затем и Театр Советской Армии в Москве. По комедии «Визит Старой Дамы» был снят художественный фильм. Произведения Дюрренматта многократно издаются - до тех пор, пока знакомство не прерывается на много лет резкими выступлениями писателя против вторжения советских танков в Прагу. С восьмидесятых годов произведения Дюрренматта вновь издаются и переиздаются на русском языке. В девяностые годы выходит собрание сочинений Фридриха Дюрренматта в пяти томах1, подготовленное Е. А. Кацевой и В. Д. Седельником.
Среди первых отечественных значительных работ о Дюрренматте нужно назвать книгу Н. С. Павловой «Фридрих Дюрренматт» (М.,1969) и ее же большую
1 Фр. Дюрренматт. Собрание сочиненир в пяти томах. Харьков «Фолио», Москва АО Издательская группа «Прогресс», 1997.
работу «Концепция современной пьесы в творчестве Дюрренматта» ( в книге «Швейцарские варианты» М, 1990, определившую место Дюрренматта в современной европейской драматургии; работы В. Д. Седельника, Д. В. Затонского.
Зарубежная литература о Дюрренматте огромна. Наиболее полное собрание его сочинений вышло в свет в 1980 году. Непросто выделить самые значительные теоретические исследования, посвященные творчеству Дюрренматта. Очертим лишь самый общий их круг - это работы Э. Брок-Шульцер, М. Эслина, Г. Хартмана, Т. Тюсанена, М. Пеппарда и многих других.
Что же в таком случае представляется в творчестве Дюрренматта не исследованным или не до конца исследованным? Что подвинуло автора на написание данной работы?
Актуальность диссертации определена ее проблемой: творчество Дюрренматта рассматривается в ракурсе художественной коммуникации между автором и читателем-зрителем. Материалом исследования служат как прозаические, так и драматические произведения писателя. Рассмотрены аспекты, важные для понимания специфики художественной коммуникации у Дюрренматта. Выявлена система приемов и образов, на основе которых выстраивается диалог автора с читателем.
Вопрос о характере художественной коммуникации у Дюрренматта до сих пор почти не затрагивался исследователями. Теоретическая разработка данной проблемы, в свою очередь, оставалась в стороне от конкретного анализа его творчества. Между тем, расчет на коммуникацию с читателем и зрителем составляет самое существо творческой установки Дюрренматта.
Как показано в диссертации, вся система его творческих возможностей подчинена непрекращающейся игре с читателем и зрителем, вовлечению их в беспрерывный процесс узнавания, стимулированного чередой неожиданностей.
Несмотря на то, что еще при жизни Фридрих Дюрренматт был отнесен к современным классикам, а его творчество было рассмотрено, казалось бы, со всех сторон, проблема художественной коммуникации до сих пор выпадала из поля зрения исследователей. В центре внимания оставались, по преимуществу, этические и политические проблемы. Так это было в работах В. Бергхана (W. Berghan), Г. Бинека (Н. Bienek), Д. Даво (D. Daviau) из зарубежных исследователей, а из отечественных авторов - в работах В.Д. Седельника, Л. Невской, А. Френина. Внимание привлекало также типологическое сопоставление произведений Дюрренматта с творчеством писателей, представлявшихся наиболее важными для него - Ф. Кафкой, Б. Брехтом, драматургами-экзистенциалистами Сартром и Камю, а в дальнейшем и с произведениями абсурдистов Беккета и Ионеско. Этим темам посвящены исследования М. Пеппарда (М. Peppard), Н.С. Павловой, Д.В. Затонского. Такие сопоставления в достаточной мере определяли, как представлялось, художественное своеобразие Дюрренматта. Проблема художественной коммуникации отодвигалась на задний план.
Книга Н.С. Павловой «Фридрих Дюрренматт» (1969) была одной из первых появившихся у нас работ о Дюрренматте, открыв швейцарского автора для советского читателя. Она дала полный (на то время) очерк его творчества при тонком анализе его поэтики и жанрового своеобразия. Сказанное в книге получило дальнейшее развитие в ее работе «Концепция современной пьесы в творчестве Дюрренматта», сопоставившей его драматургию с традицией (театр почитавшегося Дюрренматтом австрийского драматурга Нестроя) и современной писателю европейской драматургией (театр абсурда, Сартр, Камю). Однако работы Павловой не рассматривали установку автора на реакцию зрителя-читателя. Правда, в своей книге Павлова говорит о расчете Дюрренматта «на удивление» читателя. Прослеживая развитие и трансформацию этого приема со
6 времен Рембо и Аполлинера, исследовательница сравнивает «удивление» у Дюрренматта с «очуждением» (Verfremdungseffekt) у Брехта и абсурдистов: «Удивление в его творчестве часто будит мысль..., писала она, - Однако порой мысль Дюрренматта как будто застывает, он не видит возможностей изменения мира, и тогда гротеск у Дюрренматта ближе к той безнадежной картине, которую создают на сцене драматурги «абсурдного театра»2. Изучение самой природы «удивления» в творчестве Дюрренматта не становится тут предметом исследования и оценивается как локальный прием. О причинах использования «удивления» Дюрренматтом в характерной для него форме не говорится. В результате за рамками работы остается такая основополагающая установка автора как провокация.
Ближе к данной проблеме подходит Д. В. Затонский в работе «Дюрренматт и детективы» (1975). Затонский так же акцентирует внимание на сходстве художественного метода Дюрренматта с брехтовским «очуждением», называя его провокацией читателя. Провокация рассмотрена Затонским в связи с законами детективного жанра, к которому тяготеет, по его наблюдению, все творчество швейцарского писателя. Так, комедии Дюрренматта представляют собой череду изменений, по природе своей детективных (на ряде таких изменений, в частности, построены комедии «Визит Старой Дамы» и «Физики»). Но основной интерес в данной связи для исследователя представляют романы и повести Дюрренматта, еще более откровенно следующие законам детективного жанра.
Затонский отмечает важную особенность детективного жанра, апеллирующего не столько к чувству, сколько к рассудку читателя: «Детективный автор (по крайне мере такова его первейшая отличительная черта) задает нам задачу логическую. Мы вместе с ним пытаемся ее решить». Но именно рассудок
2ПавловаН.С. Фридрих Дюрренматт М., 1967. С. 32
3 Затонский Д.В. Дюрренматт и детективы. М., 1975. С. 262
оказывается обманут в произведениях Дюрренматта. Именно «детективный» подход позволяет автору, пишет Затонский, играть с читателем. Однако (и эта мысль исследователя особенно важна для данной диссертационной работы), Дюрренматт и нарушает жанровые каноны детектива. В романе «Обещание» расследование спотыкается о пустяк, а преступление и вовсе остается нераскрытым, что противоречит традиции жанра. Дюрренматт нарушает и такую ключевую заповедь детективного романа, как неуместность для читателя эмоционального вживания в сюжет: его читатели начинают сопереживать герою-следователю. Именно поэтому, по мысли Затонского, Дюрренматт сопроводил роман «Обещание» подзаголовком «Отходная детективному жанру»: «... Это не критика, а попытка запустить старую модель по-новому, или, еще точнее, использовать энергию, высвободившуюся при экспериментальном ее разрушении» .
Данный вывод исследователя важен для понимания природы провокации у Дюрренматта. Провокация в его творчестве распространяется не только на средства выражения, но изменяет и само существо жанра. В итоге «детектив» Дюрренматта претерпевает глубинные изменения, опрокидывающие жанровые каноны.
К аналогичным размышлениям о провокативной природе пьес Дюрренматта приходит Д. В. Затонский и в статье «Шекспир, Стриндберг, Дюрренматт - и современное искусство».5 Здесь автор исследует природу и цели «переработок» Дюрренматтом известных сюжетов. Вопреки распространенной в тот период критике дюрренматтовских «переработок» (дюрренматтовские «переработки» подверглись резкой критике, в частности, со стороны В.Д. Седельника, Л.
4 Указ. Соч. С. 271
5 Затонский Д.В. Шекспир, Стриндберг, Дюрренматт - и современное искусство // Иностранная
литература. М., 1974. № 8.
Рондели), Затонский видит в новых произведениях автора собственный почерк и задачи. Сравнивая «переработки» Дюрренматта с «очуждающим» методом Брехта, исследователь отмечает: «События, происходящие на сцене, для обоих драматургов - не более как примеры, доводы в споре, самостоятельного значения не имеющие, ни о чем прямо не свидетельствующие. Они не столько выявляют человеческие характеры, сколько очуждают критикуемую действительность и провоцируют зрителя, побуждая занять по отношению к ней некую позицию».6 На примере пьесы Дюрренматта «Играем Стриндберга» (переработке романа А. Стриндберга «Пляска Смерти») Затонский рассматривает механизмы переосмысления и снижения «высокой» тональности Стриндберга. Стриндбергским ситуациям придается характер абсурдности, что создает иную художественную реальность пьесы. Исследователь, в частности, тонко подмечает, что если герои романа Стриндберга жили в здании бывшей тюрьмы (что символизировало их безысходность), то герои Дюрренматта живут над действующей тюрьмой, что делает всю ситуацию анекдотичной и абсурдной. Образ каждого героя доводится драматургом до «наихудшего конца», и вот уже дочь Алисы и Эдгара не чистая девушка, как это было у Стриндберга, а проститутка, Курт - сбежавший преступник. «В своей «перелицовке» Дюрренматт спрямляет, снимает двусмысленность... Но не потому, что в отличие от Стриндберга, Дюрренматту вполне понятны его герои, а потому, что берет он их как «человеков внешних». Перед нами снова притча, парабола, тщательно выстроенная схема».7
Во многом полярную точку зрения на драматургические опыты зрелого Дюрренматта представляет позиция другого отечественного исследователя В.Д. Седельника. Исследуя в статье «Открытие действительности, поиски героя.
6 Указ. Соч. С. 214
7 Указ. Соч. С. 219
(Швейцарская литература в 70-ые годы)»8 пьесы Дюрренматта семидесятых годов, Седельник говорит об угасании мастерства и утрате былой живости, об «иссушении» Дюрренматтом классических пьес Шекспира: «Убирая субъективно-личностные мотивировки, до предела урезая диалоги, оставляя от классических пьес одну только голую сюжетную схему, он лишал их глубины и перспективы». Отмечая как характерное для модернистской литературы очевидное тяготение Дюрренматта к гротеску, к теме смерти и отчаяния, Седельник приходит к неутешительному выводу о творческом «тупике» драматурга: «Трагикомический гротеск, как известно, дело серьезное, требующее сбалансированного соотношения комических и трагических элементов в общей структуре произведения и даже каждого эпизода. Преобладание комизма неизбежно ведет к легковестности. И наоборот: нагнетание мрачных тонов оборачивается утратой цельности, исчезновением контрастирующего момента. Именно это характерно для последних пьес».10
Как видим, данная позиция никоим образом не учитывает ориентированность пьесы на зрителя (читателя). Между тем, по нашему мнению обнажение структуры, упрощение текста вызвано у Дюрренматта именно этим. Опыты Дюрренматта оцениваются Седельником (и не только им - смотри, например, статью Л. Рондели11) как неудача драматурга, а отсутствие психологизма - как упрощение героя. Меж тем, на наш взгляд, драматург преследовал цели иные, а именно - установить диалог со зрителем, наполнить сценическое действие новым ритмом, адекватным современному театру, где зрительское соучастие есть непременное условие спектакля.
Седельник В.Д. Открытие действительности, поиски героя. (Швейцарская литература в 70-ые годы) // Вопросы литературы М., 1982. №2. 9 Там же. С. 125 10Там же. С. 125 11 Рондели Л. Надо ли защищать Дюрренматта? // Огонек М., 1974. №6
Зарубежные исследователи творчества Дюрренматта в большинстве своем разграничивают его прозаические и драматические произведения. Бесспорными вершинами творчества Дюрренматта до сих пор признаются комедии драматурга - «Визит Старой Дамы», «Физики», «Метеор». Малая проза Дюрренматта чаще обходится стороной, а детективные романы рассматриваются как его периферийные опыты. Подобный подход представляется нам непродуктивным, ибо мешает уловить некоторые общие законы его творчества, в частности, важнейший для Дюрренматта расчет на реакцию читателя-зрителя.
Абсолютное большинство работ, посвященных творчеству Дюрренматта, игнорирует вопросы рецепции, не рассматривает читателя и зрителя как непосредственного участника коммуникации, участника, во многом определяющего природу художественного высказывания. В итоге произведение воспринимается как внутренне застывшая форма, не зависящая от зрителя или читателя и от игровой площадки сцены. Нельзя не согласиться с Т.А. ван Дэйком (Т. A. Van Dijk), некогда сказавшим: «Писатели создают формы и значения, которые предположительно понятны читателю или которые могут быть эксплицитно ему адресованы, которые возбуждают реакции и которые вообще ориентированы на получателя, как это происходит в разговоре. В случае письменной коммуникации писатели и читатели участвуют в процессе социокультурного взаимодействия».12
Творчество Дюрренматта оказывалось изолированным от живой связи с воспринимающей аудиторией, на контакт с которой оно и рассчитывало. Находки и открытия писателя, служившие именно этой цели, оказываются незамеченными или лишенными своего живого содержания. Именно такой подход до сих пор преобладает и у зарубежных исследователей, сужая возможности анализа и понимания творчества Дюрренматта.
Дэйк ван Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989. С. 122-123
11 В связи с вышесказанным важно выделить некоторые зарубежные работы, представляющиеся наиболее ценными для решения поставленной в диссертации задачи. Необходимо отметить работу В. Бьялика «Эстетизация категории случая в
немецкоязычном романе XX века», которая кажется нам крайне интересной. Исследуя одну из определяющих для мира Дюрренматта категорий, В. Бьялик приходит к важному выводу о том, что, вмешиваясь в ход событий, случай привносит в его творчество некую парадоксальную логику. Но, к сожалению, автор этим и ограничивается, так и не перейдя к размышлениям о возможностях и художественном пространстве, открываемом парадоксальной логикой.
С проблемой диссертации соприкасаются исследования, посвященные гротеску в произведениях Дюрренматта. Именно в них ряд авторов приближается к вопросам художественного воздействия на читателя/зрителя. Таковы работы Рейнхольда Грима (R. Grimm, 1962), Тимо Тюсанена (Т. Tiusanen, 1977) , Кристиана Ёслина (С. М. Jauslin, 1964), Ульриха Профитлиха (U. Profitlich, 1973) и Герберта Хартмана (Н. Hartmann). Эти исследования дают определение специфической функции гротеска в художественном мире Дюрренматта.
Рейнхольд Гримм в работе «Пародия и гротеск в работах Дюрренматта» (1962) усматривает в гротеске исходную структуру произведений писателя. Гримм опирается на определение гротеска, данное В. Кайзером: «Auflosung der normalen Anschauungskategorien» и «unmittelbares Zusamenfiigen von Kontrasten» («утрата нормальных категорий восприятия и непосредственное соединение контрастов»). Именно по таким законам, по мнению Гримма, существует художественная реальность Дюрренматта. Гримм понимает гротеск как структурообразующую характеристику мира Дюрренматта, воплощенную на различных уровнях его произведений - от характера диалогов до обезличенных
13 Bialik W. Die Astetisierung der Kategorie des Zufalls im deutschsprachigen Roman des XX. Jahrhunderts Poznan, 1978
героев-масок. Гротеск выражается в редукции речи и схематизации образов,
приводя к намеренной механистичности художественной реальности. "Образы
бесформенного, безликого и неуловимо отчужденного приводят к
демоническому, образы предопределенного, готового, уже имеющегося порождают пародию."14
Вслед за Гриммом Герберт Хартман основывает свою работу «Фридрих Дюрренматт: драматургия реальности или фантастика, провокация или отрицание?» на анализе роли гротеска в художественном мире Дюрренматта. Хартман выделяет «деформирующий стиль» как неотъемлемое свойство гротеска и, следовательно, художественного метода писателя. "Чисто-формальные средства, с которыми работает гротеск, в совокупности можно охарактеризовать как деформирующий стиль. Этот стиль основан на нарушении и искажении естественных пропорций. Так, к примеру, нарушения перспективы разрушают пространственные и временные структуры, что создает впечатление ирреального и фантастического."15 Автор рассматривает "деформированный стиль" на всех художественных уровнях пьес Дюрренматта - от композиции, которая представляет собой линейное развитие «неоднородных сцен», до языка комедий (проза не попадает в круг интересов исследования). Речь героев, согласно
14 «Die Gestaltung des Ungestalten, des Gesichtslosen und ungreifbar Fremden ffihrt zum
Damonischen, die Gestaltung des Vorgeformten, Fertigen und Vorhanden zur Parodie» Grimm R.
Parodie und Groteske im Werk Dtirrenmatts II Der unbequeme Durrenmatt. Basel. Stuttgart, 1960. S.
94.
15 «Die rein formalen Mittel, mit denen der Grotesk gestalter arbeitet, konnte man zusammen fassend
als Deformationstil bezeichnen. Dieser Deformationstil beruht auf der Auflosung und Verzerrung der
natiirlichen Proportionen. So werden z. B. durch perspektivische Verschiebungen raumliche und
zeitliche Strukturen aufgelost, so dap oftmals der Eindruck des Irrealen und Phantastischen entsteht."
Hartmann H. "Friedrich Durrenmatt: Dramaturgie der Realitat oder der Phantastik, der Provokation
oder der Resignation? Marburg/Lahn. 1971. S. 13.
Хартману, также демонстрирует «деформирующий стиль». "Язык как основное средство коммуникации между людьми искажается «двойным дном», наслоением друг на друга различных слоев языка и совершенной утратой логики речи."16
Так возникает «сценическая неоднородность», акцентированная Хартманом в комедиях Дюрренматта, - основная для исследователя характеристика драматургического метода швейцарского драматурга. Сценическая неоднородность включает несколько составляющих: «классицистическое» единство сюжета + двойное дно + контрасты + стилизация. Именно «сценическая неоднородность» становится конкретным художественным средством, способным создать гротескный «деформирующий стиль» Дюрренматта. Соединяя в одной сцене несогласованное многоголосье персонажей, создавая комедийную дистанцию к напряженности сюжета, нагнетая темп, Дюрренматт стремится, по мысли Хартмана, погрузить читателя в парадоксальную действительность.
Исследования Р.Гримма и Г.Хартмана углубленно рассматривают проблему гротеска в творчестве Дюрренматта. Однако и они не переходят от рассуждений о гротеске к существу его роли в произведении Дюрренматта.
Именно этот вопрос - вопрос о роли гротеска в произведении в целом -занимает Кристиана Ёслина в его работе «Фридрих Дюрренматт. О структуре его пьес». Его исследование опирается на работу Гримма и созвучно наблюдениям Хартмана. Но Ёслин совершает качественно новый шаг в изучении творчества Дюрренматта, переходя от исследования гротеска и абсурдной картины мира к их функции в произведениях писателя. Важно и то, что Ёслин проводит комплексный анализ творчества автора от ранней малой прозы до его зрелых драматических произведений.
16 «Die Sprache als Hauptkommunikationsmittel zwischen den Menschen wird durch Doppelbodigkeit, Sprachcshichtenuberlagerung oder durch ganzliche Auflosung der Sprachlogik verzerrt». Указ. соч. S. 13.
Если Гримм полагал гротеск основополагающей структурой произведений Дюрренматта, то Ёслин в качестве такой структуры видит провокацию, для создания которой и используется гротеск и пародия: «Суть подобной структуры можно сформулировать следующим образом: драматургия провокации. Зрителю предлагается ложный вывод, которого он и придерживается в течение всего действия. Но в финале когтистая лапа автора хватает его за плечо и выхватывает из этого летаргического состояния: трудно решить, в какой мере этот неожиданный поворот действия к полной противоположности оказывается
достаточно сильным по своему воздействию." Зритель или читатель погружаются автором сначала в комфортную, но провокационную иллюзию всезнания. При этом в подобной авторской провокации гротеск - не цель, а лишь средство выражения. Редуцируя характеры, искажая саму логику происходящего, гротеск и пародия превращают повествование или сценическое действие в авторскую игру, преследующую цели, скрытые от глаз наивного зрителя. Впервые в исследованиях творчества Дюрренматта К. Ёслин обращает внимание не на частные решения, а на всеохватное значение такого мощного средства выражения, как гротеск.
Подобный подход наиболее близок данной диссертационной работе и является, вероятно, наиболее комплексным по сравнению с другими вышеупомянуты ми исследованиями. Здесь впервые совершается переход от частного к всеобщему, исследователю впервые удается отрешиться от анализа
l7«Man kann diese Struktur vielleicht mit der folgenden Formel erfassen: Dramaturgie der Provokation. Dem Zuschauer wird eine Losung mundgerecht gemacht, und er laBt sich von dieser Losung uberzeugen, aber am SchluB wird er plotzlich aus seiner Lethargie herausgerissen und an der Schulter gepackt mit der Theaterpranke des Autors. Wie weit diese plotzliche Wendung am SchluB immer zu genugend starker Wirkung kommt, laBt sich nur schwer entscheiden» Christian M. Jauslin "Friedrich Durrenmatt. Zur Struktur seiner Dramen" Zurich, 1964. S. 120.
эффектных средств выражения и обратиться к общему их назначению и конечному смыслу.
Говоря о художественной коммуникации в творчестве Дюрренматта, мы намеренно не будем подробно останавливаться на таких основополагающих для его мира проблемах, как роль случая или абсурдность. Случаю и парадоксальности художественного мира Дюрренматта было посвящено достаточное количество исследований. Это, пожалуй, самый изученный аспект его произведений. Наиболее полное и интересное для нас исследование было проведено Гертнером Хартманом в книге «Фридрих Дюрренматт. Драматургия реальности или фантастики, провокация или нигилизм?». Мы высоко оцениваем эту работу. Естественно, за парадоксальной действительностью Дюрренматта, в которой властвует роль случая и смещены границы верха и низа, просматривается гротеск. По мысли Хартмана, «этот род инициированной автором игры не может больше освобождать зрителя, но оставляет чувство одураченности и дискомфорта. Это, как кажется, существенно обусловлено тем, что зритель начинает чувствовать себя лично задетым парадоксами и не может больше дистанцироваться от
увиденного, но и интегрирует его как данность своего окружения".
Как уже говорилось выше, исследователи и критики неоднократно пытались объяснить феномен Дюрренматта, сравнивая его художественный метод с методом Кафки, Брехта или абсурдистов (и это далеко не полный список возможных сопоставлений его творчества). Тем не менее, большинство исследователей сходится во мнении, что это автор не только весьма и
«Dieser Art des vom Autor initierten Spiels vermag auf der Seite des Zuschauers nicht mehr zu befreien, sondern es hinterlaBt ein Gefuhl der Dumpfheit und Bedriickung. Das scheint wesentlich dadurch bedingt zu sein, daft der Zuschauer sich durch das Paradoxe zunehmend personlich angegrieffen ffihlt und sich mehr distanzieren kann, sondern es als eine Gegebenheit seiner Umwelt integriert" Herbert Hartmann "Friedrich Durrenmatt: Dramaturgie der Realitat oder der Phantastik, der Probokation oder der Resignation?" Marburg/Lahn, 1971. S. 117.
16 принципиально отличный от всех объектов сопоставления, но противоречащий самому себе. «Неудобный Дюрренматт» - именно так обозначила автора современная ему литературная критика.19 Возможно, злую шутку сыграл с критиками сам Дюрренматт, неоднократно просивший не причислять его ни к одному из современных литературных направлений и, кроме того, способный ввести в заблуждение собственными его размышлениями о театре, литературе и самом себе. Его перу принадлежат работы по теории драмы с наблюдениями из личного писательского опыта и общими философскими рассуждениями, сбивавшие с толку большинство исследователей. Среди этих работ наиболее значительна его книга «Проблемы театра» ("Theaterprobleme", 1955). В этой работе он в парадоксальной форме изложил свое представление о том, что современный мир может быть изображен в театре только в форме комедии. Теперь невозможен, полагал драматург, прежде всего трагический герой: «Дело Антигоны решают секретари Креона», а сами Креоны несравненно ничтожней причиненного ими зла. Позднее доклады и статьи Дюрренматта о театре были объединены в двух томах «Статьи и выступления о театре» ( «Theaterschriften und Reden», 1966- 1972). К концу жизни он выпустил сборник своих статей, эскизов, ранних версий опубликованных произведений и воспоминаний «Материалы» ("Stoffe 1-111",1981). Во всех этих работах драматург сказал, может быть, слишком много о том, как надо воспринимать его творчество, тем самым, заставив критиков следовать по определенному им пути, пути, самому по себе порой противоречивому и провокационному. В итоге исследователи нередко ссылаются на одни и те же теоретические рассуждения Дюрренматта, будто не решаясь взглянуть на творчество писателя непосредственно. Как заметил Тимо Тюсанен, "раздразнив критиков отказом предложить «яйцо понимания» к прочтению своих
19 Brock-Sulzer Е. Friedrich Dtirrenmatt Stationen seines Werkes. .Zurich, 1964.
20 DiirrenmattF. Theaterprobleme. Zurich, 1955. S. 44.
пьес,.. Дюрренматт предложил столько «яиц», что мало кому под силу оказалось приготовить из них омлет."21
Разумеется, подобная «легковерность» относится далеко не ко всем критическим работам о Дюрренматте. Ганс Бадертшер (Н. Badertscher) в своем исследовании «Драматургия как функция онтологии» особое внимание уделяет проблеме зрительского восприятия драматургии Дюрренматта, по существу, развивая мысли Г. Хартмана, «автор рассчитывает и сознательно использует иллюзию и ее силу, чтобы перехитрить зрителя. Ловушка реализуется включением зрительских ожиданий в сценическую технику, доводится до совершенства и обосновывается ею».22
Исследователь отмечает, что воздействие на зрителя начинается у Дюрренматта непосредственно с первых же намеренно игровых и легких сцен, создавая у зрителя доверие к себе и задавая его исходную пассивность. Тем острее в дальнейшем зритель будет поставлен перед лицом истинного сценического конфликта. По мысли Ганса Бадертшера, основной сценический конфликт, конфликт ценностей, вынуждает затем зрителя к максимальному интеллектуальному усилию. f
На материале пяти комедий драматурга - «Ромул Великий», «Физики», «Ангел приходит в Вавилон», «Брак господина Миссисиппи» и «Визит Старой Дамы» - исследователь составляет схему зрительской реакции на сценический сюжет. Выберем одну из перечисленных пьес Дюрренматта - комедию «Физики».
21 «he once teased his critics by refusing to lay "the egg of explanation" in the henhouse of his plays"...
Durrenmatt has laid so big a basketful of eggs that one does not know how to make an omelet of them"
Tiusanen T. Durrenmatt. A study in plays, prose, theory. Princeton, 1977. P.7.
22 "Mit der Tatsache der Illusion und ihrer Macht rechnet er aber und setzt sie bewuBt ein, um den
Zuschauer zu "uberlisten". Die Falle wird durch das Einbeziehen der Publikumserwartungen in die
Technik der Sfficke beinahe zur Perfektion gebracht und lasst sich von da her begrunden" Badertscher
H. Dramaturge als Funktion der Ontologie. Bern, Stuttgart, 1979. S.87.
Согласно исследованию Бадертшера, зрительское восприятие состоит из пяти фаз, непосредственно связанных с пятью фазами развития действия пьесы:
Фаза 1: Криминальное происшествие в сумасшедшем доме дистанцирует зрителя от сценического действия легкостью и комичностью происходящего.
Фаза 2: "Revolverszene", как называет ее Бадертшер, - агенты двух секретных служб признаются в своих тайных мотивах. В этот момент зритель неожиданно для себя вынужден занять ту или иную позицию относительно взглядов и намерений персонажей. Зритель превращается в судью, выбирая сторону «добра».
Фаза 3: Трое физиков оказываются изолированными в сумасшедшем доме. Нарастание напряжения сопровождается укреплением зрительской солидарности.
Фаза 4: Империя фройлян фон Цанд, директора лечебницы. Ложные представления зрителя разрушаются, а все происходящее на сцене превращается в судебный процесс над обвиняемыми.
Фаза 5: Монологи физиков. В этот момент зритель-судья выносит свой окончательный приговор происходящему на сцене.
Результатом подобной «техники-мышеловки» становится сокращение дистанции между зрителем и сценой и, как следствие этого, рост дистанции между зрителем и его восприятием происходящего на сцене. Благодаря сращению двух тенденций зрительского восприятия происходит финальное изменение зрительской точки зрения. В этом, по мнению Ганса Бадертшера, и состоит основная характеристика драматургического метода Дюрренматта, основа его художественного диалога со зрителем.
Данная позиция вызывает несомненный интерес и, вне всякого сомнения, заслуживает самого пристального внимания. Действительно, сокращение дистанции между зрителем и сценой за счет активации зрительской позиции является одной из основных и наиболее своеобразных составляющих
драматургического метода Дюрренматта. Вместе с тем, данная характеристика является скорее следствием, чем основой его метода. Активная роль зрителя -лишь одна из сценических возможностей, реализованных Дюрренматтом. Драматург приходит к ней, выстраивая драматургические и коммуникативные приемы художественного диалога. Эти приемы не закреплены ни за одним из родов литературы, а характерны, в первую очередь, для коммуникации в целом. Именно такие приемы свойственны художественной практике Дюрренматта всех периодов его творчества - от ранних рассказов до поздних пьес и детективных романов. Речь идет о художественной провокации.
Для теоретического обоснования понятия «художественной провокации» необходимо обратиться к понятию коммуникации как таковой.
Мы будем отталкиваться от понятия коммуникации, сформулированного Романом Якобсоном. В любом акте речевого общения Якобсон выделяет его неизменные составляющие: адресанта, посылающего адресату свое сообщение посредством кода, общего для обоих. «Чтобы сообщение могло выполнять свои функции, необходимы: контекст, о котором идет речь; контекст должен восприниматься адресатом, и либо быть вербальным, либо допускать вербализацию; код (code), полностью или хотя бы частично общий для адресанта и адресата (или, другими словами, для кодирующего и декодирующего); и, наконец, контакт (contact) - физический канал и психологическая связь между адресантом и адресатом, обусловливающие возможность установить и поддерживать коммуникацию». Конечно, необходимо оговориться, что данное определение дано применительно к акту речевого общения, то есть живого диалога. Контакт, эмоциональная связь между участниками - крайне важная характеристика живого общения. По нашему мнению, данная характеристика является определяющей в осуществлении коммуникации. Можно представить
23 Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против». М., 1975. С. 198
ситуацию общения, когда участники понимают друг друга на эмоциональном уровне, общаясь при этом, к примеру, на разных языках. Вместе с тем, трудно назвать речевое общение коммуникацией, если собеседники, общаясь на общую тему (иными словами, обладая «общим кодом»), отказываются понимать друг друга. При фактическом обмене информацией эмоциональное отторжение оказывается определяющим условием для того, чтобы коммуникация не состоялась. Таким образом, для большей четкости определения коммуникации мы внесем одно важное дополнение: под коммуникацией мы будем подразумевать событие двух (и более) сознаний, успешный обмен информацией, когда картина мира адресанта понятна адресату и наоборот.
В современной теории массовой коммуникации такая модель называется «циркулярной». Ее создатели, теоретики массовой коммуникации У. Шрамм и Ч. Осгуд, полагали заблуждением рассматривать коммуникацию как линейный процесс, у которого есть начало и конец. По их мнению, это процесс бесконечный: при обмене сообщениями адресант и адресат поочередно меняются ролями, в результате чего коммуникация превращается в диалог. Таким образом, коммуникация трактуется как циклическая модель, где важную роль играет факт интерпретации сообщения. Поскольку каждый участник коммуникации подходит к расшифровке смысла передаваемого сообщения со своими критериями, то в коммуникационном процессе возникает «семантический шум». Минимизировать его последствия, иными же словами, свести свои личные интерпретации к общей
г 24
картине возможно лишь посредством механизма «обратной связи».
Суммируя вышесказанное, мы отталкиваемся от понятия коммуникации как от крайне широкого и интерактивного процесса со-бытия двух (и больше) сознаний. Мы привлекли две различных области теоретического обоснования коммуникации - лингвистику и социологию с целью продемонстрировать, что
24 Основы теории коммуникации М., 2005. С. 134-135
коммуникация является понятием, не привязанным ни к одной из сфер человеческой деятельности. Подобная «всеохватность» коммуникации как формы существования человека и его межличностных отношений позволяет нам говорить о художественном произведении как о форме выражения коммуникации между автором и читателем, где автор всегда остается адресантом, читатель адресатом, а художественное произведение - каналом коммуникации. Мы считаем целесообразным назвать эту коммуникацию «художественной» в силу целого ряда принципиальных отличий ее от коммуникации, характерной для живого общения.
В отличие от художественной коммуникации живое общение реализуется в непосредственной временной и пространственной связи его участников. Именно эта связь во многом задает темп, а подчас даже тему диалога.
Так, существуют реплики диалога, цель которых не обмен информацией, а, скорее, уведомление собеседника о собственной состоятельности (например, о наличии чувства юмора и скорости реакции). Иными словами, контакт участников живого диалога во времени и пространстве делает коммуникацию максимально напряженной и, в зависимости от ситуации общения и «квалификации» собеседников в большей или меньшей степени зависящей от социальных или психологических ограничений. Поэтому категория канала оказывается достаточно динамичной - так, в ходе диалога собеседники могут прийти от непонимания к пониманию и наоборот. Позиция каждого максимально активна.
Рассматривая художественную коммуникацию, мы вынуждены учитывать тот факт, что роли адресанта и адресата раз и навсегда определены, автор и читатель разнесены во времени и пространстве. Более того, каждый отдельный случай прочтения произведения может вызвать индивидуальные особенности восприятия (хотя бы потому, что читатель может быть в том или ином настроении, ощущать дискомфорт или же, напортив, всецело углубиться в текст). Наконец,
процесс чтения может прерываться, что в свою очередь дробит и усложняет процесс читательского восприятия.
Современная литературная традиция, по нашему мнению, тяготеет к преодолению этой непроходимой черты. XX век демонстрирует нам стремительное сближение авторского пространства с пространством читателя. Изменение самой фигуры автора, сознательный отход от всезнающего слова повествователя, романная полифония, «поток сознания» - все это свидетельствует о том, что авторское слово включило в свой контекст сознание чужое, художественное слово ориентировано на слово читателя. Таким образом, фигура читателя становится значимым элементом художественной коммуникации. «Роль читателя является текстовой структурой и структурой действия... Литературный текст становится не просто перспективным отношением автора к миру, он оказывается перспективной структурой, в которой возникают как определенность этой точки зрения, так и сама возможность ее возникновения».25
Эта «перспективная структура» преследует не только художественные задачи. Именно здесь рождается связующая нить между автором и читателем. Автор должен сформулировать свое сообщение таким образом, чтобы оно было правильно «считано» его получателем. «Иначе говоря, автор должен иметь в виду некую модель возможного читателя,... который, как предполагается, сможет интерпретировать воспринимаемые выражения точно в таком же духе, в каком писатель их создавал. Каждый тип текста явным образом выбирает для себя как минимум самую общую модель возможного читателя, выбирая: 1) определенный языковой код;
"Die Leserolle bestimmt sich als eine Textstruktur und als eine Aktstraktur.. .Nun ist der literarische Text nicht nur ein perspektivische Hinsicht seines Autors auf Welt, er ist selbst ein Gebilde, durch das sowohl die Bestimmtheit dieser Hinsicht als auch die Moglichkeit, sie zu gewartigen, entsteht." Iser W. Der Akt des Lesens Munchen, 1976. S. 61
определенный литературный стиль;
определенные указатели специализации (так, например,
если текст начинается словами: «Согласно последним достижениям в области TeSWeST...», то он немедленно исключает читателя, незнакомого со специальным жаргоном семиотики текста)».
В рецептивной эстетике существует понятие «горизонта ожидания», под которым подразумевается «Комплекс эстетических, социально-политических, психологических и прочих представлений, определяющих... отношение читателя к произведению, обуславливающий как характер воздействия произведения на общество, так и его восприятие обществом».
Художественная коммуникация, как и всякая коммуникация, несет в себе определенные коммуникативные задачи, выражаемые коммуникативными стратегиями. «Базисная структура стратегий проистекает от функции текстов, которые выражаются прежде всего в выборе различных систем окружающего мира. Если благодаря избирательности какой-то элемент замыкается в текстовой структуре, это указывает на поле отношений, откуда этот элемент происходит».27
В.И. Тюпа в работе «Основания сравнительной риторики», опираясь на теоретические работы М.М. Бахтина и М. Фуко, дает следующее определение «коммуникативных стратегий»: «Это позиционирование субъекта, объекта и адресата высказывания в рамках конфигурации трех дискурсообразующих компетенций: креативной (метасубъектной), референтной (метаобъектной) и
' Эко У. Роль читателя. М., 2005. Стр. 17.
"Die Basisstruktur der Strategien ergibt sich aus der Funktion der Texte, die sich zunachst in den Selektionen aus den verschiedenen Umweltsystemen fassen laBt. Wird durch Selektion ein bestimmtes Element in den Text eingekapselt, so ist damit zugleich ein Bezugsfeld angezeigt, dem das Element entstammt". Указ. Соч. S. 175.
рецептивной (метаадресатной)».28 Иными словами, понятие стратегии учитывает субъект, объект высказывания и само событие рассказывания.
М.М. Бахтин в работе «Проблема речевых жанров» (1952) предполагал у общения несомненный стратегический характер. Отмечая «активную позицию говорящего в той или иной предметно-смысловой сфере»29, Бахтин говорит о зависимости самой этой воли от жанровых форм. Говорящий неизбежно выступает в определенной маске авторства: «Но в каких же высказываниях... нет
маски, то есть нет авторства? Форма авторства зависит от жанра высказывания». Именно через выбор речевого жанра осуществляется речевая воля говорящего. По мысли Бахтина, речевые жанры организуют нашу речь так же, как и грамматические формы (синтаксические). Бахтин определяет три основных характеристики целостного высказывания:
предметно-смысловая исчерпанность темы высказывания,
речевой замысел и речевая воля говорящего, определяющие целое высказывание, его объем и границы,
устойчивые жанровые формы высказывания.
Здесь крайне важным для нашего исследования оказывается не жанровая форма высказывания, определяющая волю и креативную функцию автора (как мы утверждали выше, единая стратегия прослеживается на различных жанрах творчества Дюрренматта), а речевой замысел и речевая воля говорящего. В рамках «провокативной стратегии» именно воля и замысел говорящего (автора) определяют полноту или значимое отсутствие информации, выбор точки зрения и смысловых акцентов, темп рассказывания - словом, авторская воля выступает как
Тюпа В.И. Основания сравнительной риторики // Критика и семиотика. Новосибирск, 2004. С. 72
29 Бахтин М.М. Проблема речевых жанров// Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.,
1979. С. 266
30 Указ. Соч. С. 357-358
ключевая позиция художественной коммуникации. Обращаясь к общей с адресатом (читателем) картине мира, авторская воля в самовольном порядке преломляет ее в сообщении, наполняет общую картину мира смыслами, субъективно увиденными авторской волей.
В. И. Тюпа определяет провокативную стратегию как дискурс, который «характеризуется этосом неподчинения (свободы). Забота вступающего в коммуникацию состоит при этом в ограждении своей внутренней свободы и
одновременно провоцировании свободной реакции адресата». Крайне важным условием подобной коммуникации, по мысли В.И. Тюпы, является подлинная интенциональность субъекта, скрытая за ложно анонсированной интенцией. Внутренний разрыв между скрытой и явной интенцией субъекта определяет внутреннюю диалогичность пррвокативности. Автор статьи вслед за Р.Рорти отмечает, что подобный диалогизм ведет к пониманию стиля не как нормы, а как отклонения и разрыва с традицией. Именно нарушение норм в целях скрытой интенции коммуникации, тяготение провокативности к свободе становится основой авторской установки в художественных произведениях Фридриха Дюрренматта.
Провокативная стратегия сталкивает авторскую волю и скрытую интенцию, с одной стороны, и волю читателя, с другой. Воля читателя, его установки и ожидания, его эмоциональные усилия становятся основой авторского воздействия. При этом, что важно, провокативная стратегия невозможна без установления и определения этих самых норм и рецептивных ожиданий. Ведь, как мы понимаем, для их опровержения требуется их исходное наличие.
Норма - это основной «фрэйм» и исходная установка читательского восприятия в художественной коммуникации Дюрренматта. Т. А. ван Дейк в
31 Тюпа В.И. Основания сравнительной риторики // Критика и семиотика. Новосибирск, 2004. С. 85
работе «Язык. Познание. Коммуникация» дает следующее определение фрейма: «Фреймы не являются произвольно выделяемыми «кусками» знания. Во-первых, они являются единицами, организованными «вокруг» некоторого концепта. Но и в противоположность простому набору ассоциаций эти единицы содержат основную, типическую и потенциально возможную информацию, которая ассоциирована с тем или иным концептом». Иными словами, фрэйм - это картина мира или, в нашем случае, представление о ситуации общения автора и читателя. Так, в частности, читатель и зритель рассчитывает на авторское повествование, объясняющее происходящее в произведении (или на сцене). Как заметил Т. ван Дэйк: «... пользователи языка стремятся вывести релевантную макропропозицию из отрывка как можно скорее, хотя они и не всегда могут сделать это. Так, пользователи языка не ждут до тех пор, пока они не поняли локальной связности всей последовательности предложений, а начинают строить макрогипотезы уже после интерпретации одного предложения или части этого предложения».33 Так и в рамках художественного произведения зритель достраивает смысл исходя из знакомых и привычных ему норм и канонов художественного произведения - например, мы ожидаем, что рассказ или роман начнется с завязки, или же, что в детективном романе основная сюжетная линия будет связана с поиском преступника и торжеством справедливости в финале. Можно утверждать, что коммуникативные механизмы при восприятии художественного целого остаются теми же, что и при непосредственном живом общении. Более того, палитра в случае художественной коммуникации даже, как можно подумать, во многом ограничивается основной коммуникативной установкой - зритель-произведение, где роли обоих участников коммуникации ситуативно прописаны и заданы заранее.
32 Ван Дэйк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. Москва, 1989. С. 16.
33 Указ. Соч. С. 63.
Нарушая жанровые нормы, создавая, а затем опрокидывая художественные ситуации, автор держит зрителя и читателя в неведении относительно своих истинных замыслов. Каждый раз действие развивается по неожиданному и противоречивому сценарию, всегда - за счет дополнительной информации, до времени скрытой от глаз читателя. Тут и раскрывается то ничем не ограниченное богатство, которое содержит в себе художественное произведение. Между автором (повествователем) или автором и зрителем начинается свободная игра, блещущая художественными находками, остроумием и глубиной одновременно.
Как мы видели выше, большинство исследователей творчества Дюрренматта относят к наиболее важным у него средствам реализации провокации гротеск (Christian Jauslin, Herbert Hartmann, H.C. Павлова, В.Д. Седельник). Мы не станем оспаривать это утверждение. Да, гротеск, без сомнения, провокационен и призван установить новую реальность, (или псевдо-реальность), а, следовательно, нарушить привычные границы читательского восприятия. «Структура гротеска предполагает несостоятельность привычных категорий нашей ориентации в мире... Очужденный мир не оставляет нам никаких ориентиров, представая как абсурд».34 Между тем, нельзя не отметить, что провокация определяет не только выбор художественных средств, но, прежде всего, проблему художественной коммуникации. Оценивая провокацию исключительно через гротеск, мы неизбежно сужаем авторскую связь с читателем, коей, в конечном счете, и является любое художественное произведение. Для провокации могут быть использованы любые художественные средства, и гротеск лишь одно из них. Новелла Дюрренматта «Минотавр» не воссоздает, к примеру, гротескного мира или абсурдной ситуации, но провокация присутствует и здесь - именно это
34 «Zur Struktur des Grotesken gehort, daB die Kategorien unserer Weltorientierung versagen... Die verfremdete Welt erlaubt uns keine Orientierung, sie erscheint als absurd." Kayser W. Das Groteske in Malerei und Dichtung. Hamburg, 1989. S. 199.
обнаруживает дюрренматтовская переработка древнего мифа о Лабиринте и заключенном в нем Минотавре. Баллада (так определяет автор жанровую специфику своей новеллы) начинается с традиционной предыстории мифа о Минотавре, но все дальнейшее повествование смещает акценты. Читатель по-новому должен открыть для себя известный миф, рассказанный у Дюрренматта с позиции Минотавра, а не его жертвы. В результате оказывается, что Минотавр и есть истинная жертва, - он не чудовище, как его трактует миф. Как видим, провокация присутствует, но для ее воплощения не понадобилось гротеска. В итоге мы сталкиваемся с художественной проблемой, свободной от выбора художественных средств - с реализацией художественной коммуникации автора.
Методологическим обоснованием диссертационной работы стал пристальный анализ художественного текста и теория художественной коммуникации. Круг теоретических работ, на который мы опираемся в исследовании, был очерчен нами выше - это работы Р.Якобсона (в частности, «Лингвистика и поэтика», 1975) и М.М. Бахтина («Вопросы литературы и эстетики», 1975), труды Т.А. ван Дэйка («Язык. Познание. Коммуникация», 1989), работы основоположника теории рецептивной эстетики Вольфганга Изера («Акт чтения», 1976), наконец, ряд современных исследований, посвященных проблеме художественной коммуникации, среди которых ключевое место занимают работы У.Эко («Роль читателя. Исследования по семиотике текста», 2005) и В.И. Тюпы («Основания сравнительной риторики», 2004).
Предмет исследования составляют произведения Дюрренматта разных жанров и родов. В их числе рассказ «Туннель», рассказ «Город», повесть «Авария», новелла «Поручение или о наблюдении наблюдателя за наблюдателями», баллада «Минотавр», повесть «Грек ищет Гречанку», повесть «Зимняя война в Тибете», рассказы «Смерть Пифии» и «Пилат»; романы «Подозрение», «Обещание», комедии «Франк Пятый», «Ромул Великий», «Визит
Старой Дамы», «Физики», «Играем Стриндберга». Их выбор был продиктован релевантностью произведений задачам нашего исследования. Эти произведения способны наиболее полно и наглядно продемонстрировать реализацию художественного метода писателя и драматурга. Наконец, известность и изученность данных произведений позволит продемонстрировать принцип художественной коммуникации Дюрренматта на знакомом материале, не прибегая к малоизученным текстам.
Помимо художественных произведений нами были привлечены теоретические работы и размышления Дюрренматта: его книга «Проблемы театра», пространное интервью с Хайнцом Арнольдом «Мир как лабиринт» («Die Welt als Labyrinth», 1986), автобиографические очерки, вошедшие в книги писателя «Материалы» («Stoffe 1-111»), комментарии драматурга к собственным пьесам. Мы рассматриваем творчество писателя и драматурга как единое целое. Уделяя внимание изменениям, произошедшим в творчестве Дюрренматта с ходом времени, мы обращаем внимание на общие для всего его творчества законы художественной коммуникации.
Целью данной работы является комплексное изучение коммуникативной стратегии Фридриха Дюрренматта. Стараясь выявить и проанализировать стратегию художественного воздействия Дюрренматта, сохранявшуюся на протяжении всего его творчества, автор данной работы считал принципиально важным рассматривать в единой целостности драматургию и прозу писателя. Такой «комплексный» подход наиболее эффективен для целей нашей диссертации.
Задачи диссертации состоят в следующем:
1). Определить основные художественные приемы провокации в творчестве Фридриха Дюрренматта;
2). Выявить и проанализировать стратегию художественного воздействия на читателя/зрителя на разных уровнях художественных произведений Дюрренматта;
3). Выявить значение коммуникации для художественного мира Дюрренматта в целом.
Диссертация состоит из Введения, трех глав, Заключения и Библиографии.
Первая глава посвящена проблеме художественного пространства. Здесь рассмотрены основополагающие принципы организации пространства в прозаических и драматургических произведениях Дюрренматта, строящегося по законам лабиринта. Выясняется значение границы в рамках художественного целого. Это позволяет выявить характерные художественные приемы и образы его произведений и проследить связи художественной коммуникации писателя с приемами организации пространства.
Вторая глава работы посвящена диалогу в произведениях Дюрренматта и его формообразующим особенностям. Анализ диалога позволяет выявить способы вербальной организации художественного пространства в произведениях Дюрренматта, ритмический рисунок, характер реплик.
Третья глава посвящена коммуникативным ролям зрителя и автора в художественном мире Фридриха Дюрренматта. Рассматриваются формы авторского присутствия, большинство из которых связаны с «точкой зрения»; исследуются механизмы вовлечения зрителя и читателя в художественную реальность произведения; делаются выводы о тактическом использовании механизмов провокации, на основании чего проясняется ее значение и роль в художественной коммуникации Дюрренматта.
Заключение позволит рассмотреть механизмы художественной коммуникации на разных уровнях произведения в их общем значении для творчества Фридриха Дюрренматта в целом.
Значение границы
Свое исследование мы начнем с художественного пространства произведений Дюрренматта. Если сравнить его прозу и драматургию, перед нами, кажется, предстанет два разных мира, два полюса его художественной реальности. Если проза Дюрренматта являет нам метущееся сознание человека, вынужденного бесконечно теряться в собственных сомнениях и алогичном мире, то зрелая драматургия автора, напротив демонстрирует алогичную ситуацию с нарочитой четкостью. Неизбежно возникает вопрос: правомерно ли сравнение прозы и дрматургии Дюрренматта? Не меняются ли кардинально сам автор и его манера письма с ходом времени?
Целью данной главы и всей работы в целом станет показать, что подобное сопоставление правомерно. Именно в сравнении кажущегося разным кроется ключ к пониманию художественного мира Дюрренматта. Тональность и приемы могли меняться, но художественная «установка» оставалась неизменной.
Крайне важным для прозаических работ писателя, особенно для его рассказов, является образ «границы» и ее преодоления. Мир этой прозы разворачивается в двух перспективах - как мир сознания героя и как чужая ему агрессивнная действительность. На дисгармонии этих миров строится абсолютное большинство прозаических произведений Дюрренматта. Диспозиция остается аналогичной внутреннему драматизму пьес Дюрренматта - тщетные попытки преодоления границы, рок, давлеющий над героем. Но остановимся на этом подробнее.
Драматизм таких рассказов, как «Город» («Die Stadt», 1947), «Зимняя война в Тибете» («Der Winterkrieg in Tibet», 1981), состоит в тонкой грани между происшедшими событиями и субъективными допущениями, в рамках которых существует сознание героя. Именно такая ситуация представлена в повести «Зимняя война в Тибете», которая - что важно подчеркнуть - является более поздней переработкой рассказа «Город». Действие происходит после третьей мировой войны. Герой повести, полковник Ганс, расстрелял главнокомандующего, усомнившегося в целесообразности войны. Подобно герою «Города», он бродит по подземному лабиринту в поисках пропавшей армии. Его цель нерушима - война с противником. В конце концов Ганс воображает себя командующим несуществующей армии. Обозначением границы, разделющей реальный мир и мир, существующий в субъективном представлении героя, становится мотив двоиничества. Описания солдат подземной армии во многом совпадают - поэтому трудно определить, сколько их и не являются ли все они одним человеком. Более того, двойники множатся с развитием сюжета, что также затрудняет понимание ситуации: сближаются и полковник Ганс, и командующий, и глухонемой Джонатан. Описания Джонатана, главнокомандующего и самого Ганса совпадают почти дословно: «Безногий, сижу я в кресле-каталке в старой пещере. Рук у меня тоже нет, левое предплечье плавно переходит в автомат. Я стреляю во всякого, кто появляется здесь...У меня есть время подумать и время нацарапать свои мысли на каменных стенах с помощью стального грифеля, прикрепленного к правому протезу» (Стр. 282 Т.З). Герой теряется в бесконечном ряде двойников и в двоящейся реальности. Читателю трудно определить, действительно ли Ганс стал главнокомандующим или вся история -обман его сознания. Повесть «Зимняя война в Тибете», представляющая нам ряд двойников главного героя, повторяет прием, характерный для прозы Дюрренматта в целом.
Сюжет часто основан на «узнавании» или попытке «узнавания». Герой, а вслед за ним и читатель, должен понять, действительно ли это происходит с ним, или же вся ситуация - плод его фантазии. При этом однозначность вывода нередко оказывается невозможна - так, герой повести «Зимняя война в Тибете» до конца не может понять, что есть истина, а что игра разума.
«Узнаванию» непременно соответствуют герои-двойники или тройки персонажей (в рассказе «Город» три старухи, в комедии «Визит Старой дамы» «умноженные» персонажи - мужья Клары Цаханассьян и скопцы и т.д.). Среди образов-двойников мы будем различать «двойников» и «дублеров». «Дублерами» можно считать персонажей, одновременно существующих. Поскольку их совместное существование не ставится под сомнение, они не призваны мистифицировать зрителя или читателя. Такими «дублерами» являются три старухи из рассказа «Город». Это реальные персонажи, которые непосредственно взаимодействуют с главным героем. Дублеры всегда появляются вместе. Эти обезличенные фигуры - застывшие маски пустоты и ужаса, метафоры абсурдного мира.
Диалог в пьесах Фридриха Дюрренматта
В данной главе мы предлагаем обратиться непосредственно к диалогу как форме речи, чтобы затем понять значение диалога в художественных произведениях Дюрренматта. Некоторые из зарубежных исследователей обращали внимание на особенность диалога Дюрренматта, рассматривая его преимущественно в связи с категорией гротеска. Иными словами, исследователей интересовало, в первую очередь, то, насколько диалог передает гротескность действительности у Дюрренматта. Этому посвящены работы К. Ёслина, Г. Хартмана (смотри Введение нашей работы). Мы же предлагаем исследовать диалог, скорее, как средство выражения, формирующее ритмический рисунок и, следовательно, отражающее экспрессивность работ Дюрренматта. Помимо этого данная глава преследует и иные цели: диалог способен наглядно реализовать авторскую провокацию, а потому он для нас важен и по этой причине.
Обратимся к самому понятия диалога. Гойхман О.Я и Надеина Т.М. в работе «Речевая коммуникация» определяют его следующим образом: «Диалог - это процесс взаимного общения, когда реплика сменяется ответной фразой и происходит постоянная смена ролей».56 Диалог возникает в условиях непосредственного контакта. В него вовлечены, по меньшей мере, два участника, Говорящий и Слушающий, которые в процессе коммуникации неизбежно меняются ролями. Помимо этого в жизни, также как и в литературе, нередко встречаются диалоги, рассчитанные на восприятие большим количеством слушателей, большой аудиторией.
Именно такой диалог со зрителем или слушателем ведется в рекламе, обязанной учитывать обратную реакцию зрителя - в противном случае реклама не достигнет своей цели. Телевидение также взаимодействует со зрителем, прямо или имплицитно. Любая передача или фильм, так или иначе, рассчитаны на зрительскую реакцию и, более того, признание. При этом признанием нередко считается общественный резонанс.
В литературе, в прозаических жанрах, «персонаж, рассказчик, лирический герой, косвенно осуществляя адресацию автора к читателю, вместе с тем могут впрямую обращаться к конкретному собеседнику... К тому же в повестях и романах речь с двоякой обращенностью порою становится предметом изображения».57 Так, Мармеладов в «Преступлении и наказании» Ф.М. Достоевского рассчитывает в качестве слушателей не только на Раскольникова, но и на всех присутствующих в трактире.
Слово драмы также непременно учитывает зрителя как третьего пассивного участника сценического диалога. Диалог как таковой является основой действия, тканью драмы как рода литературы.
Принципиальной в диалоге становится смена ролей Говорящий -Слушающий. Это для нас особенно важно, поскольку подобная смена является внутренним двигателем диалога, задающим темпоритм всего сценического действия. Эмоциональная напряженность и ритмический рисунок диалога напрямую соотносятся с тем, насколько часто и как происходит смена ролей Говорящий - Слушающий.
Это особенно важно для драмы. В.Е. Хализев в книге «Драма как род литературы» подробно останавливается на диалоге в драме, подчеркивая обязательную двуадресатность и трехсубъектность речевого обращения: «Поэтому в коммуникации, характерной для драмы и сцены, диалогические и монологические начала речи взаимодействуют весьма своеобразно. Контакт между актерами-персонажами (сценическими партнерами) является по преимуществу взаимным, двусторонним, то есть диалогическим, а общение героев драмы и исполняющих роли актеров со зрительным залом - лишь односторонним, а потому монологическим» .
На подобном противовесе монологического и диалогического слова строится и драматургия Дюрренматта. Диалогу Дюрренматта в целом не свойственна напряженность, если под напряженностью понимать напряженность ритма в смене ролей Говорящий-Слушающий. Реплики участников диалога сменяются, как правило, в едином ритме:
Ахилл: Вот уже двадцать лет как мы служим вашему величеству. Пирам. И сорок лет предшественникам вашего величества. Ахилл. Шестьдесят лет мы готовы были прозябать в нищете, дабы служить императорам. Пирам. Любой извозчик зарабатывает больше императорского камердинера. В конце концов, это надо было сказать, ваше величество.
«Субъективная камера» как форма авторского присутствия
Подвижность «точки зрения» имеет для Дюрренматта определяющее значение как универсальное средство не только при создании мира Лабиринта или при преодолении границы Я-ОН, но и для вовлечения читателя в художественный диалог.
Краткий оксфордский словарь литературных терминов дает следующее определение понятию «точка зрения»: «Позиция наблюдения, с которой события увидели и описали».78 Акцентированная «точка зрения» помогает уловить присутствие в тексте не только позиции автора, но и возможность передачи сознания героя, его сомнений. Таким образом, авторское присутствие в тексте можно считать обусловленным ролевыми «нуждами» художественного целого.
Ц. Тодоров, следуя укрепившейся в XX веке концепции, обращает внимание на возможности одновременного существования множественных точек зрения на одно событие: «В литературе Имеем дело не с событием, а с тем или иным изложением события. Свойства любого объекта определяются той точкой зрения, с которой он нам преподносится» .
При этом Тодоров выделяет разновидности точек зрения. Первое отмеченное им противопоставление точек зрения - по единичности и множественности, по постоянству и изменчивости. Второе - по наличию сведений об изображаемом мире. Эти сведения могут быть истинны или ложны. На точку зрения, по мнению Тодорова, указывает оценка событий. При этом оценка зачастую может лишь угадываться, а не быть сформулирована. Четвертой категорией точек зрения является осведомленность читателя. Здесь различаются: степень широты поля зрения, которая позволяет разделить внутреннюю и внешнюю точку зрения, а также степень глубины, то есть проницательности взгляда. И, наконец, ключевая категория связана с субъективностью или объективностью наших знаний об изображаемом событии.
Не стоит и говорить, что из всех точек зрения для провокационной коммуникации с читателем Дюрренматт опирается, в первую очередь, именно на неполноту и субъективность его знаний и, как следствие, на шаткость реальности в оценке. Шаткость реализуется буквальным перемещением точек зрения: извне вовнутрь, от точки зрения «автора»-повествователя к точке зрения героя, от объективного к субъективному. Именно на таких переходах строится художественный мир как ранних, так и зрелых произведений Дюрренматта.
Можно утверждать, что игра точек зрения становится основной интригой, напряжением и ритмом малой прозы Дюрренматта: мир видится не с остраненной точки зрения, а с позиции человека "изнутри". И что особенно усложняет восприятие - эта «шатающаяся» позиция часто принадлежит повествователю. В рассказе «Город» игра точек зрения достигает самой крайней формы, когда объектом изображения становится уже не событие, а само сознание, подвижность точки зрения на это событие.
Как мы помним, главный герой после участия в неудачном восстании против городского правительства идет на службу к властям и оказывается в непонятном для себя положении то ли охранника, то ли заключенного в городской тюрьме.
Повествование ведется от лица героя. Он смотрит на город из временной перспективы - все произведение представляет собой его воспоминания. В ходе рассказа оказывается, что герой-повествователь недосягаемо далек не только от всезнания, но и от знания, от объективной оценки происходящего. Напротив, его записи глубоко субъективны и исполнены смятения. Герой не может ответить на вопрос, знает ли правительство города о бунте и, более того, не понимает, охранник ли он сам в этом городе или же заключенный.
Излюбленный метод Дюрренматта - игра близкими и дальними планами. Игра планами в прозе - аналог его сценических контрастов. Именно она позволяет писателю реализовать игру точек зрения, объединив их в один емкий «кадр». В ранней прозе писателя, в частности в рассказе «Город», смена точки зрения позволяет не только погрузиться в сознание героя, но и сопровождается сменой планов изображения.
Вспомним, что рассказ начинается с панорамы: «Во время долгих ночей под завывание ветра предо мной снова и снова возникает облик города таким, каким я впервые увидел его в то утро в лучах зимнего солнца, облик города, раскинувшегося на берегу реки, вытекавшей из ледников близлежащих гор и охватывавшей их внизу среди домов странной петлей, оставлявшей открытой только западную сторону и таким образом определявшей форму города; горы, покрытые дымкой, находились словно где-то далеко и были похожи на лёгкие облака, видневшиеся за холмами, откуда они ничем не угрожали людям. Тёплые брызги света золотили стены домов, в предрассветных сумерках город был удивительно красив, но я вспоминаю о нем с ужасом, потому что, как только я приблизился к нему, очарование рассыпалось в прах, и, едва очутившись на его улицах, я погрузился в море страха» (т.1, стр. 371). Камера будто накатывает на удаленный в пространстве объект, создавая эффект крупного плана. Процитированное описание можно принять за объективное. Как писал в своем труде по теории повествования Ф.К. Штанцель, «восприятие изображенной действительности совершается персональным медиумом, но в сообщении об этом восприятии еще слышен голос аукториального рассказчика».80 Тут же, однако, совершается переход от остраненной картины к глубоко субъективному восприятию героя. В итоге происходит переворачивание ситуации повествования и смена точки зрения от внешней к внутренней.