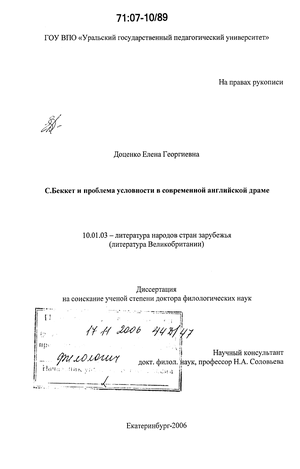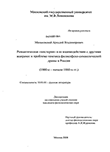Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Условность и конвенция в истории и теории литературы 42
1.1. Проблема художественной условности в теоретическом освещении 42
1.2. Специфика драматической условности. Театральность в тексте и на сцене 67
1.3. От драмы к антидраме: абсурд как проявление театральной условности. 87
Глава 2. Традиции британской комической драмы и театр абсурда: становление трагифарса 116
2.1. Национальное и наднациональное в драматургии С. Беккета 116
2.2. Хорошо сделанная драма второй половины XX в.: мэйнстрим против абсурда 147
2.3. Условный историзм трагифарсов П. Барнза 173
Глава 3. Формы условности в театре абсурда 196
3.1. Динамика условности в драматургии С. Беккета 1950-1960-х гг 196
3.2. Условный психологизм пьес Г. Пинтера 222
Глава 4. Театральный постмодернизм и постмодернистская театральность .264
4.1. Чужие голоса в поздней драматургии С. Беккета 264
4.2. «Все прочее - литература»: чужие тексты в метадрамах Т.Стоппарда .287
4.3. Политический дискурс в современном театре: К. Черчилл, Э. Бонд 319
Глава 5. Новая «молодая драматургия» в послебеккетовском пространстве (1990-е-начало 2000-х гг.) 349
Заключение 396
Примечания 402
Список литературы 418
- Проблема художественной условности в теоретическом освещении
- Национальное и наднациональное в драматургии С. Беккета
- Динамика условности в драматургии С. Беккета 1950-1960-х гг
Введение к работе
Проблема условности в искусстве постоянно оказывается в центре острых споров, ведущихся длительное время. Различные точки зрения на художественную условность представлены в работах российских и западных философов, искусствоведов, теоретиков литературы и литературоведов1. Избыточность внимания не исключает терминологической неопределенности данной дефиниции: при частом обращении к ней, при постоянном внимании целый ряд вопросов вновь и вновь заслуживает научной дискуссии, поэтому проблема условности остается актуальной, тем более в ситуации поливариантности теории в литературоведении, активизации и одновременного бытования различных подходов к общеэстетическим вопросам. Особенно спорной оказывается ситуация в драматургии: с ее очевидной и изначальной условностью драма представляет выгодный объект для подобного исследования. В наиболее предпочтительной позиции драма находится и в том смысле, что условность данного искусства обыгрывается самим театром с древнейших времен: "The reality of the theatre lies in the artifice. Drama posits the artificiality of its conventions within the framework of those same conventions" [Boireau, 1997:xii]. С другой стороны, исследование именно театральной условности сталкивается с проблемой существенных расхождений в понятийном аппарате: терминология подвижна исторически, по-разному зафиксирована национальными традициями (как «условность» и «конвенция») и часто балансирует на границе литературоведения и театроведения. По отношению к современному этапу возникает также необходимость осмыслить и применить недавно возникшие теоретические установки к новейшей истории театра и драмы.
Актуальность предлагаемого исследования определяется динамикой художественной условности, рассматриваемой в преломлении к практике новейшей драматургии. Исследование проблемы условности в связи с творчеством Беккета и его последователей позволяет увидеть расширение функций и возможностей условности в театре, обнаружить закономерности современного бытования и взаимодействия драмы и театра, выявить формы и варианты условности, заложенные в самом драматическом произведении. Актуальным представляется само сопоставление «театральных» положений в современных эстетиках и теоретических поэтиках (постмодернизма, конструктивизма или науки о представлениях - performance studies) с пониманием роли и функций условности, сложившимся в отечественном литературоведении на основе сравнительно-исторических принципов.
XX век в драме как протяженное и насыщенное «пространство» активизирует, усваивает и утверждает самые разные формы условности, переводя ее в разряд осознанной и эксплицитной. Выбрав крупную фигуру в качестве концептуального ядра диссертации, мы рассматриваем творчество С.Беккета на фоне сложившихся и развивающихся форм условности, в связи с движением от модернизма к постмодернизму в театре. Не менее важной представляется динамика послебеккетовской драматургии и сама специфика послебеккетовского пространства в драме. Обращает на себя внимание, что реформы в английской драме в течение полувека во многом отталкиваются от Беккета или к его творчеству восходят, демонстрируя при этом самостоятельную и бесспорную значимость художественного эксперимента целого ряда британских авторов.
Драматургия Великобритании во многих отношениях может считаться образцовой как на фоне жанров и видов самого английского искусства, так и при сопоставлении с темпами развития театра и драмы в других странах, по степенени значимости для национального самосознания и культуры. Для английского воображения драматургия практически никогда - начиная, по меньшей мере, с XV века - не была явлением маргинальным. "Compared with France or Italy the cultural tradition in England can profess little in the way of painting and music... In compensation, it could always call up one world-class author in both drama and poetry" [Easthope, 1999:178]. Достижения английской драмы во многом являются базовыми для развития всего европейского театра Нового времени: в пору «позднего» становления национальной драмы (как в Германии, Норвегии или Швеции) или радикальных изменений в ее эстетике (Франция) другие нации ориентировались на британский театр. И англичанами, и сторонними наблюдателями театральность оценивается как одна из основ национального менталитета, синоним национальной идентичности: "the English imagination... combines twin tendencies towards historicalism and theatricality" [Ackroyd, 2002:212]. Автор монографии «Англичане: портрет нации» Дж.Паксман с сожалением рассуждает о том, что у англичан никогда не было своего единого символа, песни, костюма... [Paxman, 1998:11]. Зато не подлежит сомнению существование национального театра, которому и в веках конкуренцию могут составить лишь несколько иноязычных культур, поскольку «английская театральная традиция» - чрезвычайно насыщенный феномен.
Помимо собственно заслуг «мирового класса», британская драматургия имеет право гордиться и традиционно повышенной мерой театральной условности, почти никогда не скрывающей, но, напротив, подчеркивающей себя театральности - настолько константной и значимой, что театрализация нередко присутствует и в других видах искусства в Англии. Основы отношения к условности не столько как к ограничению или необходимости, но как к максимально широкому арсеналу художественных средств, позволяющему драме задействовать самые разные уровни обобщения, а театру быть зрелищным и содержательным одновременно, были заложены еще в эпоху Возрождения елизаветинской и яковинской драмой или, возможно, даже раньше - в английских версиях мистерии и фарса. Как отмечает современный британский классик, "Shakespeare set the context for the appreciation of his own work, where what is most artificial can be deemed natural and true" [Ackroyd, 2002:238]. Очевидно, что и трагикомедия как жанр акцентировано условный уже по характеру своего конфликта и практически с момента рождения обращающийся к принципам метатеатра не случайно обязана своим происхождением английской драме. На протяжении всего времени существования английского театра большую роль в нем играла собственно комедия и другие комические жанры с их традиционно высоким модусом условности.
История английской драматургии позволяет вести предметный разговор об условности, формах, которые она принимает, и функциях, которые выполняет. Разумеется, динамику условности здесь можно рассматривать как в связи с творчеством того или иного автора, так и на более общем уровне - по отношению к целым эпохам, жанрам или направлениям. Особый интерес представляет модификация форм условности в XX столетии, когда с самого начала века в театре осознанно испытываются новые механизмы условности и, с другой стороны, появляется множество теоретических подходов к драматическому тексту и «представлению», разделение постановок на репрезентативные и «презентативные», само «представление» (в соответствии с исполнительской теорией) никак не ограничивается «эстетической драмой», а театральность воспринимается как символ культуры нового времени, далеко выходящий за пределы театра. Развитие современной гуманитарной мысли стимулирует исследование драмы и театральной условности в различных аспектах и ракурсах.
XX век меняет отношение к драме и представлению (мере их театральности) в самом театре, - эти изменения связаны, в частности, с появлением и быстрым развитием целого ряда театральных профессией; самыми значительными обретениями в этом плане были режиссура и театральный дизайн. Однако профессиональный подход к постановке спектаклей не только способствовал их качественному росту, но - наряду с многочисленными субъективистскими теориями в эстетике, философии и психологии - утверждал иное отношение к самому тексту драмы и его сценической интерпретации. В результате литературный материал стал часто рассматриваться лишь как «основа» представления (перфоманс), а акцент переносится на работу постановщиков, актеров, даже зрителей, свободно интерпретирующих текст в «любом стиле»: "In the contemporary theatre... it is assumed that style is not written into dramatic texts; it is therefore perfectly possible to imagine Shakespeare or Greek tragedy performed in a postmodern style" [Auslander, 2004:101]. Установка «на представление» (а не спектакль в традиционном понимании этого события) - объективная данность современного театра, которая, тем не менее, не обязательно должна рассматриваться как главное достижение театра XX века, поскольку сам драматический текст, на различных его уровнях - вопреки только что цитировавшемуся утверждению - содержит «указания на стиль». Основные изменения в драме, а во многом и в театре (современный английский театр, например, признано авторский) интенционально обусловлены художественным поиском крупнейших драматургов-новаторов.
Кардинальный сдвиг в понимании роли и возможностей театральной условности в европейском театре в целом начинается уже в первой половине прошлого столетия, а авторы, совершившие прорыв в самом понимании театральности в тексте и ее воплощении на сцене - это, если иметь в виду самых влиятельных, Л.Пиранделло и Б.Брехт, А.Арто и С.Беккет. Язык театра реформаторами XX века не рассматривается как неизменный. По Р.Барту, «Брехт уже ощутил, что семантические системы многообразны и относительны, - театральный знак не есть нечто само собой разумеющееся. Так называемая естественность актера или правдивость его игры - лишь один из возможных языков... Поэтому, меняя знаки (а не только их смысл), мы по-новому расчленяем природу (что как раз и является определяющим для искусства), исходя не из «естественных» законов, а, напротив, из свободы человека придавать вещам значения» [Барт, 1994:278].
Влияние каждого из новаторов ни в коей мере не ограничивается тем или иным национальным театром, и по отношению к английскому театру имеет смысл говорить о восприятии творческих инноваций всех вышеназванных авторов. Сила собственной драматической традиции, по верному наблюдению исследователей, заставляет британский театр сопротивляться чужим нововведениям, но в середине прошлого века "English theatre... was more open to outside influence than it had been for much of its history" [Bigsby, 1981:7]. Практически же «иностранные реформаторы драмы» - и Брехт, и Пиранделло, и даже А.П.Чехов - не только привносят в английский театр свои принципиальные открытия, но и актуализируют те или иные возможности богатейшей национальной драматической традиции. Однако лишь Беккет из перечисленных европейских авторов никогда не воспринимался в Англии как «иноязычный».
Брехтовский или пиранделлианский эффект, более чем значимый при изучении динамики условности в английской драме, следует рассматривать самостоятельно (хотя полностью изолировать одно «влияние» от другого при разговоре о театральном процессе практически невозможно: различные традиции сталкиваются, смешиваются в творчестве современных британских авторов). Что же касается Арто и других представителей модернистского театра (абсурдисты и их предшественники), в данной работе предполагается доказать, что именно беккетовский эксперимент в нереалистической драме XX века бцл наиболее радикальным и последовательным. Несмотря на настойчивое стремление выразить в драме свое субъективное понимание мира, модернизм далеко не сразу (и не в каждом течении) создает собственную театральную конвенцию. О том, что модернистской драме не с самого момента ее утверждения соответствуют «не репрезентативные» формы, говорит и авторитетная «История Западного театра» О.Броккета и Р.Финдлэя: "The realistic strain played an essential role in the evolution of modernism... paved the way for the more innovative nonrepresentational modes that were to come" [Brockett, Findlay, 1991:2]. Рабочая гипотеза настоящего исследования строится на том, что художественные новации антитеатра Беккета, развивающие эксперимент от модернизма к постмодернизму и «минимализму», оказали решающее воздействие на само качество условности в драматургии второй половины XX 9 начала XXI вв. Именно С.Беккетом была задана программа и динамика, во многом сами формы условности в постабсурдистском пространстве английской драмы.
Определение антитеатр в данном случае имеет смысл, поскольку пьесы Беккета позиционированы как принципиально немиметический, «неаристотелевский», наглядно условный театр. По отношению к параметрам драмы как рода литературы новаторство Беккета бросается в глаза, распространяясь даже на классическое восприятие драматического произведения как «действия важного и законченного, имеющего определенный объем» (Аристотель). "This play, - говорит о «В ожидании Годо» специалист по современной драме, - may turn out to be the single most important event in the theatre since Aeschylus. It represents a change in the very subject matter of drama" [Peter, 1987:17]. Даже само отсутствие (очевидное при сопоставлении с Брехтом как создателем эпического театра или Арто с его театром жестокости) детально разработанной театральной «теории» в данном случае закономерно и «работает» на Беккета, не только пересмотревшего, но и значительно редуцировавшего роль слова в театре. Условность беккетовской драматургии -это принципиальное разрушение театральной иллюзии правдоподобия, но при этом откровенно новая, ни с чем напрямую не сопоставимая (хотя и актуализирующая целую серию традиций мирового драматического искусства) театральность.
Конечно, драма и театр с древнейших времен не были связаны с буквальным подражанием жизненным реалиям, но в XX веке попытки «уйти от Эсхила» (то есть от традиционной, существующей со времен Эсхила, условности) и создать новые формы условности настолько активны, что по завершении столетия важно подвести итоги, насколько значительным оказался данный художественный эксперимент, и к каким результатам он привел. Если (1) одна из высших точек в новаторской театральной условности XX века -драматургия С.Беккета, то тем более важно прояснить, как отразились эти новации на (2) современном существовании такого театрального - по своим традициям, интенциям и даже по выражаемому в нем национальному менталитету - театре, как английский, к которому (3) до известной степени принадлежит и сам Беккет. Три перечисленных положения составляют круг проблем, требующих доказательства в диссертационном исследовании. Предполагается, что, «вернувшись» на территорию английского театра, беккетовские новации не просто «влияют» на творчество того или иного современного драматурга (от Г.Пинтера до Дж.Баттеруорта), но взаимодействуют с иными составляющими драматического эксперимента в Великобритании, опираются на целый ряд традиционных установок, прежде всего, восстанавливают и обогащают арсенал условности в драме, создавая в современном театре послебеккетовское пространство, а вместе с другими тенденциями - новейшую театральную парадигму.
Целью диссертационной работы является исследование тенденций современного британского театрального процесса в контексте развития условности Беккетом и его последователями. Для доказательства гипотезы стабильном воздействии абсурдистского художественного перелома на последующую драму необходимо:
- проанализировать современные теоретические положения об условности в драматическом роде литературы, соотнести «театральные» теории, порожденные мировым литературоведением, с новейшей историей драмы, программным обоснованием которой они и являются;
- проследить модификации и динамику условности в драматическом творчестве Беккета как одного из крупнейших авторов и одновременно факторов развития театрального процесса второй половины XX столетия;
- определить степень абсурдистского воздействия на английский театр в связи с повышением модуса условности; выявить принципы взаимодействия традиционных родовых и жанровых (фарс) форм условности с новыми, вызванными к жизни современным этапом развития драматургии; рассмотреть предпосылки и особенности актуализации конвенциональной театральной «рутины» на современном этапе;
- исследовать эволюцию и изменение форм условности при движении драмы от модернизма к постмодернизму как в творчестве Беккета, так и в драматургии Пинтера, Стоппарда, Бонда, Черчилл: обобщить представления о модернистском и постмодернистском экспериментах, стимулирующих развитие условности в западной драматургии XX века;
- выявить специфику современного (рубежа тысячелетий) бытования традиции Беккета в драматургии Великобритании; проанализировать функции, возможности и границы послебеккетовского театрального пространства на примере творчества Кейн, Равенхилла, Кримпа.
Решение этих задач позволит установить принципиальную значимость и своеобразие эксплицитной художественной условности в драматургии Беккета и «послебеккетовской» английской драме.
Степень изученности проблемы литературоведением, театроведением и критикой в данном случае выводит как на освещение вопроса «Беккет и английский театр», так и на исследование условности современной драмы. Послебеккетовское пространство в драматургии прежде всего должно быть связано с определенной вертикалью, с хронологией театрального процесса. На протяжении всей второй половины XX века «современная английская драма» была (и, по сути, остается в начале XXI века) феноменом, строго датированным по нижней границе: 1956-й, год первой постановки пьесы Дж.Осборна «Оглянись во гневе», считается временем появления «новой волны» в драматургии Великобритании. Поколение осборнцев утверждало себя на английской сцене под лозунгом ее очередного обновления. Протест «рассерженных молодых людей» изначально и был направлен против, как можно теперь сказать, устаревшей конвенциональное™ театра предыдущих десятилетий, против условностей в жизни и на сцене. При этом не вся драматургия «новой волны», не весь широкий круг авторов, формировавших это явление (направлением оно не было и не стало), была связана с поиском новых средств театральности, очередного повышения уровня условности драматургии. Для целого ряда авторов - включая «самого» Дж. Осборна -обновление драмы было в большой степени связано со злободневностью, актуальностью театрального действа.
Практически одновременно с Осборном в литературу вступили Дж.Арден, Г.Пинтер, А.Уэскер - очень разные драматурги, каждый из которых мог стать основоположником целого направления или школы в драме. Соответственно, отказ от сложившейся конвенции, от традиций предшествующих десятилетий с первых же лет развития «современной драмы» проходил весьма разнонаправлено: это и нелицеприятный разговор со сцены о проблемах как общества, так и театра (собственно Осборн, школа «кухонной раковины», Уэскер), и эпизация и политизация театра (Арден, но особенно активно эти процессы шли в 60-70-х гг., в пору расцвета фринджа и творчества Э.Бонда, Х.Брентона), и модернистский, а позднее и постмодернистский (Пинтер, Н.Ф.Симпсон, Т.Стоппард), даже так называемый феминистский эксперимент (К.Черчилл). Многообразие тенденций вызвало к жизни неоднозначные, если и не полярно противоположные, их обозначения: годами дебатировались социализация и «бытовизация» британского театра, отмечалась его приверженность фарсовому комизму, псевдоисторизму или метатеатральности, а течения и доминирующие художественные системы обозначались без явной последовательности как театр абсурда, театр жестокости, театр катастрофы и постмодернизм.
Единство растянутого на нескольких десятилетий современного театрального процесса в Великобритании, таким образом, не бесспорно, но оно утверждается (как в свое время в новой европейской драме рубежа веков) уже и тем, что практически ни один из лидеров английского театра не привержен какой-то раз и навсегда избранной единственной, им разработанной системе правил, то есть конвенции. У Осборна, например, помимо достаточно традиционной по структуре первой пьесы, есть произведения («Комедиант», Deja vu), отмеченные явной склонностью к метатеатру; аналогичные перепады случаются «даже» в творчестве главного представителя театрального истэблишмента рубежа тысячелетий Д.Хэара. Такие «политизированные» драматурги, как Бонд, Х.Баркер, Брентон, тем не менее, легко смешивают традиции и А.П.Чехова, и Б.Брехта, и А.Арто. И наконец, многолетние лидеры экспериментального театра (и так же давно причисленные к артистической элите) Пинтер и Стоппард нередко получают обвинения в переходе на позиции реализма и конвенциональной драмы.
Не столь простым представляется и деление современного театрального процесса Великобритании на генерации или волны, хотя к началу XXI века английская драма создается одновременно несколькими поколениями драматургов. Разумеется, за 50 лет театр неоднократно пополняли молодые силы. Какое-то время драматургия сердитых делилась на волны: первая -поколение Осборна и Пинтера, вторая - Бонда и Стоппарда, но определение «третья волна» не прижилось, и в начале 80-х годов волны на время перестали считать, а к концу века казалось, что «современность» драмы второй половины XX столетия себя исчерпала, превратившись в застывшую конвенцию, рутину, мэйнстрим. Однако «молодая драма» 90-х годов опять именуется новой волной и во многом сопоставима (и сравнивается) по направленности и интенсивности театрального эксперимента с драматургией сердитых в 50-х. Новые «молодые сердитые» актуализировали прежние, воспринимавшиеся уже как решенные или устаревшие, проблемы, продолжили художественные искания старшего поколения драматургов, доказав, что современная драма продолжает существовать именно как процесс.
Раз утвердившись на театральной и литературной арене, драматург не обязательно идет в ногу со своим (или - только со своим) поколением. Границы между поколениями, волнами не оказываются непреодолимыми, скорее, их просто нет, и не только младшие авторы в чем-то продолжают искания старших, но и уже зарекомендовавшие себя в качестве классиков драматурги (опять же Пинтер) вступают в диалог с молодежной драмой. Так, в 90-х С.Кейн испытывает влияние Бонда, но сама оказывает воздействие на «женскую» драму, практически наряду с Черчилл. Пьесы П.Марбера напоминают пинтеровские, а самого Пинтера упрекают в политизации и натурализации его театра под влиянием молодых современников.
Вопрос о единстве современного театрального процесса, таким образом, распадается на более конкретные проблемы творческих взаимосвязей, закономерностей и тенденций развития драмы в рамках этого процесса. Нас интересуют не столько возможности идентификации различных школ, течений, поколений современной драматургии, сколько ее направленность на активное художественное экспериментирование, степень ее осознанной и подчеркнутой условности. Хотя серьезная аналитическая оценка явления новой волны в драме неоднократно имела место, причем с самых разных позиций, и полемика о театре последних десятилетий именно как о живом текущем процессе постоянно возобновляется, сам вопрос об условности современной драмы в таком виде практически не ставится. Зато дебатируемые проблемы так или иначе подводят к подобной постановке вопроса. В этом смысле для нас важны в существующей многообразной литературе и попытки определить хронологические границы эксперимента - «отличие новой драмы от старой». Дата 8 мая 1956 года соответственно - событие рубежное, эпохальное, но не обязательно обозначающее начало разрушения сложившейся конвенции. «Оглянись во гневе» Осборна в большей степени было вызовом обществу, чем существующей театральной традиции: "Look Back in Anger... no longer appears as seminal as it once did" [Lacey, 1995:2]. Тем не менее, достаточно быстро сложилась традиция вести отсчет от «Оглянись во гневе»; пьеса Осборна и ее первая постановка вызвала чрезвычайно активную реакцию - в самой драме, критике и среди зрителей, всплеск эмоций, - если даже не саму новую волну: "The watershed status of 1956 for English drama has been compounded and recognized as a critical clishe" [Rabey, 2003:6]. Мнения же разделились, в основном, в связи с оценкой предыдущего периода и «качественного превосходства» данной пьесы и всей новой волны по сравнению с драматургией Н.Коуорда, Т.Рэттигана, Дж.Б.Пристли, наконец, Т.С.Элиота и Дж.Б.Шоу. Соответственно, «защитники» драматургии первой половины века демонстративно отказывались в своих работах от рассмотрения современной драмы только с 1956 года, предполагая, что «современность» началась раньше. Монография К.Уорт «Революции в современной английской драме» была создана в 70-х гг. и посвящена оценке целого ряда событий в драме XX века, но утверждала как точку отсчета не 1956, а 1918 года, признавая первенство эксперимента за Дж.Б.Шоу, Т.С.Элиотом, К.Ишервудом, и уже вслед за этими авторами рассматривая Пинтера, Беккета, Ортона, Барнза (Worth 1972). Напротив, 1956 г. воспринимается как абсолютное начало в нескольких работах того же периода, что и книга К.Уорт, автором или редактором которых является Дж.Р.Браун: «Язык театра: изучение Осборна, Ар дена, Пинтера и Уэскера», «Путеводитель по современной английской драме», «Современные британские драматурги: новые перспективы (Brown 1972, Brown 1982, Brown 1984). Кажутся принципиальными сдвиги в театральном процессе с середины пятидесятых годов и К.У.Э. Бигсби, редактору сборника статей «Современная английская драма» (Bigsby 1981), вводную статью к которому автор назвал «Язык кризиса в британском театре». А книга О.Керенского откровенно называется: «Новая британская драма: четырнадцать драматургов от Осборна и Пинтера» (Kerensky 1977).
Научная полемика о значении самого понятия «новая волна», равно как и о самоочевидности пограничной даты «1956 год» продолжается и значительно позднее: одно из наиболее солидных исследований драмы, привлекших внимание в 90-х гг., даже получило заголовок «1956 и все это» (Rebellato 1999). «Сопоставительный анализ» первой и второй половины XX века с целью выявления большего или меньшего художественного «качества» и экспериментальное™ драмы этих периодов, можно считать завершенным. Крупнейшие авторы первой половины столетия (и не только Шоу или Элиот, но и тот же Рэттиган) давно причислены к лику классиков английской литературы. А пьеса Осборна «Оглянись во гневе», даже если не считать ее шедевром на все времена, разделила этапы не качественно, а именно количественно, хронологически, как «вчера» и «сегодня», в равной степени достойные внимания. В литературу, начиная с 1950-х гг. вошло не только одно новое поколение. Практически всех сколь либо значимых авторов, заявивших о себе после Осборна принято рассматривать как новую волну. Интересно, что А.Сиерц, автора монографии «Театр вам-в-лицо» о молодых драматургах рубежа тысячелетий, доказывая «автономность» эксперимента (или эпатажа - в данном случае) поколения девятидесятников, сравнивает их с осборновцами, то есть сами «сердитые» воспринимаются как нечто совершенно устоявшееся • и даже аксиоматичное (Sierz 2000).
Вряд ли следует считать полемической позицию авторрв энциклопедических и справочных изданий, академических историй театра и драмы, где XX век рассматривается в качестве единого целого в целях классификационных - в отличие от «монографического» выявления тенденций современного театрального и литературного процессов. Так, «Кембриджская история британского театра» выделяет в свой третий том весь период развития драмы «после 1895» (Kershaw 2004), причем последний раздел обозначается как 1940-2002, имеются в виду изменения, происходящие в самой театральной системе Лондона и Великобритании в целом. В авторитетной работе К.Иннеса «Современная британская драма: XX век» (Innes 2002) исследуется, в соответствии с названием, драматургия всего столетия, но систематизировать ее предлагается не по периодам, а по направлениям и принадлежности к той или иной традиции, - например, комического (от С.Моэма до П.Марбера) или «поэтического» (от Т.С.Элиота до С.Кейн) театра. По определению, не предполагают оценочных характеристик, но содержат важный набор сведений и ориентируются на сложившийся хронологический водораздел такие справочные издания, как «Британские драматурги, 1956-1995» (Demastes 1996) и «Современные британские драматурги» (Вегпеу 1994).
Принимая 1956-й в качестве границы между двумя периодами развития английской драмы, нельзя не обратить внимания на то, в чем, с разных точек зрения, заключалась новизна явления, тем более что, как верно замечают исследователи, "there are no manifestos, no obvious schools of writing (certainly no school of Osborne)" [Lacey 1995:2]. Соответственно, много раз предпринимались попытки постичь, что это такое «современная драма», есть ли у нее какие-то принципы, как ее обозначать и квалифицировать. "What sort of young writers came, and what sort of plays they wrote, is the principal subject of this book" [Taylor, 1962:10], - проблема, которую еще в 1962 году обозначил своей книгой «В гневе и после» Дж.Р.Тэйлор. Именно Тэйлору принадлежит определение театрального движения в качестве «сердитых молодых людей», хотя само выражение использовалось уже несколько ранее, а в данном случае было спровоцировано и названием пьесы Осборна Look Back in Anger, но автор первой монографии о сердитых применил это понятие к драматургии - как характеристику всей новой волны. Термин «волна» тоже был утвержден Тэйлором, и его следующая работа с показательным названием «Вторая волна» посвящена драматургии 60-х гг. (Taylor, 1971). Исследования Тэйлора представляют собой одну из наиболее ранних попыток представить общую панораму современного театрального процесса в Англии, объединив в каждой из книг статьи о разных авторах - представителях движения, не заявлявшего о своей общности.
С тех пор по тому же принципу: статьи или главы посвящены разным авторам в работах «общего характера», - были созданы множество монографий и сборников о новой английской драме. Цели, которые ставили перед собой авторы или авторские коллективы, не всегда были связаны, как у Тэйлора, с попыткой концептуального определения особенностей современной драмы. Ряд работ, скорее, можно обозначить как описательные, а не аналитические по отношению к театральному процессу в целом, даже если пьесы того или другого конкретного драматурга плодотворно рассматривались в заданном аспекте. Помимо уже перечисленных исследований Бигсби, Брауна, Керенского, здесь следует упомянуть также вышедший в США сборник «Очерки о современной британской драме» (Bock, Wertheim 1981), книгу М.Андерсона «Гнев и беспристрастность: Изучение Ардена, Осборна и Пинтера» (Anderson 1976) и более позднюю работу под редакцией К.Кинга «Современные драматурги: ведущие британские, ирландские и американские авторы» (King 2001).
Объяснимо «описание» постановок в книгах театральных практиков, прежде всего, в собраниях рецензий влиятельных английских критиков, как К.Тайнан, присутствовавший, можно сказать, при рождении нового театра, участвовавший в живой полемике вокруг пьес и спектаклей, посвятившему этому процесс не одну книгу - «Взгляд на английскую сцену: 1944-1965», «Тайнан слева и справа» (Tynan 1975, Tynan 1967): "until his death, Tynan remained an eloquent critic-chronicler of the stage revolution" [Rusinko, 1989:8]. Ha протяжении многих лет аналогичную роль исполняет и постоянный обозреватель «Гардиан» М.Биллингтон, в его книге «За один вечер: критический обзор британского театра» (Billington 1993) общая картина выстраивается благодаря воспроизведению ярких театральных событий и особенностей их рецепции.
«Сердитые» - далеко не единственный ярлык, который применялся или применяется к новейшей драме. Современная английская драматургия имеет право на уникальное и возможное только в этой стране определение - новый елизаветинский театр. Возникнув первоначально в качестве комплимента новой волне (как достойной сопоставления с театром Шекспира и его современников), термин «елизаветинцы» оказался не временным и не случайным. Вторую волну называли неояковинцами (вслед за неоелизаветинцами), но затем определение «елизаветинский театр» вновь укрепило свои позиции. Имя королевы Елизаветы в определении эпохи не придает ему политической окраски - в отличие от таких выражений, как «театр эпохи тэтчеризма» или «блэризм», хотя и говорить о сколь-либо значительной роли Ее Величества в развитии современного театра (при сравнении с «предыдущей» Елизаветой) не приходится. Судя по критическим работам различного плана, продолжительное царствование Елизаветы II позволяет уже формулировать некоторые этические и эстетические приоритеты елизаветинской эпохи - по образцу викторианства. Так, Дж.Паксман в «Портрете нации» рассматривает постепенную элиминацию традиционно английских черт именно за прошедшие 50 лет, а королевская чета, как и их ровесники, - последнее поколение, для которого старинный английский кодекс имеет смысл [Paxman, 1998:8]. Само определение «новая елизаветинская эпоха» употребляется все чаще и по отношению к разным явлениям культуры (но не политики): говорят, например, о 50 годах елизаветинской попкультуры2 и о 50-летии собственно театра3. В связи с театром это особенно удобное определение - практически те самые 50 лет, которые насчитывает и новая волна, и действительно провоцирующее на сопоставление (совсем не обязательно со знаком минус) с «настоящими» елизаветинцами. Разумеется, «неоелизаветинцы» - просто симпатичная формула, а не адекватная характеристика процесса, который, таким образом, должен быть подвергнут дальнейшей идентификации, но и само понятие «современный» сегодня - в отличие от середины прошлого века - имеет не терминологическую, а хронологическую и процессуальную значимость для театра, как теперь принято говорить, от Осборна до Равенхилла.
Вводя понятие «послебеккетовское пространство» как одну из логически значимых характеристик современного театра, следует подчеркнуть, что попыток идентифицировать процесс было множество, но внятным смыслом обладают далеко не все (видимо, поэтому наиболее живучими оказались неэкспрессивные определения: «неоелизаветинцы», «новая волна»). Другие дефиниции, прежде всего, были связаны с делением новой драматургии на волны и течения - по хронологическому принципу или направленности эксперимента, причем сам процесс и его классификация за это время неоднократно усложнялись. Если неоднозначность исканий драматургов была отмечена уже на уровне 50-х - речь идет о принципиально различном уровне новаций в пьесах лидеров этого периода Осборна и Пинтера, практически сразу же (по Тэйлору) превратившихся в новый театральный истэблишмент, - то уже со второй волны количество течений и вариантов их обозначения возрастает. В монографии С.Русинко «Британская драма с 1950 до настоящего времени», например, рассматриваются как причины появления новой волны, так и последовательность ее развития, отдельные главы посвящены Беккету («Редукционист»), Осборну («Сердитый молодой человек»), Пинтеру («Минималист») и Стоппарду («Пародийный стилизатор»), остальные авторы объединены в такие неравнозначные группы как «фантасты», «новые соцреалисты», «лефтисты», «традиционалисты» и «писатели рабочего класса» (Rusinko 1989). Контекст, который кажется исследовательнице необходимым для изучения современной драмы, - это и сама театральная ситуация (появление новых театральных коллективов, актеры, режиссеры, занятые в процессе, критика), и политический, экономический, эстетический фон ее развития. Столь «всесторонний» подход к драме как явлению искусства, развивающегося в определенных условиях, вообще очень свойственен работам, претендующим на исчерпывающую полноту охвата и понимания материала, хотя и объясняется различными причинами. Так, объемный труд профессиональных режиссеров Р.Айра и Н.Райта «Меняющиеся сцены: обзор британского и американского театра в XX веке» направленно обращен к постановкам от «Пигмалиона» Б.Шоу до «Копенгагена» М.Фрэйна, тому, в каких условиях пьесы шли к сцене и уже затем эту сцену изменяли сами (Eyre, Wright 2001). Однако социологизированный, хотя, вероятно, самими исследователями понимаемый как исторический, подход обнаруживает себя как тенденция, особенно в работах по драме и театру появившихся в самое последнее время. Конечно, при разговоре об основных закономерностях развития новейшей драмы трудно обойти вниманием такие бесспорно отразившиеся на судьбе многих драматургов и их пьес события, как функционирование театра Роял Корт, ставшего за истекшие десятилетия сценической площадкой для многих и многих успешных экспериментов ("But the Royal Court, however important its influence, was only one of many private stage that performed the same function" [Rusinko 1989:3]) или отмену цензуры ведомства Лорда Чемберлена в 1967. Но, например, в книге Д.Шеллард «Британский театр со времени войны» «основные» события - "theatrical" и "other events" - выстраиваются буквально по годам, что, разумеется, полезно и для диахронических и для синхронических исследований, однако в малой степени позволяет выявить собственно литературные приоритеты (Shellard 1999). Даже упоминавшаяся «Кембриджская история британского театра» сосредоточена во многом на внешних по отношению к искусству театра - не говоря уже о драме - фактах: «Утверждение мэйнстрима в театре», «Альтернативные театры», «Развитие театральных профессий», «Британский театр и коммерция» (названия разделов).
В исследованиях 1990-х - начала 2000-х гг. нередко предлагается «пересмотреть» новейшую историю театра. И Д.Ребеллато в «1956 и все это», и С.Лэйси в монографии «Британский реалистический театр: новая волна в контексте 1956-1965 гг.» справедливо ставят вопрос о том, чем собственно была новая волна, если ее нельзя считать ни течением, ни школой (Rebellato 1999; Lacey 1995): "It is possible now to write a very different history - probably several different histories - of this over-mythicised period" [Lacey 1995:2]. Но и здесь история театра понимается как включенность в некий «общий» исторический процесс. И, оспаривая положения о значимости драматургов первой волны в качестве «писателей рабочего класса», или восстанавливая весьма противоречивую «политическую платформу» осборновцев, тот же Ребеллато фактически актуализирует действительно устаревшие представления. Интересно, что в данном случае несколько социологизированная линия рассмотрения драмы соседствует в работе с общей ориентацией на деконструктивистские положения.
Очевидно, в каком-то смысле более выгодной оказывается позиция «небританских» исследователей британской драмы. Присутствие многочисленных экстралитературных факторов смущает в этом случае меньше и позволяет рассматривать эволюционные процессы в драме на фоне собственно литературного контекста. Нельзя не отметить достижения немецкой школы исследователей английского театра: ежегодные конференции и публикации Немецкого общества по изучению современного англоязычного театра и драмы отличаются глубоким и строгим соответствием избранной тематике, будь то соотношение современной драмы с традициями или проблемы глобализации в связи с театром (Contemporary Drama in English 2002, 2003). А научный редактор сборника «Драма о драме» Н.Буаро отмечает как заслугу интернациональность авторского коллектива ученых, рассматривающих английскую драму с точки зрения театральности и метатеатральности: "the... scholars from different countries ensure a plurality of viewpoints on the central issue" [Boireau, 1997:xv]. В названной работе проблема условности британского театра фактически выведена на первый план, хотя «театральность» авторы статей в сборнике понимают отнюдь не одинаково.
Отечественное литературоведение некоторое время назад посвятило английской драматургии «новой волны» целый ряд важных исследований, классифицирующих и анализирующих основные тенденции процесса: В.Г. Бабенко «Драматургия современной Англии» (1981), «Драматические жанры и их взаимодействие: Английская и ирландская драматургия» (1988), А.Г. Образцова «Современная английская сцена (на рубеже 70-х гг.)» (1977), Н.А. Соловьева «Английская драма за четверть века (1950-1975)» (1982), Д.П.Шестаков «Современная английская драма (Осборновцы)» (1968). Обращает на себя внимание отсутствие в последние годы монографий столь же обобщающего характера, что в свою очередь доказывает необходимость изучения новейших явлений английской драмы, их анализа в традициях отечественной школы. Британский театр традиционно привлекает внимание российских и зрителей, и исследователей. Статьи и диссертации, посвященные драме, и сегодня нередко выполняются на материале творчества отдельных британских авторов. Многообразие тенденций современной английской драмы, ее взаимоотношения с мировым театральным процессом, неизбежно требуют осмысления.
Работы, созданные не по принципу общей панорамы, но анализирующие тот или иной аспект развития драматургии, существуют, разумеется, и в современном британском литературоведении. Это и монографии, посвященные отдельным авторам5. И, напротив, исследования, не отделяющие английскую драму от ее европейского контекста (Esslin 1968, Hayman 1979). И, наконец, собственно монографии, отбирающие материал для анализа в связи с актуальными тенденциями в британской драматургии - или в критике. Так, работа М.Уондор «Послевоенная британская драма: оглянись на тендер» рассматривает - в соответствии с названием - современную драматургию исключительно в тендерном аспекте.
Поскольку проблемы условности не ускользают полностью от внимания исследователей и постоянно оказываются актуальными, буквально напрашивается необходимость разграничить театральные школы (и даже периоды), стремящиеся или не стремящиеся подчеркнуть условность. Но подобная дилемма до сих пор рассматривается чаще всего в русле «традиционной» оппозиции реалистического и нереалистического искусства. С.Лэйси в своем «Британском реалистическом театре» 1995 г. стремится «по-другому» взглянуть и на новую волну, и на реализм, а в результате обращается не только к творчеству Осборна или драматургов «школы кухонной раковины», но и, например, смело обозначает один из параграфов «Г.Пинтер и соцреализм». Пинтер в этом случае оказывается одновременно наследником Беккета и позднего Ибсена [Lacey, 1995:139-145]. Реализм как одну из двух полярно противоположных возможностей бытования новейшей драмы ("The main tradition of recent English drama is that of realism, but it doesn t imply that a retreat is an act of cowardice. Quite the contrary... I understand realism as mimetic representation of contemporary middle class reality" [Cohn, 1991:1]) исследует и Р.Кон в связанной с анализом форм условности книге «Отступления от реализма в современной английской драме», и К.Уорт в «Революциях» (Cohn 1991; Worth 1972).
Разговор как о тенденциях, так и о традициях в современной драме, разумеется, невозможен без конкретных персоналий. И хотя, как уже отмечалось, практически всех авторов, так или иначе входивших в литературу после 1956 г, принято рассматривать в качестве «новой драмы» (за исключением загадочной «конвенциональной комедии Вест Энда»), тем не менее, список имен, если и не значительно, то варьируется от работы к работе. Конечно, это объясняется и естественными причинами - уходом одних, постоянным притоком все новых и новых авторов, создающих «современную драму». Другая причина - сами цели исследования, критической статьи или справочного издания: в одних работах в задачи входит рассмотрение всего текущего процесса, в других - лишь творчество некоторых авторов, определяющих динамику этого процесса. Наконец, есть и иные причины разночтений, варьируется само деление авторов на «главных» и «второстепенных», оказывается не выдержавшим проверки временем то, что представлялось актуальным в 50-х или 70-х гг. Вопрос рецепции, в том числе и мгновенной, на злобу дня все же является важным, когда речь идет о динамическом явлении - «революции», «волне» - как бы его ни называли.
Исчерпывающий список имен предлагают энциклопедические издания, но в них, соответственно, нет табели о рангах. Во многом обзорная работа Русинко «Британская драма с 1950 по настоящее время» помимо четырех авторов, выделенных для самостоятельного определения, уделяет внимание нескольким десяткам драматургов, среди которых (в порядке рассмотрения у данного автора): Д.Эдгар, Х.Баркер, Т.Гриффитс, С.Полякофф, П.Барнз, Дж.Арден, Э.Джеллико, К.Черчилл, Э.Бонд, Х.Брентон, Д.Хэар, А.Уэскер, Б.Биэн, Ш.Дилени, Д.Мерсер, А.Эйкборн, М.Фрэйн, К.Хэмптон, П.Шеффер, Р.Болт, П.Николс, Н.Ф.Симпсон, Дж.Ортон, Д.Стори. Ведущих драматургов в рамках текущего процесса называть действительно сложно, и, как отметил Б.Найтингейл в 1982 г., выбирая для своей книги пятьдесят «главных» британских пьес XX столетия, "judgments of contemporary work are notoriously unreliable; and posterity will, of course, have its own interests, biases and axes to grind" [Nightingale, 1982:16]. До определенной степени значим и критерий популярности: нельзя, например, не считаться с творчеством А.Эйкборна, "the second most performed playwright in the world in the 1980s after Shakespeare" [Eyre, Wright, 2001:322]. He все драматурги, заявившие о себе как о перспективных авторах, выдерживают проверку долгим елизаветинским веком, чье-то творчество завершилось рано по объективным обстоятельствам (Д.Мерсер 1928-1980, Дж.Ортон 1933-1967), кто-то не выдержал конкуренции, подобно Э.Джеллико и Ш.Дилени: "Ann Jellicoe and Shelagh Delaney attracted some attention but neither have really sustained their early promise" [Bigsby, 1981:16]. Но имеют первостепенное значение причины внутрилитературные, когда сам художественный эксперимент оказался не столь радикальным и интересным, каким виделся поначалу - можно вновь вспомнить Дж.Осборна или, например, Д.Стори. Про Э.Бонда, С.Полякоффа и А.Уэскера (особенно про Бонда), конечно, нельзя сказать, что они не оправдали надежд, вызванных первым появлением их пьес, но, если учесть, что каждый из них считался в свое время лидером одной из «волн» новейшей английской драмы, то эти позиции ими утрачены, а имя Уэскера, начиная с 1980-х, встречается, большей частью лишь в справочных изданиях. Прямо противоположная ситуация сложилась с эволюцией творчества Х.Баркера и Д.Хэара которые не сразу стали рассматриваться как драматурги первого ряда, но сейчас им посвящены главы практически в любой критической или научной работе, и даже А.Сиэрц, принципиально посвящая свою книгу лишь молодым авторам рубежа тысячелетий, не может обойтись без ссылок на Бонда, Баркера, Пинтера или Хэара (Sierz 2000). В сборнике статей французских исследователей «Британская драматургия (1980-2000)» (Lanteri 2002) тоже представлены не только молодые авторы М.Кримп, М.Равенхилл, С.Кейн, Дж.Картрайт, Д.Грейг, но из драматургов старшего поколения -Баркер, Бонд, Черчилл (при этом отсчет ведется только со второй волны, о «сердитых» речь не идет). И наоборот: поколение девятидесятников, естественно, рассматривается в критических работах только самого последнего времени (Eyre, Wright 2001, Innes 2002). Так, Д.Рэйби в книге 2003 г. «Английская драма с 1940-ого» подробно рассматривает творчество Дж.Картрайта - наряду с Х.Баркером - уже в связи с 1980-ми годами, и в финальной главе обращается к пьесам М.Равенхилла, М.Кримпа, Дж.Баттеруорта, С.Кейн.
Проблема «иерархии», если и не снимается, то никак не может считаться главной, когда акцент делается на конкретном аспекте изучения тенденций литературного процесса. Использование драматургами направленной и осознанной театральной условности призвано конкретизировать проблематику настоящего исследования. Отбор материала для диссертационной работы определило, таким образом, не «влияние» Беккета, а им обозначенное направление смены театральной парадигмы и форм условности: от модернизма к постмодернизму, от комедии и фарса к трагифарсу, от драмы к антидраме, от полномасштабной драмы к минимализму и т. д. Соответственно, выбор представителей более чем успешной полосы существования английского театра - второй половины XX - начала XXI века был связан с ролью и местом драматургии того или иного автора в послебеккетовском пространстве эксплицитно условной английской драмы. Здесь и авторы, чье творчество реально испытало - и этого не отрицают сами драматурги - воздействие беккетовской традиции, хотя бы на ранних стадиях становления собственного творческого почерка (Г.Пинтер, Т.Стоппард, С.Кейн). И такие, в принципе далекие от утверждения в своих пьесах «онтологического» абсурда драматурги, как А.Эйкборн или П.Барнз, творчество которых позволяют самым серьезным образом рассматривать функции и модификации фарса в современном английском театре. Ставшее хрестоматийным объявление Беккета одним из отцов постмодернизма делает релевантным для нашей работы вопрос о существовании постмодернизма в театре и о мере условности, характерной для «нерепрезентативной» драмы, хотя английский постмодернизм в достаточно малой степени демонстрирует зависимость собственно от Беккета. Среди авторов, активно и поливариантно отстаивающих позиции постмодернизма в английском театре конца XX века, очень разные драматурги: Т.Стоппард, К.Черчилл, Э.Бонд и М.Равенхилл. Следует, вероятно, оговорить, что все авторы, чье творчество представляет объект данного исследования, являются признанно крупнейшими современными драматургами, определяющими общий облик и тенденции не только английской сцены на протяжении ряда десятилетий, о подражателях не может быть и речи.
Другое дело, насколько имеет отношение к английскому театру сам Беккет, и это еще один вопрос, принципиальный для нашей работы, хотя для многих специалистов, занимающихся драматургией Великобритании, «географическое» размещение творчества Беккета, видимо, вообще не является проблемой. Во всяком случае, в таких разных работах, как «Революции в современной английской драме» К.Уорт (1972), «Путеводитель по современной английской драме» Дж.Р.Брауна (1972), «Пятьдесят современных британских пьес» Б.Найтингейла (1982), справочнике «Британские драматурги, 1956-1995» (под ред. У.Демастеса, 1996), сборнике «Драма о драме» (под ред. Н.Буаро, 1997) и книге Д.Рэйби «Английская драма с 1940-ого» (2003), драматические произведения Беккета анализируются на равных с «другими» английскими пьесами. Не всегда даже объясняется присутствие ирландского автора, создававшего свои самые известные пьесы во Франции и по-французски, в работах по английскому театру. Подобный подход симптоматичен сам по себе, поскольку помогает понять включенность творчества Беккета в общебританский процесс и логику его рецепции драматургами современниками. Но для постановки проблемы более важными в этом плане представляются исследования, в которых речь идет о факторе восприятия беккетовских пьес в Англии и/или их воздействии на драматургию младших современников писателя.
И здесь авторы работ об английской драме фактически сходятся в том, что первая постановка «В ожидании Годо» в Лондоне в 1955 году - по меньшей мере среди тех событий, которые и открывают современную английскую драму, поскольку "the impasse had been broken and innovation became recognized as not only possible but... necessary" [Brown 1984:2]. По мнению М.Брэдбери и К.Бигсби, реформы в английском театре середины XX века радикальны благодаря иноземным влияниям - "above all, perhaps, by the impact of the Theatre of the Absurd, and the shock of the London production of Samuel Beckett s Waiting for Godot" [Bigsby, 1981:7]. В монографии С.Русинко «Британская драма с 1950 по настоящее время» отчетливо обозначены две пьесы-события, определившие развитие новейшей английской драматургии: «В ожидании Годо» и «Оглянись во гневе». "What these two plays have in common, however, is their liberation of drama from traditional restraints" [Rusinko, 1989:11]. При этом Осборн и Беккет не объявляются лидерами разных направлений (подобные разные направления поиска в послевоенной английской драматургии задает влияние Брехта, Беккета и Арто [Rusinko, 1989:13,16]). Исследовательница не подвергает сомнению факт, что пьеса Осборна послужила катализатором для всех новаций, которые будут предложены последующими двумя поколениями драматургов, но "Osborne s drama shook the English stage at the time; Beckett shook the age" [Rusinko, 1989:12]. Ее слова, вероятно, можно переиначить и для понимания «современности» драмы в настоящем исследовании: появление пьесы Осборна сделало английскую драму открытой к радикальному эксперименту, но пример такого эксперимента был предложен Беккетом. Отсюда уже остается один шаг для определения современного пространства английской драмы как послебеккетовского, даже с учетом того, что далеко не все британские авторы -беккетианцы и, более того, собственно «влияние» Брехта, Чехова или Арто остается не менее значимым.
К.Иннес оговаривает Беккета как «особый случай», принципиально «интернациональный», но "Beckett would be categorized as European, if the way he redefined the essence of drama had not conditioned the basic approach of practically all present English playwrights" [Innes, 2002:6]. Беккет, следовательно, оказывается частью британского театрального процесса XX века, что при подобном прочтении справедливо не мешает творчеству драматурга оставаться фактором какой-либо иной (ирландской или французской) культуры. Правда, с достаточно вольным подходом к «английскому Беккету», как правило, не согласны беккетоведы, на что, конечно, имеют право.
С одной стороны - биографически - Беккет никогда не был ни британским писателем (если только не использовать совершенно казуистические доказательства: географически Ирландия входит в состав Британских островов, а политически независимое государство Ирландия существует только с 1926 г.) и уж ни в коей мере не был «елизаветинцем». С.Беккет родился в Ирландии в 1906 г. и умер во Франции в 1989 г., между двумя странами и идет «гомеровский» спор за право быть родиной писателя. Фактически родиной может считаться только Ирландия и то, что Беккет -ирландец (и выходец из протестантской, а не католической ирландской семьи) имеет значение, поскольку «ирландскость» находит выражение в беккетовских произведениях на различных уровнях текста. Но Франция - свободный выбор Беккета, он жил и работал в основном в Париже не как беженец, а как человек, который находил именно парижскую культурную и политическую атмосферу наиболее соответствующей своим личностным и творческим интересам. «Ирландскость» Беккета - важная проблема для исследователей, существуют работы, направленно предлагающие описание «беккетовской страны»: «Ирландский Беккет» Дж.Харрингтона, «Страна Беккета» Е.О Брайана (Harrington 1991; O Brian 1986). С другой стороны, труды, посвященные ирландскому театру XX века (как и английскому), совсем не обязательно включают Беккета в список рассматриваемых авторов. А очень развитое американское беккетоведение, например, решительно выступает против как изучения драматургии Беккета в контексте национальной театральной традиции, так и «колонизации Беккета ирландцами» [Ackerley, Gontarski 2004:227]. С Лондоном (возвращаясь к Англии) у Беккета складывались тем более не простые отношения, издательские в частности, и писатель неоднократно и недвусмысленно заявлял, что не хотел бы считаться британцем. Однако даже при беглом обзоре «национального вопроса» нельзя не учитывать факта, что Беккет - двуязычный писатель, и эти два языка: не ирландский и французский, а французский и английский. Языковая принадлежность предъявляет свои права, а при чуткости Беккета к словесным играм самого языка ("if language performs its own tricks", - как говорит П.Акройд [Ackroyd, 2002:237]), собственно концептосфера английского языка выдает национальное пристрастие к театру и театральности, не говоря уже об интересе Беккета практически ко всей европейской драматической традиции, рутину которой он, «играя», преодолевает. На французском языке Беккетом в оригинале созданы «Элефтерия», «В ожидании Годо», «Конец игры», по-английски - «Последняя лента Крэппа», «Игра», «Счастливые дни», «Приходят и уходят». При этом почти все программные произведения драматурга были переведены на «второй» язык самим автором, что создало достаточно сложную ситуацию если не двойного подлинника, то, во всяком случае, двойного авторского экземпляра текста. В результате французское и английское литературоведение не без основания считают Беккета «своим» автором. И хотя для данной работы англоязычные версии, воспринимаемые и большинством британских последователей, имеют принципиальное значение (да и научных работ на английском языке создается больше), безусловный интерес представляет контекст - театральный, национальный, философский, в котором сформировались и продолжают существовать пьесы Беккета. Множество работ сопоставляет произведения Беккета с творчеством его предшественников и современников: изучаются и практически неисчерпаемые аллюзии в его текстах, и преломление традиций, и контекст. Философские истоки и возможности толкования творчества Беккета рассматривают Дж.Эчесон, Э.Моро, П.Дж.Мэрфи, Ф.Н.Смит, Р.Вуд, К.Вульф, Э.Керн (Acheson 1978, Kern 1970, Morot 1976, Murphy 1994, Smith 2002, Wood 1993, Wulf 1997). Отношение беккетовского текста к Библии детально исследуется и в связи с философией («идея Бога»), и с религиозным аспектом, и на уровне аллюзий на произведение словесности глобальной значимости (Ackerley 1999, Wood 1993). Интерес писателя к различным видам искусства нашел отражение не столько в статьях Беккета (хотя у него есть и общеэстетические работы, и рецензии на конкретные события), сколько в его прозе и драмах; об этом пишут Л.Оппенхейм, Дж.ГТринц, Г.С.Армстронг (Oppenheim 2000, 1999, Armstrong 1990). И, разумеется, масса работ исследует соотношение творчества Беккета с его литературным контекстом - от Эсхила до Э.Ионеско. «Трагическая драма и семья: от Эсхила до Беккета» называется книга Б.Саймона (Simon 1991). Среди бесспорных приоритетов самого Беккета - Данте: в своем раннем творчестве ирландский автор открыто заявляет об этой приверженности как в новелле «Данте и Лобстер», так и в программном эссе «Данте... Бруно. Вико.. Джойс». Многообразие беккетовских обращений к Данте исследуют К.Дж.Эккерли, Ж.-П.Феррини и Д.Казели (Ackerley 1993, Ferrini 2003, Caseli 1996). Не менее очевидным и заданным еще ранним Беккетом параллелям с Джойсом и Прустом тоже посвящен длинный ряд исследований: о Джойсе и Беккете 32 Д.Коэн, А.Пьетт, К.Детмар, Б.Глюк, Ф.Рэтьен, Т.Маккуини (Cohen 1992, Piette 1996, Detmar 1998, Gluck 1979, Rathien 1999, McQueeny 1977); о Беккете и Прусте - Т.Маккуини, А.Пьетт, Дж.Пиллинг, Дж.Эчесон (McQueeny 1977, Piette 1996, Pilling 1976, Acheson 1978).
Интересно, что при таком огромном количестве работ о «влияниях» на Беккета, вопрос о его отношениях с последователями и младшими современниками до сих пор не получил монографического освещения. Вернее, данный вопрос был поставлен в эпохальной книге М.Эсслина о театре абсурда, рассматривавшей творчество Беккета наряду с другими франкоязычными драматургами Э.Ионеско, Ж.Жене, А.Адамовым, а также ближайшими последователями-прозелитами Г.Пинтером, С.Мрожеком, Э.Олби. Развивая идеи Эсслина, воздействие Беккета на театральный процесс почти любой страны изучали в связи с идеей абсурда. А по мере того как беккетоведение изживало тенденцию рассматривать Беккета в качестве абсурдиста (корректнее сформулировать: упрощенный или излишне прямолинейный, подход к абсурдизму), уже не казалось актуальным и сопоставление Беккета с тем или другим автором, наследующим традиции абсурда. Между тем, влияние Беккета на современный театральный процесс не исчерпало себя, и в самых новейших исследованиях оговаривается воздействие, которое творчество Беккета оказало на молодых драматургов (например, С.Кейн или Дж.Баттеруорта в английском театре 90-х), и сегодня, очевидно, позволительно заявлять о построении пьес в духе «минималистского» (в терминологии Э.Братера) театра Беккета или о системе образов, вызывающей в памяти классических беккетовских персонажей. Драматургия Беккета создает новую, принципиально условную театральную конвенцию, чтобы не сказать - новый язык (не французский и не английский, а театральный, но несколько отличающийся при этом во французском, немецком и английском вариантах), и именно разнообразие реакций на осуществленный писателем переворот в драме еще предстоит рассматривать, - в том числе, в данной работе. О злободневности постановки вопроса говорят и совсем недавние исследования, включающие Беккета в действительно новый - современный - контекст: «Беккет и деконструктивизм», «После Беккета» Э. Ульмана (Uhlmann 1999, 2004), «Арто, Беккет, Мишо» Э. Гроссмана (Grossman 2004).
При этом смена парадигм в связи с творчеством Беккета и его сподвижников (или просто современников) осознается в науке очень по-разному, и, полагая по-прежнему значимым определение «абсурдизм» (при необходимости некоторой ревизии выделения его особенностей), следует признать, что творчество Беккета связано и с модернизмом, и с постмодернизмом в драме и соответственно с полемикой вокруг этих феноменов. Л.Оппенхейм в своей книге 2000 г. полагает, что многолетний спор о модернизме и постмодернизме Беккета пора считать завершенным, поскольку обе модели теоретически применимы для интерпретации творчества Беккета, которое, однако, выходит за рамки той и другой конвенции (!) [Oppenheim, 2000:13-29]. Тем не менее, соотношение пьес Беккета с модернистской и/или постмодернистской эстетикой не является и проблемой исключительно терминологической: в зависимости от решения этого вопроса творчество Беккета предполагает различные сопоставления, так как его театр при всей оригинальности существует не изолированно, но имеет своих предшественников или последователей в оговоренной художественной системе.
Современное беккетоведение в целом - более чем разработанная и постоянно развивающаяся отрасль нашей науки. Не раз отмечалось, что о объем научных трудов о Беккете уже не на один порядок превышает все созданное самим писателем. Причем беккетоведение развивается благодаря взаимодействию различных дисциплин. Под эгидой Международного театрального союза, например, действует беккетовская секция, изучающая, прежде всего, театральную деятельность знаменитого драматурга. Театральный аспект ни в коем случае и не может быть обойден вниманием не столько даже потому, что для Беккета было действительно важно, как его пьесы будут выглядеть на сцене: драматург стремился самостоятельно осуществлять или курировать множество постановочных проектов по собственным произведениям (на театральных площадках разных стран, в кино и на телевидении), - но и потому, что беккетовская драматургия по своей сути глубоко театральна, направлена на зрительное восприятие и акустическое воздействие на аудиторию, создается с помощью тех самых «театральных знаков», которые не сводятся к семантике слов и диалогу как действию. Существуют критические статьи и театроведческие исследования, специально посвященные Беккету как режиссеру и сценической судьбе его пьес. Весьма значительные работы, связанные с театральной интерпретацией драматических произведений писателя, принадлежат и таким известным беккетоведам, как Л.Бен-Цви, Дж.Калб, Р.Кэйв и С.Гонтарский (Ben-Zvi 1982, Kalb 1989, Cave 1987, Gontarski 1982). В 1988 году, за год до смерти драматурга, в свет вышел сборник «Беккет в театре», подводящий итоги театральной практики драматического писателя и режиссера (McMillan, Fesenheld 1988).
Если же обращаться исключительно к литературоведческим трудам, посвященным ирландско-французскому писателю, следует, напротив, оговорить значимость творчества Беккета не только в связи с его программной для мирового театра второй половины XX века драматургией, но и поэзией, и прозой. Причем и то, и другое по времени утверждения своих позиций в творчестве Беккета опережает пьесы. Первое законченное драматическое произведение, принадлежащее перу Беккета, но еще не театру абсурда -«Элефтерия», - было создано лишь в 1947 году («В ожидании Годо» датируется 1948 г., но постановка и публикация пьесы осуществлены несколько позднее), тогда как весьма яркие прозаические и стихотворные опыты писателя относятся уже к 1929-1930 гг. Более того, по сравнению с драмой, поэзией и литературной критикой, лишь прозаические произведения С.Беккета представляют собой непрерывную канву и являются результатом постоянной работы автора, начиная со второй половины двадцатых годов и вплоть до 80-х. Именно романы и малая проза позволили исследователям выделить этапы творчества Беккета - работы раннего периода (1930-е годы), зрелого (40-50-е) и позднего (60-70-е). Без учета прозы Беккета не только трудно, но, скорее всего, невозможно говорить о диалектике творчества мастера, его пути к драматургии абсурда, комментариев к которой Беккет практически и принципиально не давал. Мировоззрение автора, безусловно, сформировалось еще «на прозаическом этапе», и философский «базис» творчества Беккета в прозе явлен конкретнее, чем в драме (тем более что именно ранняя проза демонстрирует становление художника, и в этом смысле «ранней драматургии» у Беккета практически нет). Но и на уровне разработки художественной концепции, - во всяком случае, по отношению к языку и его возможностям - эстетические принципы писателя сформированы до его обращения к драме. Даже мотив ожидания появляется задолго до «Годо», еще в раннем сборнике «Больше замахов, чем ударов». Считается достаточно устойчивым и тип героя, впервые представленный Беккетом в прозе - персонажи-Ничто, лишенные не только личности, но часто антропоморфного облика, буквально растворяющиеся в хаосе мира и слова. В этом смысле перед драматургом стояла объективно новаторская задача - найти «материальные» средства существования подобного персонажа на сцене.
В беккетоведении, соответственно, существуют работы, исследующие творчество писателя «глобально», т.е. монографии - Ф.Доэрти, А.К.Кеннеди, В.Мерсье, Дж.Пиллинга, - посвященные всему корпусу произведений писателя и не ограничивающиеся задачей рассмотрения отдельных жанров (Doherty 1971; Kennedy 1989; Mercier 1977; Pilling 1976). С другой стороны, большой интерес представляют работы, концентрирующиеся на том или ином аспекте творчества Беккета: в связи с прозой это работы Дж.Флетчера, Р.Рабиновица, Д.Катца, П.Дж.Мэрфи и др. (Fletcher 1970, Rabinovitz 1984, Murphy 1992, Katz 1999). Отечественное беккетоведение - явление относительно недавнее (если сознательно опустить статьи в пособиях по зарубежной драме, создававшиеся в советское время и часто исполненные излишне критического пафоса по отношению к театру абсурда). Здесь нельзя не упомянуть работы И.Дюшена и М.Кореневой (Дюшен 1991, Коренева 2002, 1995, 2000), а в уже в 2000-х гг. -исследования Д.Токарева, М.Голубкова, посвященные прежде всего прозаическому наследию мастера (Токарев 2002).
Драматургия - та часть наследия Беккета, которая всегда привлекала максимальное внимание исследователей. Множество книг и статей посвящено отдельным пьесам Беккета, а в связи с научными и критическими работами о «В ожидании Годо» давно уже существуют антологии и самостоятельные библиографические описания. При попытке классификации всего драматического творчества Беккета к жизни оказываются вызваны самые разные определения, характеристики и термины. Сам театр Беккета называют не только театром абсурда [Esslin, 2001] или «минималистским» - по отношению к пьесам 60-70-х гг. [Brater, 1987], но и «театром разлада» [Mayberry, 1989], «театром страдания» [Doherty, 1971]. Г.Хок весьма убедительно использует понятие «редукционизм» в связи с эволюцией театра Беккета от «Годо» к поздним миниатюрам [Hauck, 1992]. И наконец, Ш.Леви предлагает термин «самореферентная драма» [Levy, 2002]. Бесспорен авторитет в науке о Беккете последовательно на протяжении не одного десятка лет изучающих творчество писателя таких ученых, как С.Гонтарски, Р.Кон, Дж.Ноулсон (Gontarski 1985, Cohn 1962, 1980, 2001, Knowlson 1972). С.Гонтарски К.Эккерли взяли на себя труд создания современного и уже второго (предыдущий выполнен под редакцией Дж.Пиллинга в Кембриджском издательстве в 1994 г. (Pilling 1994)) энциклопедически исчерпывающего справочника по Беккету - его жизни творчеству, истокам, аллюзиям и интерпретациям (Ackerley, Gontarski 2004). Р.Кон, преимущественно специализирующаяся на вопросах театра, и не только беккетовского, но и британского, вводит термин, используемый теперь многими учеными и характеризующий специфику исконно условного космоса беккетовских пьес, -"theatereality"6.
Если проблема динамики условности в драматургии Беккета и творчестве английских драматургов в таком виде не рассматривалась, то разговор о новой конвенции начат все тем же М.Эсслином в его основополагающей монографии. Так или иначе, вопросы, связанные с разработкой специфического театрального языка, затрагиваются в ряде работ выше упомянутых авторов, а также в трудах, посвященных проблемам развития английского и, шире, западного театра. Представляется важным проследить, как именно театр Беккета разрушает «старую» драматическую условность и насколько последовательно создает новую или новые ее формы. Поскольку настоящее исследование связано с тенденциями художественной образности, акцентирующими аспект театральный, принципиально настаивающими на «ненатуральности», небуквальности понимания презентируемого (в большей степени, чем «воспроизводимого») материала, в сфере нашего внимания оказываются соответственно не все художественные системы изучаемого периода, но наиболее тяготеющие к повышенной условности, обновляющие ее формы и виды. Мы полагаем, что условность как результат сознательных авторских предпочтений, называемая здесь эксплицитной, определяется стремлением текста выйти за границы заявленной репрезентации и существовать по законам художественного мира, предложенного самим писателем.
Научная новизна выполняемого исследования заключается в том, что художественная условность современной драматургии представлена в диссертации как теоретическая проблема, которая впервые рассматривается на обширном англоязычном драматургическом материале, отражающем разные ступени эволюции условности XX века. Уточняется, что внешне очевидная условность драматического произведения обладает богатым потенциалом для изменения, акцентирования и развития. В диссертации разводятся понятия «условность» и «конвенциональность», разрабатывается теория драматической условности/конвенции в сложном контексте их соотношения и бытия, что обнаруживает самостоятельный интересный аспект исследования драмы. В работе создается целостная картина развития традиционных и экспериментальных форм условности в связи с ее использованием в современной английской драме. Особое внимание уделяется драматической условности как принципиальной составляющей модернистского и постмодернистского театрального эксперимента XX столетия, при этом доказывается, что эволюция условности и динамика обозначенного эксперимента в драме неразрывно связаны. Работа исходит из того, что драматическое творчество Беккета является кульминационной точкой в развитии модернистской драматургии XX века, наиболее продуктивно утверждающей - благодаря взгляду на мир сквозь призму абсурда, компрессии театральных знаков, нерепрезентативному статусу драмы - новые принципы и формы акцентирования условности в драматическом произведении. Пересматриваются и расширяются, казалось бы, устоявшиеся представления о театре абсурда, театре жестокости, их соотношении с драматургией психологической и политизированной на фоне общей тенденции к усилению театральной условности. Впервые в отечественном литературоведении в рамках одной научной работы рассматривается творчество принадлежащих к различным генерациям и отличающихся характером художественного эксперимента драматургов, как Г.Пинтер и П.Барнз, А.Эйкборн и Э.Бонд, Т.Стоппард и С.Кейн. «Молодая» британская драматургия 1990-х - начала 2000-х годов получает оценку в контексте развития условности и конвенциональности.
Методологию исследования определяет диалектика единичного и всеобщего в понимании драматической условности. Мы исходили из того, что условность в современной драме - синтез традиционных родовых параметров и авторской установки, несущей на себе отпечаток стилевого кода эпохи. В работе использовались методы исторической поэтики, позволяющие выявлять теоретические закономерности крупных историко-литературных систем, принципы современной компаративистики, но и направленческие поэтики, являющиеся программным обоснованием практики определенной школы (постмодернизм, редукционизм, теория представления). Положения рецептивной эстетики задействуются для выявления воздействия Беккета на британский театральный процесс. По отношению к драме сложно разграничить теоретические поэтики и концепции прикладные, манифестирующие новации определенного периода, поскольку и самая известная из «Поэтик», аристотелевская, изначально строилась как практическое пособие для драматургов конкретной исторической эпохи. Разработанные со времен Аристотеля представления о драме как роде литературы в данном случае являются основой аналитической части исследования. Методологическую и теоретическую основу диссертации составляют работы отечественных ученых (Л.Г.Андреев, М.М.Бахтин, А.В.Карельский, Г.К.Косиков, М.Н.Липовецкий, Ю.М.Лотман, Г.С.Померанц, Б.А.Успенский, В.Е.Хализев), зарубежных теоретиков постструктурализма, рецептивной эстетики, постмодернизма (Р.Барт, Ж.Делез, Ж.Деррида, Ю.Кристева, Ж.Фераль, Л.Хатчеон, Х.Р.Яусс), специалистов по истории и теории драмы.
Теоретическая значимость работы определяется ее вкладом в развитие теории драматической условности. Предлагаемое исследование восполняет определенный пробел в отечественном беккетоведении, способствует более глубокому пониманию драматургии абсурда и его последователей. Полученные результаты могут быть использованы при исследовании других эстетических тенденций современной драмы, при создании обобщающих трудов по истории драматургии и театра. Практическая значимость данной диссертации заключается в том, что ее материалы могут найти применение в вузовской практике: преподавание курсов истории зарубежной литературы, истории западноевропейского театра, теории литературы, истории зарубежной критики и литературоведения, спецкурсов по современной драме, литературе модернизма и постмодернизма.
Апробация результатов работы проводилась на российских, зональных и международных конференциях, среди которых: Конференция по сравнительному изучению драмы (The 24th Comparative Drama Conference, Ohio State University, 2000; The 29th Comparative Drama Conference, California State University, 2005), Международная конференция Российской ассоциации преподавателей английской литературы (Москва, 1997, 2003; Уфа, 1998; Тамбов, 2001), Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы филологического образования: наука - вуз - школа» (Екатеринбург, 1998-2005). Текущие результаты исследования докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры русской и зарубежной литературы Уральского государственного педагогического университета.
Содержание диссертации представлено в монографии «С.Беккет и проблема условности в современной английской драме» и ряде статей, посвященных проблеме драматической условности, отдельным аспектам творчества С.Беккета, П.Барнза, Э.Бонда, С.Кейн, Г.Пинтера, Т.Стоппарда, К.Черчилл.
Положения, которые выносятся на защиту:
1. современная драматическая условность претерпела существенные изменения в результате активного творческого поиска как в драме, так и в театре XX века; эксплицитная условность стала общей характеристикой «нерепрезентационной» драмы и распространяется на принципы создания художественного мира-хаоса, разработку нового типа драматического характера, на отношения между автором и зрителем, текстом и спектаклем;
2. представив собственную и перспективную модель театра, С.Беккет утверждает радикальную форму существования не только абсурдистской, но и в целом модернистской драматургии XX века; творчество Беккета явилось стимулом и источником развития условности для активно экспериментирующей драматургии разных стран, тенденций и жанров;
3. сочетание абсурдистских инноваций с традициями английской драмы существует в разных версиях: «вторичная» абсурдизация комических жанров может позволять (Барнз) или не позволять (Эйкборн) говорить о современном, послебеккетовском подходе к традиционным жанровым моделям; весьма активно, но по-разному традиция абсурда проявила себя в становлении творческой индивидуальности Пинтера и Стоппарда;
4. бытование постмодернистской условности в драматическом произведении, формы собственно театральной (вербальной и визуальной) интертекстуальности во многом определены Беккетом и становятся самостоятельно значимым культурным феноменом Великобритании благодаря авторскому театру Стоппарда, экспериментальным мастерским политизированного или феминистского профиля, работам молодых драматургов рубежа тысячелетий;
5. характер беккетовской рецепции меняется по мере утверждения новых форм театральности и движения текущего театрального процесса; послебеккетовское пространство как пласт культуры, в котором играют и динамично соотносятся семантически подвижные категории условности, конвенциональное™, театральности, оказывается саморазвивающимся, демонстрирующим новые тенденции британского театра от Пинтера до Равенхилла и Баттеруорта, но и открывающим новые возможности прочтения самого Беккета.
Проблема художественной условности в теоретическом освещении
Проблему художественной условности, вероятно, можно считать одной из самых разработанных в нашей науке: в широком и узком смысле она ставилась, обсуждалась и вызывала бурные споры неоднократно и едва ли не с момента возникновения гуманитарного знания как такового. Обзор истории вопроса следовало бы начинать с Платона или, во всяком случае, с Аристотеля; общеэстетический статус проблема условности сохраняла на протяжении многих веков благодаря Буало и Гегелю, Канту и Шеллингу, Чернышевскому и Ницше; список великих имен может быть гораздо длиннее, «Время общих «философских» эстетик» [Поспелов, 1978:43] проходило и возвращалось. Свой вклад в понимание условности в XX веке внесли семиотика и герменевтика, и детальное рассмотрение позиций каждой из них кажется настолько проблематичным, что трудно не согласиться с английским исследователем, посвятившим свою книгу проблемам театральной условности: "The literature on the nature of conventions, in philosophy, sociology and literary and dramatic criticism, is far too extensive to be done here" [Burns, 1972:29].
Определение роли, функций и носителей условности остается актуальным и для современного литературоведения, о чем свидетельствуют новейшие разработки отечественных и зарубежных ученых. В недавно увидевших свет работах Н.Барабаш «Условность в драме и театре (современные аспекты)», Н.Владимировой «Формы художественной условности в литературе Великобритании XX века», Е.Ковтун «Типы и функции художественной условности в европейской литературе первой половины XX в.», И.Ликинской «Проблема условности в искусстве (на материале современного российского кино)», Г.Тамарли «Поэтика условности в драматургии А.П.Чехова» (Барабаш 1991; Владимирова 1998; Ковтун 2000, Ликинская 2001, Тамарли 1995) детально изучено не только состояние вопроса об условности (в различных его аспектах), но и проанализированы дискуссии предшествующих десятилетий: проблема неоднократно оказывалась насущной на протяжении XX столетия. И все же существующие дефиниции художественной условности вряд ли можно считать бесспорными. Ширина и глубина проблемы толкуются очень по-разному в зависимости от исходных интенций того или другого исследования. Сегодня, вероятно, можно отдельно и не в качестве полемических воззрений рассматривать в связи с условностью в искусстве философский, идеологический, эстетический, семиотический и различные (в зависимости от методологии) литературоведческие подходы.
Термин, кроме того, постоянно требует (и получает) уточнения либо за счет корректирующих определений (например, «первичная», «вторичная», «безусловная», «нарочитая», «реалистическая» условность), либо за счет некоего неидентичного в разных работах синонимического ряда («конвенциональность», «художественность», «вымысел», «фантастика», «аллегория», «гипербола»), либо, наконец, за счет противопоставления условности иным - «не условным» - формам художественного изображения или выражения («иллюзия достоверности», «правдоподобие», «жизнеподобие», «реализм», «натурализм»).
Даже не имея в виду попытки привести все определения условности к единому знаменателю, следует, тем не менее, обозначить основные уровни разговора об условности и обращения к ним в дальнейшем исследовании для анализа конкретных драматических текстов и ситуаций. На первый взгляд - при сопоставлении точек зрения различных авторов - может показаться наиболее «устойчивой» (повторяющейся из работы в работу и восходящей еще к аристотелевскому1 определению мимесиса) гносеологическое обоснование природы условности. Гносеологический подход к условности в искусстве связан, как отмечал В.Н.Турбин, с «нетождественностыо образа объекту отражения» [Турбин, 1961:21]. Объектом отражения считается в таком случае «внешний» мир, образом - основа искусства в целом. Обобщение в искусстве -часть обобщения в процессе человеческого мышления и неотделимо от образно-знаковой природы искусства. Если в качестве обоснования условности искусства необходимо использовать возможности философии, то в данном случае мы наблюдаем апелляцию к философии материалистической, и материя, или «внешний мир», по отношению к сознанию считается определяющей. Однако и при обращении к противоположному варианту, когда «идеальным», наоборот, является то, что за пределами и искусства как создания человеческих рук (артефакта), и чувственно осязаемой реальности, искусство окажется платоновской «тенью теней». Или, по Гегелю, «все то, в чем внешнее явление нуждается для своего существования, возвращается искусством в ту сферу, где внешний элемент может стать выражением внутренней свободы» [Гегель, 1968:1:165]. В обоих случаях «всякое идеальное нетождественно материальному» [Михайлова, 1970:84]. Современный исследователь говорит в этом смысле о «невещественности образов»: «Специфика изобразительного (предметного) начала в литературе во многом предопределена тем, что слово является конвенциональным (условным) знаком, что оно не похоже на предмет, им обозначаемый» [Хализев, 2002:119].
Другое дело, что при «общефилософском» подходе к искусству как одной из разновидностей «отражающего» человеческого сознания, не вырабатывается представление о специфической «художественной реальности», которая создается по законам, часто далеким от последовательного отражения. Об этом в XX веке настойчиво напоминали ученые самых разных школ. По мнению Н.Г Гея, например, «в образе как феномене искусства, в своеобразном аналоге жизни и вместе с тем особом способе ее освоения, в самой его структуре, в синтетической природе воссоздания жизни и находит свое выражение сущность эстетического освоения действительности и соответственно отличие художественного сознания от научного ... в нем основополагающая эстетическая и художественная доминанта искусства» [Гей, 1983:68,71].
Национальное и наднациональное в драматургии С. Беккета
Драматическое творчество Беккета, являясь по сути своей экстерриториальным (как обозначают все развитие беккетовского канона после 1946 года), вступает в диалог с традициями различных стран и культурных уровней. Насколько абсурден этот диалог и на каких языках он ведется, вопрос достаточно спорный, до сих пор получающий разные ответы. Древние -начиная от античности - и новейшие системы европейской философии, литературы, театра не только находят имплицитное или эксплицитное отражение в произведениях Беккета, но и пересекаются, перекликаются между собой так, что их бывает невозможно отделить друг от друга, даже если изначально они представляют собой полярно противоположные явления культуры. Глобальность беккетовского эксперимента в театре, его полемическое отношение практически ко всей драматической традиции не позволяет рассматривать творчество «ирландско-французского» автора как сугубо национальное, о какой бы национальной культуре не шла речь. Но представляется необходимым проследить отношения новаторского театра Беккета с уже существующими «языками творения» (различными знаковыми системами), а уже вслед за этим рассмотреть, в какой мере современные приверженцы «традиционной жанровой условности» в английском театре поддерживают или отвергают своим творчеством глобальный антитеатральный эксперимент Даже в прямом смысле вопрос о «национальности абсурда» не должен казаться странным: если под абсурдом понимается любая нелепость, несообразность, дисгармония, само восприятие «нелепостей» во многом определяется различиями в менталитете. Концепция абсурда, выработанная европейской философией и литературой, также допускает неоднозначное понимание «абсурдного» как в различные культурно-исторические эпохи, так и (до известной степени) у разных народов; национальный аспект приобретает определенное значение в связи с наполнением некоего общего объема «смыслов» и «представлений», которые мы «не слышим» - в соответствии с этимологией слова «абсурд». Условность, на наш взгляд, не может определяться национальной спецификой, но традиции театра той или иной страны могут в большей или меньшей степени определять многообразие форм условности.
Хотя феномен театра абсурда утвердился прежде всего на французской почве в середине XX века, уже родоначальник термина утверждал, что театральное новообразование не стоит воспринимать как чисто французский феномен: "it is broadly based on ancient strands of the Western tradition and has its exponents in Britain, Spain. Italy, Germany, Switzerland, Eastern Europe and the United States" [Esslin, 2001:26]. В свою очередь Г.Блум, введший в современный литературоведческий обиход понятие «западный канон», рассматривает творчество Сэмюэла Беккета как "the endgame of the Western Canon s last major phase, while we uneasily find ourselves waiting for Godot, who will turn out to be the demiurge of a new Theocratic Age" [Bloom, 1994:498]. «Национальные» составляющие антитеатра Беккета имеет смысл изучать в том же плане, как религиозные или философские, - то есть с учетом парадоксальности его собственного творчества и того скептицизма, с которым Беккет воспринимал любую истину в последней инстанции. Так, будучи «по рождению» ирландским протестантом, писатель не стал патриотом Ирландии и не являлся приверженцем какой-либо религии, однако авторы «беккетовской энциклопедии» К.Эккерли и С.Гонтарски говорят о принципиальном парадоксе, который "S amuel B eckett might have resented but not one he could escape. Whatever his disbelief, he is a major religious writer" [Ackerley, Gontarski, 2004:480].
Беккет не считал себя представителем театра абсурда1, как и, например, философом, хотя различные философские системы находят глубокое отражение в его творчестве, а само отношение писателя к философии никак нельзя назвать эмпирическим. Термин «театр абсурда» не устраивал автора не столько потому, что ему не нравилась перспектива объединения с другими авангардистами, а скорее из-за сложного отношения Беккета к возможностям Слова, недоверия к атрибутивной полноте любого понятия. Слово в произведениях Беккета многоязычно, так как С.Беккет (не француз по национальности, подобно другим абсурдистам первого призыва), создавал свои произведения на двух языках и часто в двух отличающихся один от другого вариантах - на английском и французском, нередко актуализируя и концепты, пришедшие из «третьих» языков. Слово и само по себе «играет» у Беккета: во французской версии сохраняются значения, свойственные омонимичному английскому корреляту, в английской - обязательно присутствуют слова отчетливо кельтского происхождения, не говоря уже о немецких или латинских «коннотациях», которые тоже задействованы в билингвальном творчестве писателя.
Поскольку произведения Беккета насыщены аллюзиями на самые разные части мирового культурного Текста, трудно было бы как-то ограничить приоритеты писателя двумя или тремя культурными пластами, но в связи с драматическим каноном, наиболее активно дебатируется соотношение творчества Беккета с французской, ирландской и английской традицией. Сами культурные напластования, языковые и театральные установки, даже особенности менталитета трех веками пересекавшихся народов и традиций не всегда просто разделить. И если по отношению к Беккету обозначить в качестве «основной» театральной традиции английскую, а философской - французскую, ситуация все равно окажется сложнее и многограннее: абсолютная беккетовская способность воспринимать абсурд на слух постоянно улавливает моменты пересечения или, напротив, отталкивания в одних и тех же понятиях или идеях, а новое, приобретенное драматургом знание утверждается на основе той же «кельтской ментальности».
Динамика условности в драматургии С. Беккета 1950-1960-х гг
В качестве радикальной точки театрального эксперимента XX столетия мы рассматриваем классику театра абсурда, то есть первые, самые известные произведения Сэмюэла Беккета. Однако, если новаторский подход к родовым параметрам драмы, соотношению «текста» и «представления» принципиален для Беккета с самых первых драматических опытов, то правила нового, редуцированного, или компрессионного, театра утверждались постепенно, а их пересмотр и эволюция продолжались вплоть до «Что где», заключительной в творчестве Беккета пьесы. С.Гонтарски утверждает, что развитие эстетических взглядов Беккета-драматурга не только играло определяющую роль в существовании позднего модернистского театра, но и накладывало отпечаток на отношение мастера к собственным работам, включая уже созданные. "In retrospect, it may seem self-evident to proclaim that the Samuel Beckett who authored Waiting for Godot in 1948 and that the Samuel Beckett who staged it at the Schiller Theatre, Berlin, in 1978 were not the same person, no less the same artist" [Gontarski, 1998:131]. Если «В ожидании Го до уже было рассмотрено здесь как ключевое не только (может быть, и не столько) для Беккета, но и для мирового театра событие, то на данном этапе представляется важным проследить, как вырабатывается собственно беккетовская абсурдистская конвенция и ее составляющие. С другой стороны, интересно посмотреть, какова динамика эксперимента, как видел и реализовал развитие нового театра сам Беккет (когда параллельно уже разворачивался эксперимент молодых драматургов, увидевших в «Годо» не редукцию, а расширение возможностей театра)1.
Установка на компрессию, «минимализм» свойственна работам Беккета не сразу. «В ожидании Годо», и «Конец игры» - произведения достаточно объемные, чтобы не сказать полномасштабные. Многогранно и обращение автора к различным конвенциям и художественным средствам в ходе работы над этими пьесами. "Waiting for Godot combines a wide range of theatrical means and devices - characters, props, movement - than do any of the later plays. It is perhaps Beckett s most accessible play" [Levy, 2002:26]. Последующие пьесы будут в большей степени сконцентрированы на каком-то одном приеме, элементе, который и включает в себя максимальное количество смыслов. Беккетовский театр - вещь в себе и «о себе», в этом смысле Ш.Леви и называет драму самореферентной, «самовоспроизводящей» (Samuel Beckett s Self-Referential Drama).
Непосредственно перед «Годо» писатель работал над пьесой «Элефтерия», принадлежность которой к беккетовскому канону до сих пор остается достаточно спорной. Важность пьесы при изучении драматургии Беккета сегодня несомненна, но насколько именно это произведение открывает эксперимент или хотя бы предвосхищает его, можно дискутировать. Из трех пьес, работа над которыми опережала в творчестве Беккета «В ожидании Годо», только «Элефтерия» (Eleutheria, 1947) была явлена миру как законченное драматическое произведение, хотя и не опубликована вплоть до 1995 г. Пьеса написана отнюдь не «ранним», а вполне зрелым автором, в те же годы завершившим прозаическую трилогию и относительно недавно начавшим создавать произведения на французском языке. Полагают, что к активному драматическому творчеству писатель обратился, чтобы в какой-то степени отдохнуть от, казалось бы, ведущего в тупик прозаического эксперимента: "I turned to writing plays to relieve myself from the awful depression the prose led me into. Life at the time was too demanding, too terrible, and I thought theatre would be a diversion" [Beckett, 1995:ix]. Беккетоведение, анализируя «переключение» мастера на драматургию, достаточно рано зафиксировало попытку писателя уйти от дилеммы, которая существовала для него в борьбе со словом: демонстрировать неадекватность языка в романе приходится словами. "If language was inherently unstable and untrustworthy, - говорит Д.Брэдби, - then perhaps he could find a more adequate expressive form by turning to theatre, in which language is constantly set in the context of, or even in contradiction to, other expressive means such as movement, gesture, costume, light, etc." [Bradby, 2004:64]. Правда, с театром связаны не только более разнообразные возможности, но и большее их сопротивление компрессии, и Беккет это сопротивление успешно, но не одномоментно преодолевает. Экстенсификация - не беккетовский путь, и расширению здесь подвергалась только сама установка: если в прозе опустошенным было, прежде всего, слово (а уже через него - и время, и пространство, и персонаж), то в произведении для театра и свет, и зримый образ, и движение наравне с диалогом «ничего не значат». Другое дело, что в этой области еще предстояло найти для абсурдной переполненности каждого знака смыслами сценический вариант.