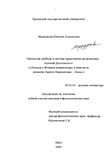Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. «Совмещение фантастики с бытом» как авторский метод 18
1.1. Из истории вопроса о взаимодействии условной и жизнеподобной тенденций образотворчества в русской литературе 18
1.2. Жанрообразующий аспект взаимодействия двух тенденций художественной образности 33
1.3. Взаимодействие условности и жизнеподобия как структурообразующий принцип 71
Глава 2. Мифотворчество как субъективно-авторская форма выражения многомирности бытия 88
2.1. Триродов и Светозарный в авторском мифе об абсолютной личности 89
2.2. Вечные темы жизни, любви и смерти в мифологическом мире романа 99
2.3. Миф о тихих детях 106
2.4. Космогония «по Сологубу» и миф об идеальном устройстве бытия 114
Заключение 126
Список литературы 134
- Из истории вопроса о взаимодействии условной и жизнеподобной тенденций образотворчества в русской литературе
- Жанрообразующий аспект взаимодействия двух тенденций художественной образности
- Триродов и Светозарный в авторском мифе об абсолютной личности
- Вечные темы жизни, любви и смерти в мифологическом мире романа
Введение к работе
Федор Сологуб (Ф. К. Тетерников 1863 - 1927гг) - крупнейший представитель русского символизма, поэт и прозаик, автор таких романов, как «Тяжелые сны»(1892), «Мелкий бес» (1902), «Творимая легенда» (1912), «Заклинательница змей» (1921).
Роман «Творимая легенда» оказался своеобразной программой преобразования несовершенной действительности в мир добра и гармонии, художественной иллюстрацией к творческим исканиям Сологуба, его воззрениям на взаимоотношения искусства и действительности.
Процесс осмысления художественной значимости романа, начавшийся во времена Сологуба, преодолев этапы непонимания и отлученности от массового читателя, продолжается до сих пор. В нем можно выделить два этапа: 1) отзывы на роман современной автору критики (с 1907 - по 1925гг.), 2) исследования зарубежных и отечественных литературоведов второй половины XX в.
Процесс восприятия и анализа романа "Творимая легенда" для современной Сологубу критики был значительно осложнен тем, что самый большой роман Федора Сологуба издавался дважды. При этом первое издание романа охватило 5 лет (с 1907- 1912г.) и представило читателю четырехчастный роман «Навьи чары». Вторая встреча романа с современным автору читателем состоялась в 1914 г. в «сириновском» собрании сочинений Сологуба, где роман назывался по-новому и состоял уже из трех частей.
К тому же сложность восприятия романа усиливалась еще и постоянной возможностью сравнения его с оценкой предыдущих романов Федора Сологуба - "Тяжелые сны" и, прежде всего, "Мелкий бес".
О "Мелком бесе" (1892-1902) говорили все: и политики, и реалисты, и сами декаденты. В этом романе критикой отмечалось то состояние размытости границ между реализмом и символизмом, о котором позднее скажут В.Ерофеев и Е.Старикова.2 Это положение "на грани разрыва" реалистической традиции и перехода в модернизм и способствовало в большей степени положительной реакции критиков. По-иному сложилась в критике судьба самого большого романа Федора Сологуба - "Творимая легенда".
Вопрос о восприятии романа современной автору критикой стал темой статьи Х.Барана «Федор Сологуб и критики: споры о «Навьих чарах». Характеризуя реакцию критики на роман, Х.Баран отмечает, что «в отзывах современников на «Навьи чары» лейтмотивом проходит одна мысль: текст романа содержит несовместимые друг с другом повествовательные элементы, семантические пространства которых организованы по совершенно разным принципам». Но для одних нестандартность сюжета, основанного на смешении сказки и реальности, картин-аналогий недавнего прошлого (революция 1905 г.) с жизнью вымышленного королевства Соединенных Островов стала основанием вновь усомниться в перспективности модернистской прозы, тогда как другие увидели в ней ключ к новой поэтике. Причина этой «несовместимости» кроется в особой, новой природе художественной образности, основанной на взаимодействии условности и жизнеподобия.
К числу непонявших и отвергших новую организацию романа, проявившуюся в «сочетании яркого реализма с лишним, органически несвязанным символизмом», в той «калейдоскопической пестроте, где реальное, даже грубо злободневное - митинг, товарищи, казаки, шпионы - вдруг сменяется чистейшею фантастикою с привидениями или тихими мальчиками, в своем роде стоящими привидений», принадлежат: В.Львов,1 В.Евгеньев - Максимов, И.Игнатов,3 В.Воровский,4 В.Кранихфельд.
Подобного рода критика судит о нетрадиционном для русской литературы романе с традиционных позиций, главным образом отрицая способ изображения окружающей действительности, во-первых, обратившийся к выходящему за рамки требований поэтики реализма механизму переплетения реального и фантастического, во-вторых, не стремящийся к правде факта в разговоре о политических событиях времени. Это крыло критики не учитывало тот факт, что «легенда не стремится к убедительности и правдоподобию, тешит себя игрой фантастики и реального и мир предстает в ней в волшебстве различного освещения».7
Тональность иного - критического, но не уничтожающего - взгляда на роман, допускающего возможность смещения акцента с реальности на фантастику, созвучна мысли С.Венгерова о том, что вектор интереса модернизма «стремится захватить области, чистым реализмом оставленные в о тени». Этот взгляд объединяет и отзывы, сопровождавшие длительную публикацию романа, касающиеся лишь той части романного айсберга, которая была представлена автором к 1909г., и более поздние мнения о полностью опубликованном романе. К первым принадлежат статьи М.Волошина, А.Чеботаревской, А.Измайлова, В.Малахиевой-Мирович, Ю.Айхенвальда. Ко вторым, итоговым - работы К.Чуковского, А.Долинина, Е.Замятина. Во всех них можно найти ростки интересующей нас проблемы взаимодействия условности и жизнеподобия.
По мнению М.Волошина, механизм «колдовской игры, которую завел Сологуб в своем новом романе, объединяет силы земные, небесные, дьявольские». Залогом успешности авторской игры, с точки зрения критика, становится инверсия представлений о реальном и воображаемом, умение Сологуба «совлекать с жизни покров реальностей и из мечты создавать реальности новые». Учитывая, что «символизм неизбежно зиждется на реализме и не может существовать без опоры на него», М.Волошин выявляет ту незримую нить, «импульс напоминания», который связывает у Сологуба мир реальный и условный. Это «напоминание», стремящееся оттолкнуться от обыденности, ведет к строительству «мира наоборот», авторского условного мира в романе. Глядясь в него и соблюдая «фокус опрозрачивания»,5 можно узнать земные законы обывательской жизни и, наоборот, взглянув на будничную действительность, можно представить, как будет построен авторский идеальный мир.
Статья А.Чеботаревской - первая попытка объяснить творчество Сологуба в контексте его философско-эстетических взглядов, «связать в один узел тонкие, скользящие нити его блестящего творческого клубка». Написанная в 1908 году, параллельно с первой частью романа «Навьи чары», она лишь предсказывает природу будущих глав романа, «еще незаконченной симфонии «Навьих чар».1
«Механизм совмещения фантастики с бытом» представлен в статье в образах Царства Необходимости (выписанном по законам жизнеподобия), Царства Свободы (того условного мира, «упоминание о котором все чаще звучит в последних произведениях Сологуба» ) и «моста, который нужно перекинуть из докучного мира обычности к мечте». 4 Антитетичность жизнеподобия и условности, с точки зрения А.Чеботаревской, может быть снята при участии солипсической уравновешивающей силы, корни которой кроются в природе авторской утопии.
В.Малахиева-Мирович подчеркивает важность жизнеподобного компонента в процессе творения легенды: «Материалы земного переживания - не мертвый балласт, и не мираж. Это может быть та, уже обозначившаяся первозданная туманность, из которой дух человеческий сотворит себе миры, где иначе будет жить, чем жил до сих пор».
А.Горнфельд затрагивает вопрос о роли и месте реальности в рождении утопии и фантасмагории в романе. От реальности отталкивается Сологуб в полете к мечте, «к романтически идеализированной действительности», реальность становится опорой и в создании фантасмагорического, ибо фантасмагория - это реакция на падение нравов жизни, «карикатурно-извращенная действительность».
В более поздних отзывах на полностью опубликованный роман - в их числе статьи К.Чуковского, А.Долинина, Е.Замятина - есть несколько штрихов, помогающих формированию исследовательского фокуса в решении указанной проблемы. Для К.Чуковского «творчество Сологуба не пустая блажь одного чудака-однодума», в которой главенствует «система условных образов - музейных экспонатов. Все оно продиктовано нашей эпохой, в нем она отразилась как в зеркале»,1 но свойства этого зеркала, его способность воспринимать и отражать действительность и есть «та доктрина Сологуба», в основе которой «превращение уродства в красоту».
Статья А.Долинина стала своего рода психологическим ориентиром в исследовании художественного мира романа, она направляет вектор решения проблемы взаимодействия жизнеподобия и условности в психологию творчества. По мнению критика, «особый тип воли Сологуба и давление разума» формируют в художественном мире автора специфический вид жизнеподобия: «...есть жизнеподобие, но нет жизни, все пропущено сквозь призму авторского отношения к жизни».4
Е.Замятин говорит об особом «сплаве», знание секрета которого делает Ф.Сологуба зачинателем «новой главы русской прозы». 5 Стиль сологубовской прозы «без малейших следов надлома или трещины выдерживает сто восьмидесятиградусный перегиб от тяжелейшего быта в фантастику, от земли, пропитанной запахом водки и щей - в землю Ойле».6 Формула синтеза «твердого и газообразного состояния литературного материала - фантастики и быта», выведенная Сологубом в его романе, названа Е.Замятиным «тонким и трудным искусством».
Нужно отметить, что и неприятие и проявление интереса к роману со стороны современников автора имеет одну причину - предчувствие в романе нового художественного кода, суть которого наиболее точно определил А.Измайлов: «Роману Сологуба трудно найти параллель в прошлом нашей литературы. Ни один из старых романистов не рисковал на такие сочетания реальной, прямо газетной правды с цветами фантазии и уклонами мистики».
Первые (И.Игнатов, В.Евгеньев-Максимов, В.Тан (Богораз) и др.) привыкли противопоставлять фантастику быту или в соответствии с принципами реализма допускать фантастическое лишь в область грез и безумия. Поэтому, обнаружив в природе авторского повествования несоответствие с традицией, сделали акцент на разобщенности, нескоординированности, неорганичности сологубовского соединения реального и фантастического, увидели «симбиоз, а не синтез».
Вторые (В.Малахиева-Мирович, Е.Замятин, Ю.Айхенвальд и др.), констатируя невозможность приложить какой бы то ни было масштаб к этому произведению, прикоснулись к новому авторскому коду, почувствовали ядро синтеза в образной природе романа, но не пошли дальше его констатации (не раскрыли авторский механизм синтезирования).
Значительный вклад в исследование природы сологубовского романа принадлежит зарубежному крылу литературоведения. Учитывая, что интересующий нас аспект не стал объектом внимания отдельных работ зарубежных литературоведов (в их числе O.Ronen,3 J.Connoly,4 L.Dienes,5 S.Rabinowitz, E.Biernat ), следует отметить, что осмысление природы некоторых составляющих его понятий представлено в монографическом исследовании И.Хольтхузена,8 остающимся и по сей день единственным монографическим исследованием романа. В монографии непредвзято рассмотрена история публикации романа, выявлена его связь с некоторыми идейными спорами того времени, намечены основные спорные вопросы композиции. Отдельная глава монографии «Утопия и фантастика» выявляет новую природу условности у Ф.Сологуба, сочетающую в себе «техническую» фантастику Ж.Верна и Г.Уэллса с мистической гранью фантастики Э.По. По мнению критика, в основании новой природы условности лежит «стремление Сологуба дать символизму собственную фантастику и направить ее в точные отношения со всеми остальными деталями эмпирического мира (курсив мой.- Н.Г.)». Поднимая вопрос о роли фантасмагории в романе, о важных составляющих романной утопии - ее космическом и физико-химическом пластах - И.Хольтхузен не рассматривает «механизм» взаимодействия условного и жизнеподобного.
Особого внимания в обзоре критических отзывов, затрагивающих аспект взаимодействия двух тенденций образотворчества в романе «Творимая легенда», заслуживает статья Л.Силард. Опубликованная до появления в конце 80-х-начале 90-х гг. новой современной волны интереса к прозаическому творчеству Ф.Сологуба, она стала своего рода порогом, отталкиваясь от которого и зарубежные и отечественные исследования романа будут идти параллельно, взаимодействуя по принципу контрапункта.
В своей статье Л.Силард открывает принципиально новый взгляд на символистскую прозу как на успешную попытку «преодоления давления принципов миметического (натуроподобного) искусства, с его приземленным эмпиризмом, основанным на принципах изображения жизни в формах самой жизни» . Это преодоление, по мысли Л.Силард, становится возможным благодаря открытию символистами новых форм повествования и структурирования прозы, «путей, методов, способов художественного возведения низшей действительности к реальности реальнейшей».
К числу новых способов, открытых символистской прозой, Л.Силард относит и сологубовский «метод совмещения фантастики с бытом», при котором «в подчеркнуто суховатое нравоописательное изображение быта русской провинции, к тому же насыщенное реалиями социально-политической борьбы эпохи первой русской революции, своенравно вплетаются фантастические элементы...».
Показательно для детального изучения природы условности в романе и замечание Л. Силард о ее многоуровневом, многоярусном характере: «...переход от одного уровня условности в другой позволил Сологубу создать ту многоярусную множественность параллельных и пересекающихся возведений в условное, которые дотоле русской литературе известны не были».3
Наблюдающееся с начала 90-х гг. двадцатого века в России повышение интереса к творчеству Ф.Сологуба было вызвано новыми публикациями его лирики и прозы, в числе которых и роман «Творимая легенда». Вернувшийся в отечественную литературу в период смены парадигм роман вызвал целый ряд публикаций, в числе которых статьи А.Михайлова, Л.Соболева,5 Н.Утехина,6 Х.Барана,7 Б.Парамонова,8 С.Ломтева.
Важным шагом в изучении поэтики романа стала работа Н.Барковской «Поэтика символистского романа». Стремясь определить место «семантического поля романа» «Творимая легенда» не только в целостном романном тексте Ф. Сологуба, где каждый отдельный роман воспринимается как изоморфный всей совокупности авторских текстов, но и в едином символистском тексте, состоящем из ряда произведений, написанных в одну эпоху (среди них романы Д.Мережковского, В.Брюсова, А.Белого), исследователь помогает посмотреть на проблему синтеза условности и жизнеподобия как на основание ведущего признака поэтики романа - его текучести.
В координатах сологубовского двоемирия проявляется относительность условной и жизнеподобной тенденций, их взаимопроницаемость, сообщаемость друг с другом. Из характеристики Н.Барковской двух романных миров становится очевидным тот факт, что условность и жизнеподобие - это не однозначно противопоставленные полюсы романа. Обращаясь к вопросу о структурных особенностях романа, Н.Барковская использует игру условности и жизнеподобия в качестве некоего ключа к пониманию субъектной организации романа, хронотопической природы повествования, мотивной ткани произведения.
Одной из последних работ, отчасти затрагивающей интересующий нас аспект романа, - стала работа Л.Геллера «Фантазии и утопии Федора Сологуба». Автор, аппелируя к социо-культурному контексту эпохи, предлагает дополнить расхожую в отношении двоемирия романа формулу «реальное - воображаемое» (быт - фантастика) еще одной - «утопия-фантастика» (проект - мечта) . Таким образом, критик предлагает новый поворот в изучении природы условности в романе.
На сегодняшний день исследованию романа Ф.Сологуба «Творимая легенда» посвящено несколько диссертаций: работы Е.Сергеевой, М.Львовой,4 Н.Рублевой.5
Выявляя влияние мистического аспекта мировоззрения автора на поэтику его романов, Е.Сергеева обращается к вопросам космогонии романов «Мелкий бес» и «Творимая легенда». Рассматривая авторскую идею многомирия («в его вселенной обязательно присутствует мир реальный - каждодневное земное бытие - и инобытие, трансформируемое в мир инфернальный и в высшую запредельную реальность»1), исследователь, тем не менее, не затрагивает те средства художественной образности, с помощью которых идея многомирия воплощена в романе.
Диссертационное исследование М.Львовой посвящено изучению особенностей внешней и внутренней организации романа. В числе компонентов первой детально анализируется проблема рамочного текста, из элементов внутренней организации наибольшее внимание уделено анализу «параллелизма, повторов, внутри - и межобразной оппозитивности».
Н.Рублева, причисляя роман к явлениям русского неореализма, выходит на проблему диалогических сцеплений старой (реалистической) и новой (модернистской) методных структур, характерную для литературного процесса XX века. Определяя жанр сологубовского произведения как «триптих, в основе которого синтез социально-психологического романа с романом-сном и утопическим романом», Н.Рублева тем самым намечает перспективы в исследовании взаимодействия условного и жизнеподобного на жанровом уровне. При этом работа Н.Рублевой не ставит цель исследовать те семантические сдвиги, те приращения эстетического смысла, которые несет в себе это взаимодействие.
Современный этап изучения романа выводит на иной уровень осмысления, который невозможен без понимания и определения сути авторского «кода». Его суть - в процессе взаимообмена энергией между двумя тенденциями художественной образности - условной и жизнеподобнои. В природе авторского «кода» «синтезированы» художественные поиски литературы рубежа веков в сочетании с индивидуальным авторским новаторством. На сегодняшний день специальных работ, посвященных проблеме синтеза условности и жизнеподобия в художественном мире романа, нет, так как, относясь к числу «механизмов взаимодействия классических и модернистских стратегий», эта проблема обрела право на существование лишь в последнее десятилетие XX века, когда стал очевиден тот факт, что оппозицией «модернизм-реализм» «невозможно охватить столь динамичное и многогранное явление как литература рубежа веков». Эпоха противостояния реализма и модернизма, закрепившая за первым право отражать жизнь в формах самой жизни, а за вторым - идею абстрактного пессимизма в далеких от жизни формах фантастики, отвергала возможность неоднолинейных отношений между этими тенденциями образотворчества.
Необходимо отметить, что односторонность оппозиции «жизнеподобное в реализме - условное в модернизме» была отмечена еще в советском литературоведении конца 60-х - начале 70-х гг. XX века в работах Т.Аскарова, Д.Николаева, Т.Петровой, А.Михайловой, В.Ковского, Е.Добина, О.Шапошниковой.2 Цель авторов сводилась к стремлению дать ответ на вопрос: может ли условность числиться «по ведомству» реализма. Сняв одну оппозицию, критики создали новую: «реалистическая -модернистская условность».
Перемещение интереса в иную плоскость, в плоскость функционирования «механизма» условности, и стремление осмыслить парность категорий «реальное» и «фантастическое» в их взаимопритяжении и взаимоотталкивании наблюдались уже в начале 70-х в работах Ю. Манна и В.Дмитриева. Но появившиеся за последнее десятилетие XX века работы А.Зверева, Е.Эткинда, О.Клинга, Л.Андреева, Н.Лейдермана не только отвергают аксиоматический подход к литературному процессу рубежа веков как эпохе противостояния реализма и модернизма, но и утверждают принципиально иной взгляд на литературную ситуацию начала двадцатого века как на «эпоху плюрализма - растекания, рассеивания разнополюсных энергий»,3 взаимодополнения, взаимопроникновения различных художественных систем и, следовательно, принципиально иное понимание соотношения жизнеподобных и условных форм познания действительности -не разведение, не противостояние, а художественный синтез.
Цель исследования: рассмотреть роман «Творимая легенда» в аспекте взаимодействия условности и жизнеподобия, исследовать своеобразие художественной структуры и поэтики романа с учетом двойственности эстетической природы сологубовского образа.
Для этого необходимо решить следующие задачи:
• осмыслить теоретические аспекты заявленной проблемы;
• определить место категорий условности и жизнеподобия в авторской философско-эстетической системе;
• выявить типологические характеристики форм бытования в романе социо-культурных явлений конкретно-исторической эпохи 900-х гг. и их ретрансляцию в художественно - сотворенном мире;
• попытаться описать «механизм» синтеза в природе жанра, в структурной организации романа • рассмотреть многоуровневый характер сологубовской условности;
• исследовать мифотворчество как способ «творения» собственной реальности-мечты.
Материал исследования - романная проза Ф.Сологуба, роман «Творимая легенда» как объект пристального анализа в аспекте заявленной темы, а также литературно-критическое наследие писателя.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что • впервые роман Ф. Сологуба «Творимая легенда» рассматривается не только как произведение символистской прозы, но и как явление сложносоставной эстетической системы, обусловленной состоянием диффузности в русской литературе рубежа веков;
• взаимодействие жизнеподобия и условности, эмпирики и фантастики является тем ключом в исследовании сологубовского художественного «творения», который позволяет понять сложную жанрово-композиционную структуру романа, многоуровневую семантику мысли и многоярусный характер условности образа. Методологическую основу исследования составляют труды по теории литературы (М.Бахтин, Ю.Манн, Ю.Лотман, Д.Лихачев, Б.Гаспаров, Б.Успенский); по проблеме условности в литературе (В.Белинский, В.Дмитриев, О.Шапошникова), по мифопоэтике (Е.Мелетинский, З.Минц, Д.Максимов, О.Фрейденберг, В.Топоров).
Апробация работы. Основные положения исследования были представлены автором в форме докладов на теоретическом семинаре, на итоговых научных конференциях Ульяновского педагогического университета (Ульяновск, 2000, 2001), на Третьих и Четвертых Веселовских чтениях (Ульяновск, 1999, 2001), на научно-практической конференции «Христианство и культура» (Ульяновск, 2000). По теме диссертации опубликовано 4 печатных работы: «Роман «Творимая легенда» Федора Сологуба в восприятии современников»//Проблемы взаимодействия систем реализма и модернизма. Третьи Веселовские чтения: Межвузовский сборник научных трудов. - Ульяновск: УлГПУ, 1999. - С. 57-62; «Ключевая роль авторской субъективности в романе Ф. Сологуба «Творимая легенда»//Проблемы взаимодействия эстетических систем реализма и модернизма. Четвертые Веселовские чтения.- Ульяновск: УлГПУ, 2002. - С. 58-68; «Принципы структурной организации романа Ф. Сологуба «Творимая легенда»//Язык. Культура. Общество: Сборник научных трудов всероссийской научной конференции.- Ульяновск: УлГТУ, 2002.- С. 134-138; «К вопросу о лейтмотивной организации романа Ф. Сологуба «Творимая легенда»//Фольклор. Литература. Библиография: Работы молодых исследователей. - Ульяновск, 2003. - С. 88-92.
Возможность практического применения результатов диссертации.
Теоретические выводы и исследовательский материал можно использовать в проведении курса русской литературы XX века, спецсеминарах по творчеству Ф.Сологуба, спецкурсах по проблемам условности и мифологизма, в гуманитарных классах общеобразовательных школ, лицеях, гимназиях.
Из истории вопроса о взаимодействии условной и жизнеподобной тенденций образотворчества в русской литературе
Стремление объяснить «новую оптику», представленную в романе Ф. Сологуба «Творимая легенда», заставляет обратиться к наиболее важным для нашего аспекта общетеоретическим положениям, из которых следует, что «своеобразие стиля любого автора с наибольшей отчетливостью проявляется в системе стилевых доминант - качественных характеристик стиля, в их числе: субъективность - объективность, изображение- экспрессия, жизнеподобие - условность».
«Жизнеподобие - «прямое» изображение реальности, создание иллюзии полного сходства (тождества) жизни и ее художественного отражения, воссоздающая модель художественного отражения3(курсив мой.-Н.Г.)».
«Условность - многоплановое и многозначное понятие, принцип художественной изобразительности, в целом обозначающий нетождественность художественного образа объекту воспроизведения. В современной эстетике различают первичную и вторичную условность - в зависимости от меры правдоподобия образов, открытости художественного вымысла и его осознанности».
Условность вторичная - сознательное нарушение правдоподобия с целью высветить, сделать зримым то, что по какой-либо причине не может быть названо напрямую или не имеет в реальной жизни своего предметного воплощения, пересоздание встречающихся в жизни и природе форм (курсив мой.- Н.Г.)».
Не трудно заметить, что в общетеоретических и конкретных исследованиях вопрос об условной и жизнеподобной природе образотворчества неразрывно связан с отношением искусства к действительности, отношением художника к миру, которое и определяет путь освоения этого мира, тип художественного мышления.
В.Г.Белинский обозначил два основных типа художественного мышления, «противоположных один другому», хотя и ведущих к одной цели. «Поэт или пересоздает жизнь по собственному идеалу, зависящему от образа его воззрения на вещи, от его отношений к миру, к веку и народу, в котором он живет, или воспроизводит ее во всей ее наготе и истине, оставаясь верен всем подробностям, краскам и оттенкам ее действительности. Поэтому поэзию можно разделить на два отдела - на идеальную и реальную (курсив мой. - Н.Г.)».
«Поэзия реальная, как выпуклое стекло, отражает в себе, под одною точкою зрения, разнообразные ее явления, выбирая из них те, которые нужны для составления полной, оживленной и единой картины» . «Идеальная поэзия нашего времени», по мнению В.Г.Белинского, обретает особый лиризм. Его характер определен тем фактом, что «жизнь уже не веселое пиршество, но поприще борьбы, лишений и страданий - отсюда проистекает эта тоска, эта грусть и вместе с ними эта мыслительность... Автор идеальной поэзии как бы заранее условливается, договаривается с читателем, чтобы тот верил ему на слово и искал в его создании не жизни, не логики явлений действительности, а мысли. Поэтому художник не связан ни рамками быта, ни житейской последовательностью событий. По воле своей фантазии он создает форму для своей мысли (курсив мой.- Н.Г.). В этом случае его поприще безгранично; ему открыт весь действительный и воображаемый мир, все роскошное царство вымысла, и прошедшее и настоящее, и предание, и басня, и народное суеверие, и верование, земля и небо и ад!»
В.Г.Белинский не отрицает возможности взаимодействий двух типов художественного мышления, а, напротив, намечая точки их соприкосновения, предсказывает результат подобного «синтеза»: «предмет его есть жизнь действительная, но эта жизнь как бы пересоздается и преображается вследствие какой-нибудь задушевной мысли...».
Процесс взаимодействия реального и идеального, жизнеподобного и условного в XIX веке открыл несколько важных приемов, использованных и трансформированных веком XX, в том числе и в творчестве символистов. Одним из примеров этого взаимодействия двух тенденций художественной образности стал прием завуалированной фантастики, наиболее ярко представленный в творчестве немецких и русских романтиков и встречающийся с определенной долей трансформации у русских реалистов.
Суть приема завуалированной фантастики - в подвижности границ между жизнеподобным и условным, «так что переход из одной области в другую протекает почти незаметно». Иллюзорность этого перехода позволяла искать в повседневности механизм, функционирование которого аналогично действию фантастической силы. По мнению В.Одоевского, завуалированная фантастика - «особый род чудесного, который всегда имеет две стороны: одну чисто фантастическую, другую - действительную, (...) с ее помощью естественная наклонность человека к чудесному удовлетворена, а вместе с тем не оскорбляется и пытливый дух анализа».
Трансформация завуалированной фантастики в творчестве реалистов создала новую формулу взаимодействия условного и жизнеподобного -«фантастическое, которое антифантастично», т. е. сохранение за гранью реального (в условном, фантастическом) духа самой реальности, живых связей и противоречий жизни 2 (курсив мой.- Н.Г.)».
У А.С.Пушкина в «Медном всаднике» одновременно сосуществуют усиливающийся фантастический момент и реалистическая мотивировка происходящего, благодаря этому сосуществованию изображаемое колеблется между видением и реальностью: «предельное эмоциональное возбуждение возносит героя в область фантастических видений, но, поднимаясь на грань необыкновенного прозрения, он видит, что причины его положения кроются в самой действительности, в закономерностях истории» (условность помогает открывать действительные связи человека с миром).
Завуалированная фантастика обнажает параллелизм условного и жизнеподобного в «Пиковой даме» А.С.Пушкина. Изображение все время развивается на грани фантастического и реального, «Пушкин нигде не подтверждает тайну, но он нигде и не дезавуирует ее». В каждый момент читателю предлагается два прочтения, а «игра» реального и условного углубляет перспективу образа.
Н.В.Гоголь, подобно А.С.Пушкину, вводит в нереальное реальное, но в отличие от А.С.Пушкина, у него «взаимодействие условного и жизнеподобного не только способ обнажения исторической закономерности, а и попытка найти художественный образ, адекватный алогизму действительности 5 (выделено мной.- Н.Г.)». Таким образом - мотивом стала у Гоголя тема омертвления живого с использованием мотивов куклы, механизма, марионетки.
Жанрообразующий аспект взаимодействия двух тенденций художественной образности
Процесс взаимообмена энергией между условной и жизнеподобной тенденциями образотворчества обнаруживает себя в жанровой природе сологубовского произведения в явлении жанровой диффузии. К нему располагает и взаимодействие ключевого слова заглавия (легенда) с общепринятым обозначением жанровой природы сологубовского произведения (роман), и механизм творения легенды, представленный Ф.Сологубом в первых строках своего романа.
Ключевое слово заглавия «легенда» предполагает особую природу повествования, при которой аспект достоверно - существовавшего взаимодействует с энергией авторского вымысла, некогда жизнеподобное с чисто фантастическим.
Жанровое обозначение «роман» - это сигнал к открытому экспериментированию, ибо «роман по природе не каноничен, это сама пластичность, вечно ищущий, вечно исследующий себя самого и пересматривающий все свои сложившиеся формы жанр». 3 Жанровая сущность романа синтетична. «Этот жанр способен с непринужденной свободой соединять в себе содержательные начала множества жанров».
В особом механизме создания легенды «по Сологубу» также очевиден синтез условного с жизнеподобным: «Беру кусок жизни, грубой и бедной, и творю из него сладостную легенду. Ибо я - поэт. Косней во тьме, тусклая, бытовая, или бушуй яростным пожаром, - над тобою, жизнь, я, поэт, воздвигну творимую мною легенду об очаровательном и прекрасном». Отталкиваясь от реального, используя его в качестве материала («кусок жизни»), посредством вымысла (область условного) автор создает новую реальность («легенду об очаровательном и прекрасном»). Легенда творимая акцентирует внимание на неостановимости процесса, а значит, на постоянном динамизме (в формах взаимопритяжения и взаимоотталкивания) участвующих в творении легенды компонентов реального и вымышленного.
На жанровом уровне процесс взаимодействия условного и жизнеподобного приводит к «сознательному синкретизму жанровых форм. Автор как бы пробует, примеряет для сотворения легенды разные формы: былички и рассказы о мертвецах-привидениях, фантастику, авантюрные элементы. В целом они складываются в причудливую арабеску». Игра двух тенденций художественной образности разрушает четкую закрепленность за каждой частью романа какой-либо жанровой формулировки.
Первая часть «Капли крови» передает черты российской жизни времен первой русской революции, представленные единичной клеткой единого российского организма - провинциальным городом с вымышленным названием Скородож. На первый взгляд, здесь преобладает воссоздающая тенденция художественной образности, открывающая в «Каплях крови» черты социально-бытового романа. Картина застоявшегося провинциального быта представлена в координатах кризисности русской жизни рубежа веков. В масштабах «бытоописательной стихии, провинциального хронотопа» прочитывается историко-революционная интрига, в которую втянуты едва ли не все слои населения: от гимназиста Миши Матова, «в устах которого глубоко современные слова «забастовка и обструкция» звучат как названия редких и сладких лакомств» (34), до «сознательного рабочего, российского социал-демократа товарища Щемилова» (39).
Революционная ситуация в городе вписывает роман в кризисную реальность рубежа веков: с эпизодами подготовки нелегальных сходок-маевок, разгоном казацкими нагайками мирных демонстраций, похоронами жертв политического террора, стихийно оборачивающимися демонстрацией протеста, ситуацией обысков в домах местной интеллигенции (история доктора Светиловича), крестьянских бунтов, еврейских погромов черносотенцами, гимназическими волнениями и организованными покушениями на представителей скородожской власти.
Социальный срез народонаселения представлен типами конкретно исторической реальности предреволюционной России. В их числе рабочий, социал-демократ ІДемилов, у которого «цель одна - обобществление орудий производства» (41) и интерес один - « не лепить пирамиду из людей, а пирамиду эту самую по земле ровным слоем рассыпать» (43); помещик кадет Рамеев, «старик со спокойными манерами хорошо воспитанного и уравновешенного человека» (33); студент Петр Матов, «один из тех, кто волновался вопросами религиозно-философского сознания, сторонник цезеропапизма» (34); черносотенцы - Жербенев и Кербах, «оба крупные землевладельцы, патриоты, члены союза русского народа, чьи речи были громки и пылки.... Слышались странные слова: - измена, - крамола, -перевешать, - истребить, - драть» (53). Провинциальную интеллигенцию представляет доктор Светилович, «человек в высшей степени корректный и лояльный, заботящийся больше всего о том, чтобы в его прошениях не вкралось как-нибудь оскорбительных для кого-нибудь выражений» (130). Провинциальное духовенство характеризуется разными типами: от молодого священника Закрасина, «слывшего большим вольнодумцем, сочувствовавшего кадетам» (132), до епархиального епископа Пелагия, «казавшегося добродушным и любезным, а на деле — хитрым и злым честолюбцем, покровительствовавшим местным черносотенным организациям» (490).
В пеструю картину политического хаотизма города органично вписываются революционно настроенные епархиалки, бунтующие гимназисты, снующие тут и там сыщики, филеры, казачьи лошади, артист- трагик Остров, оказавшийся на деле авантюристом-провокатором, подстрекающим к преступлениям асоциальные элементы в лице Полтинина и Молина.
Конкретно-исторический ракурс российской жизни в первой части романа дает представление об атмосфере перекрестка эпох, о времени потери всякого рода ориентиров, которое рождает стихийную жестокость, алогизм поступков, то состояние, «когда в толпе разнуздан зверь» (439). Это переходное время сеет смерть, жестокую в своей случайности, бесцельную месть. Покушение на вице-губернатора, убийство старухи-еврейки, убийство полицмейстера - все это конкретно-исторические приметы - нелепости, на первый взгляд, возникшие из-за отсутствия единой программы перемен.
Но параллелизм в поступках разнокорневых сил снимается во внутреннем неизбывном для Сологуба единстве зла российской жизни: потому убийство рабочего Кирилла при разгоне сходки казаками мало чем отличается от убийства рабочими пьяного Бородулина, называвшего себя провокатором, убийство старухи-еврейки - от убийства Полтининым полицмейстера. Все они - и заранее спланированные, должные послужить основой политической провокации, и непреднамеренные, совершенные в порыве злобы, ярости обиды - суть природы российской земной жизни, «минус-гармонии».1
Триродов и Светозарный в авторском мифе об абсолютной личности
Одним из главных мифов в авторском чертеже неканонического видения мира становится миф абсолютного творческого Я. Авторское переживание реального мира предполагает не отказ от Я, а расширение сферы его влияния, вплоть до стремления поставить его в центр мирового процесса и придать ему статус демиурга. «В своем творчестве Сологуб создает миф, согласно одному из вариантов которого «Я» существовало, подобно орфическому Эросу, еще до сотворения мира: В первоначальном мерцаньи, Раньше светил и огня, Думать, гадать о созданьи Боги воззвали меня. По другим версиям «Я» либо самопроизвольно возникает из хаоса, либо создается Творцом:
Восславил бог меня из влажной глины, Но от земли не отделил. Несведенность вариантов мифа в творчестве Сологуба принципиальна, она утверждает не только абсолютность, но и множественность ликов абсолюта».1 Подобная многоликость абсолюта присутствует и в «Творимой легенде».2
Одним из ликов абсолютной личности в романе является образ Георгия Триродова. Множественность мифопоэтических ассоциаций рождают имя и фамилия главного героя. Современные исследователи романа предлагают собственные варианты семантики фамилии и имени сологубовского героя, ее связи с поэтикой произведения.
И.Симачева замечает, что «трехчастное деление романного текста связано с числовой символикой фамилии. Фамилия соответствует трем талантам, которыми обладал Триродов, трем поприщам, на которых он себя проявил: ученый, педагог, поэт. Первоначальное четырехчастное деление тоже символично - четвертое призвание Триродова - политика».3
По мнению Е.Сергеевой, в фамилии Триродов - «намек на небывалое могущество личности, обладающей и божественными возможностями, и человеческим знанием, и сатанинской ненавистью к любым ограничениям своего «Я».
Е.Козарезова отмечает, что «образ Триродова символизирует собой совершенного человека - Второго Адама, который проходит три ступени посвящения или это три этапа рождения человека: Голема, Адама как ветхозаветного человека и Нового Адама-мессию. Образ Триродова указывает на путь всего человечества как на восхождение ветхозаветного человека к новому преображенному человечеству».
Выявляя роль имени в авторском мифе Ф.Сологуба, Н.Виноградова отмечает: «Есть основание предполагать, что выбор фамилии Триродов обусловлен близостью звучания со словом «природа» (замена начальной буквы в слове-основе является у Сологуба излюбленным приемом создания фамилий персонажей). Близость к природе - основной принцип педагогики Триродова, поэтому свою школу он расположил в лесу, чтобы «уйти от зверя, от одичания в городах». Он властвует над силами природы и ее основными законами, создает новую природу, заключенную в стеклянной оранжерее».
Имя Георгий в сочетании с известным сологубовским солнцеборством и обычным именем солнца у Сологуба - Дракон или Змий, вызывает ассоциации с христианским святым - Георгием-Победоносцем, Змееборцем. Легенда приписала ему подвиг богов-демиургов и героев - умерщвление хтонического чудовища. В легенде Георгий выступает одновременно «как богатырь, проповедник истинной веры и как рыцарственный заступник обреченной невинности».3
В романе герой, наделенный этим именем, защищает детей от жестокости земной жизни, отвоевывает героиню у Солнца-Змия, в обобщенно-символическом и концептуально-философском смыслах пытается освободить жизнь от драконовых пут обыденности.
Георгий, выступая одновременно и как символ христианского мученичества и как олицетворение животворящей весны, «обладает способностью к троекратному умиранию и оживанию во время пыток»4 (что соотносится и с семантикой фамилии - «трижды рожденный»).
Намек на возможность возрождения души Триродова, но в ином облике есть в романе. Учитывая композиционный прием бесконечной зеркальности, рождающий эффект множественности отражений до полной утраты «Я» и обретения своей сущности в ином лике, можно рассматривать по сходству имен воскрешение земного мальчика Егорки, убитого реальной жизнью, как воскрешение Триродова к очередному витку земной жизни. А причиной этого воскрешения стала любовь к земной Елисавете. Показательно, что момент воскрешения мальчика в романе совпадает по времени с моментом признания Триродовым своей любви к Елисавете: «Он (Егорка. - Н.Г.) проснется для воскрешения к жизни, лишенной страстей и желаний для ясного видения и слышания, для восстановления единой воли» (154). «Триродов возвратился домой, как возвращаются из могилы, так легко и радостно было ему. Сегодняшний разговор с Елисаветой вспоминался ему... Если возникло то, что было или казалось любовью, зачем противиться ему?» (158) (курсив мой. Н.Г.). Фамилия Триродов несет в себе отголосок внимания Сологуба к магической силе отдельных чисел, но полностью смысл этой фамилии проясняется в сопоставлении со статьей Ф.Сологуба «Я. Книга совершенного самоутверждения»: триединство главного героя подчеркивается его фамилией. По мнению Л.Соболева, «формула Сологуба, пародирующая слова Христа, позволяет указать один из аспектов многогранного образа героя «Творимой легенды» - роль художественной иллюстрации к философской концепции автора». Догмат о троичности божества, воплощенный в фамилии героя, не просто калькированный вариант слов Христа, а скорее сигнал автора к рождению мифопоэтических ассоциаций, ибо «само по себе учение о том, что на божественном уровне бытия троичность и единичность оказываются в каком-то смысле тождественными, не специфично для христианства; это устойчивый мотив самых различных религиозно-мифологических систем».
Зная об увлеченности Ф.Сологуба буддизмом,2 можно провести параллель между героем и понятием «тримурти» (др.-инд. trimurti «тройственный образ» или «обладающий тремя обликами»). «Три облика обозначают три ипостаси единого бога, объединяя в одном лице три функции: творения, хранения и разрушения».3
Подобными функциями наделен и герой Сологуба в романе. Функции творения и разрушения открывают в герое свойства демиурга, соперничающего в своих созданиях с традиционным Создателем. Все виды деятельности Триродова разрушают идеологию обыденности (он своеобразный разрушитель Драконова царства). Его помощь революционерам расшатывает политическое устройство, создание необычной школы-колонии с моралью поощрения естественных проявлений личности разрушает традиционную образовательную систему с акцентом на насилии над личностью.
Вечные темы жизни, любви и смерти в мифологическом мире романа
Двуприродность творческого духа, представленная в образах Триродова и Светозарного, предполагает соотношение мира жизни и смерти, Иронии и Лирики. В отношении к жизни Ф.Сологуб уходит от однозначности, часто приписываемой ему критикой. По мысли В.Ходасевича, «неверно распространенное мнение, будто для Сологуба жизнь абсолютно мерзка, груба, грязна. Она и мерзка, и груба, и пошла -только по отношению к последующим ступеням, которые еще впереди. Сологуб умеет любить жизнь и восторгаться ею, но лишь до тех пор, пока созерцает ее безотносительно к «лестнице совершенств». По сравнению с утраченной и вечно искомой Лилит эта жизнь - Ева, «бабища дебелая и румяная». Это грязная девка Альдонса, ей бесконечно далеко до той прекрасной Дульцинеи. Но и в следующих воплощениях, на будущих ступенях, ему тоже не суждено встретить подлинную Дульцинею».1
Смерть в творчестве Сологуба не столько разрушительная, сколько созидательная, благостная сила, освобождающая человека от тягостных пут жизни. Напряженно созерцая, вглядываясь в точку смерти, поэт дал ей собственное определение-восприятие: Тот просвет в явленьи всяком, Что людей пугает мраком, Я бесстрашно полюбил. (Фимиамы, 1921)2.
Но, поклоняясь смерти как освободительнице, дающей последнее утешение, Ф.Сологуб, тем не менее, считал ее творческие возможности ограниченными. «Все, что рождено смертью - «канонично», оно заранее предопределено и обречено на «вечное повторение». Только любовь, по убеждению писателя, способна на творчество абсолютно нового, «неканонического» и уникального, не предусмотренного заранее в замысле «мирового чертежа», она способна превратить «зримую Альдонсу» в «желаемую Дульцинею».
Обращением к вечным темам жизни, любви и смерти стали в романе образы Елисаветы, Ортруды и Лилит, связанные между собой особым типом соответствий как разные грани единой мировой души. Земная российская Елисавета - дневная спутница Триродова, чувство героя к Елисавете отождествляется им с любовью к жизни: «полюбить Елисавету - это и значит - полюбить и принять мир, весь мир» (108). Она «вторая его жена - солнечная, голубая, золотая Ева. Это вечная Любовница, чужая, но близкая. Госпожа его дома, мать его детей, всегда влекущая к его успокоению» (452), «...земная Альдонса, ужаленная мечтою о красоте, ей принадлежит полнота жизни» (153). Елисавета любит солнечную жизнь, отмечая, что «сладостны ощущения бытия, полнота жизни и восторга», своей любовью к Триродову она стремится расширить границы земного чувства. 2 Ее любовь - восстание, она возвышает Елисавету над уровнем обыкновенной женщины, земной обывательницы, черты которой представлены в Елене: «Где любовь, там и великое должно быть дерзновение, разве любовь кроткая и послушная? Разве она не пламенная? Роковая, она берет, кого захочет, и не ждет» (37).
Мистический образ первой жены Триродова - лунной Лилит1- символ любви, «приводящей с собой печаль и легкий призрак смерти». «Первая жена - лунная мечта Лилит, овеянная тишиною и тайною, подобными тишине и тайне могилы. Это - вечная Сестра, родная и далекая, таинственная Подруга, неведомая Спутница, всегда зовущая его в далекий путь. Рано изменяет изменившему ей человеку лунная, тихая Лилит. Уходит от человека говорящая миру вечное «нет». Уходит она к иным мирам и к Жениху иному... И говорит человеку:
- В роковой час отошел ты от меня. Холодным поцелуем со мною простился на роковом перекрестке, где так темно и холодно и страшно. В темную ты зарыл могилу мое бедное тело. Забывая изо дня в день, ты забыл меня. Жестокий, не сам ли ты холодной смерти отдал меня?» (452).
Триродов говорит о первой жене как о Дульцинее, «которая не захотела стать Альдонсою» (153). В этом образе любовь, взаимодействуя со смертью, обретает лик любви - обреченности, любви жертвенной.
Очевидная отдаленность пространств жизни и смерти иллюзорна, разрушается приемом мифологической зеркальности, с помощью которого автор позволяет промелькнуть в образах своих героинь блику противоположного сияния. Так в земной Елисавете просыпается Дульцинея, «лирически нежное имя которой знает всякий» (195). «Елисавета закрыла глаза и лежала такая прекрасная и стройная, такая совершенная, как мечта Дон-Кихота» (144).
Совмещением бликов жизни и смерти становится в романе образ Ортруды. В природе этого образа автор пытается представить единство противоположностей, тайну неразделенности и неслиянности вечных тем жизни, смерти и любви. В Ортруде земная грань соседствует с инобытийно-мистической, представление о природе чувств земной женщины (Елисаветы - Евы) соединяются с мистическим образом любви-смерти Лилит. О двойственности Ортруды говорит Афра: «Ты любишь открытые правдивые зеркала. - Ты любишь и зыбкие отражения в поверхности спокойных вод» (233).
Известие о предательстве Танкреда - то откровение, которое убивает в королеве любовь к солнечному земному бытию, усиливая значимость инобытийных ощущений. Черты Елисаветы, воплощенные в Ортруде, приметы ее счастливой земной любви «...она сама - счастливая, смелая девушка в далекой стороне, которая идет, куда хочет, и делает, что вздумает, и любит пламенно и счастливо» (298) уступают место попыткам Ортруды преодолеть мнимую единственность земной жизни через превращения, смену масок валькирии:1 «Когда бушует буря и молнии пересекаются в небе, тогда в груди королевы просыпается дикая душа валькирии» (220), ведьмы, колдуньи: «Если бы я жила в средние века, я летала бы на шабаш каждую ночь и во всякую погоду. А. днем, молодая и прекрасная колдунья, я шла бы босая по болотным, топким тропам собирать чародейные тайные травы. Накликав на страну мою дождь, я шла бы на высокий холм и кружилась бы там в неистовой пляске» (235), нимфы: «Склонилась просто и спокойно, и к легким стопам стройных ног опустила обнаженные руки, такая гибкая, такая милая, как нимфа тихих вод, случайно принявшая тяжелый человеческий облик» (355), гетеры: 103 «Уже влюбленная давно в красоту людскую, Ортруда вдруг ощутила в себе душу гетеры, душу изменчивую, страстную и равнодушную...