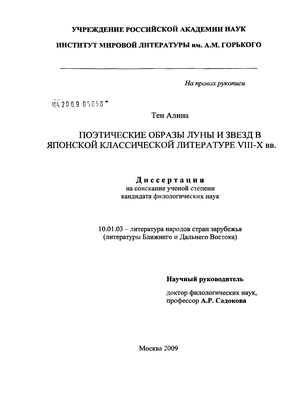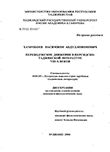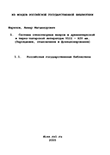Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. СТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗА ЛУНЫ В ДРЕВНЕЙ ЯПОНСКОЙ ПОЭЗИИ 19
Основные принципы создания системы «сезонной образности» в древней японской поэзии 28
Образ луны в контексте системы художественной образности антологии «Манъёсю» (VIII в.) 36
Глава 2. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗА ЛУНЫ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЯПОНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 66
Поэтико-эстетические функции луны в японской прозе эпохи Хэйан (IX-XII вв.) . 69
Трансформация художественных представлений о луне в средневековой японской поэзии 86
Глава 3. ТЕМА «ВСТРЕЧИ ЗВЕЗД» В ЯПОНСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ ЯПОНЦЕВ 113
Миф о любви двух звезд в фольклорной традиции и обрядности японцев 115
Особенности отражения образов «звездного» мифа в древней и средневековой японской поэзии 123
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 156
БИБЛИОГРАФИЯ 161
- Основные принципы создания системы «сезонной образности» в древней японской поэзии
- Поэтико-эстетические функции луны в японской прозе эпохи Хэйан (IX-XII вв.)
- Миф о любви двух звезд в фольклорной традиции и обрядности японцев
Введение к работе
В последние десятилетия во многих странах мира наблюдается взлет интереса к своим историческим корням, к традиционной культуре, к истокам национальной словесности. Это связано с общим подъемом этнического самосознания у многих народов, их желанием определить место своей культуры в мировой системе. А таюке - собрать и зафиксировать то ценное, что было создано веками в национальной фольклорной и мифологической традициях, постараться по-новому взглянуть на литературное наследие своего народа. Именно поэтому одной из актуальных проблем как японского, так и мирового современного литературоведения считается проблема изучения литературного и культурного наследия народов стран Востока, в частности, стран Восточной Азии.
Интерес к этому вопросу определяется необходимостью адекватного понимания сложных внутрилитературных процессов, происходящих в этих странах, с целью более полного вовлечения их литературного материала в систему мирового сравнительно-исторического и сравнительно-типологического литературоведения. Такой подход будет способствовать более полному представлению о литературных процессах в историко-мировом масштабе.
В Японии, в стране, где всегда очень внимательно относились к своему историческому и культурному прошлому, проблеме сохранения традиций, в том числе и литературных, придается особое значение. При исследовании японской литературы особое внимание всегда уделялось изучению литературы древности и раннего средневековья, что, согласно японской историографии, соответствует эпохе Нара (VIII в.) и эпохе
Хэйан (IX-XII вв.)- Такой подход был обусловлен той огромной ролью, которую сыграли эти исторические периоды для всего процесса становления и развития японской классической литературы. При этом особое значение для развития литературы в названные периоды приобрели два фактора.
Во-первых, в этот период особую роль играла поэтическая традиция, во многом ориентированная на отображение мифопоэтического мира японской архаики. Фольклорная и ритуальная поэзия, видоизменившись, стала основой литературной поэзии, повлияла на облик всей позднейшей поэзии, задала ей основные эстетические и философские параметры.
Лирическая поэзия в VIII-IX вв. была ведущей в литературном творчестве японцев. Это был первый высокоразвитый вид японской словесности, в котором ярко выразил себя японский национальный гений. Как отмечала А.Е.Глускина, «в силу исторических условий первые этапы в развитии литературы, ее первый расцвет могут выражаться в разных художественных формах. Не всегда этой формой будет эпос; в такой, например, литературе, как японская, это была лирическая поэзия, которая составляет славу начального периода японской литературы и играет первостепенную роль в развитии художественного творчества японского народа» [Глускина, 1967, с.39].
Традиции, которые заложила лирическая поэзия, во многом определили дальнейший характер литературного процесса. Она послужила важным источником возникновения и развития японской прозы раннего средневековья (дневниковой литературы, песенно-повествовательного жанра ута-моногатари, романа). А хорошо разработанная система поэтики и художественной образности классического японского стиха легла в основу поэтик ряда
последующих литературных жанров как поэзии, так и прозы: романа, исторической повести рэкиси-моногатари, лирической драмы. Выработанный в период Нара и, особенно в период Хэйан, поэтический канон надолго стал нормой национального стихосложения. Как писал известный современный писатель Абэ Томодзи, «если бросить взгляд на японскую литературу в процессе ее развития, убеждаешься, что особенностью ее всегда было чрезвычайно сильно выраженное лирическое начало. Даже и сейчас эта лирическая струя все еще в сильной степени дает о себе знать...» [Абэ, 1964, с.16].
Во-вторых, японская поэтическая система еще на стадии мифопоэтического строя оказалась под влиянием более древней и богатой китайской культуры, поскольку именно с Китаем Япония в древности и в период раннего средневековья имела наиболее тесные политические, экономические и культурные контакты. Все это делает проблему инокультурных заимствований для японской литературы и культуры вообще чрезвычайно актуальной, а также ставит вопрос о культурной адаптации этих привнесенных извне явлений.
Взаимовлияние двух этих факторов, а именно, исконной фольклорно-мифологической основы японской поэзии и несомненного китайского влияния, в частности на уровне образности, и его дальнейшей адаптации согласно японской национальной эстетической традиции, привели к созданию уникального явления, каким по праву считается японская классическая поэзия с ее сложной системой поэтических образов, полутонов и намеков.
Японская поэзия оперирует, как известно, целым набором образов, заимствованных в основном из мира природы, сезонных символов, благодаря которым и создаются ее поэтические образы намека и полутона. Часть этих сезонных символов возникла как результат
\
наблюдений за состоянием именно японской природы, поскольку были и остаются неотъемлемой частью японского пейзажа (весенняя и осенняя дымка в горах, красные листья кленов, осенние цветы-хяги и т.д.). Однако параллельно с этими «чисто» японскими сезонными образами широко используются и образы, заимствованные из китайской традиции, играющие в ней значимую роль. При этом специфика их использования в японской литературе всегда заключалась в том, что, взяв «канву» китайского образа, будь то его сезонная приуроченность или сюжет древнего китайского мифа, японская традиция со временем адаптировала китайский образ, изменяла его порой до неузнаваемости. Но главное - так гармонично включала его в собственную систему культурных координат (будь то праздничная культура, поэзия или искусство сада), что уже невозможно было утверждать, что этот образ или явление не являются достижением именно японской культуры.
Надо, правда, отметить, что подобные заимствования вообще были характерны для японской культуры и касались не только инокультурных явлений. Известно, например, что многие памятники классической японской литературы неоднократно обращались к текстам более ранних по времени создания произведений и включали в себя целые куски из них. Так, песни поэтической антологии «Манъёсю» (VIII в.) можно встретить в тексте знаменитого романа «Гэндзи-моногатари», созданном в эпоху Хэйан, в средневековых дневниках, в классических пьесах театра Но, в балладах кукольного театр дзёрури, в рассказах позднего средневековья. А авторы японского повествовательно-песенного жанра ута-моногатари (IX-XII вв.) широко использовали материалы из поэтических антологий и сборников в виде вкраплений отдельных стихов-пятистиший танка в свои сочинения, а также пользовались текстуальными заимствованиями из произведений художественной
прозы. При этом все эти заимствования, как правило, органически входили в литературную ткань новых произведений, не нарушая художественной целостности и с точки зрения японской эстетики.
Что же касается инокультурных заимствований в японской литературе, то на сюжетные заимствования в повести «Такэтори-моногатари» («Повесть о старике Такэтори», IX в., которая является важным источником в свете нашей проблематики), указывал еще известный отечественный японист А.А. Холодович, который так писал в предисловии к своему переводу этого произведения: «Почти все сюжетные элементы этой новеллы заимствованы из китайских литературных источников, а то - через Китай - даже из индийских. Тем не менее, в целом получилось произведение, новое и для Японии, и для тех же иноземных первоисточников: новое по стилю, обработке сюжета и мировоззрению» [Восток, 1935, с.53].
Как видно, проблема текстуальных и инокультурных заимствований, равно как и вопрос их культурной адаптации, а также изучение самого процесса становления и развития новых явлений и образов в японской национальной литературе являются актуальными и для современного литературоведения. В этой связи очевидно, что японская классическая литература и, прежде всего, японская поэзия, дает поистине уникальный материал для исследования процесса формирования национальной системы художественной образности. В этой системе издавна особое место отводилось таким важным категориям древней дальневосточной натурфилософии как луна и звезды. Небесные светила всегда играли чрезвычайно важную роль в жизни древних людей: по ним предсказывали судьбы государств и правителей, определяли сроки сельскохозяйственных работ. Луна и звезды считались обитаемыми мирами, познать законы бытия которых
люди стремились всегда, отчего именно эти светила не только одушевлялись, но и населялись в сознании людей самыми неведомыми и чудесными лунными и звездными жителями.
Почитание луны и звезд нашло свое яркое отражение в народной праздничной культуре всех народов дальневосточного историко-культурного региона, в народной поэзии китайцев, корейцев, японцев. Однако именно в Китае формирование образов луны и звезд приобрело определенное завершение, создав мифолого-поэтическую основу для их дальнейшего бытования не только в народной, но и в авторской поэзии и прозе.
Для японской же традиции заимствование этих образов имело особое значение, поскольку именно они стали определяющими при создании любовной поэзии - основного жанра японской лирики. Будучи заимствованными из Китая, образы луны и звезд сохранили свою древнюю мифологическую основу, но вместе с тем адаптировались, приспособились не только к обрядово-праздничной культуре японцев, но и стали неотъемлемой частью всей поэтической системы.
Более того, в своем развитии на японской почве они прошли сложный и длительный путь становления, в результате чего в классической японской литературе, по сути, была создана самостоятельная система использования образов луны и звезд. За названными образами был закреплен целый ряд метафорических и символических значений. Именно образы луны и звезд, использование которых имело в классической литературе, прежде всего, в поэзии чрезвычайно широкий диапазон, стали в большинстве случаев теми «кирпичиками», благодаря которым японской любовной поэзии и удалось стать поэзией «полутона и намека», что является ее специфической особенностью.
В этой связи очевидно, что история становления и развития этих образов в японской литературе дает поистине уникальный материал для исследования процесса формирования национальной японской литературы и становления системы ее художественной образности. Пример японской литературы в этом смысле весьма нагляден и по-своему уникален, так как дает возможность осмыслить основные формы заимствования и адаптации культурных явлений народами Восточной Азии. Очевидно, что японская литература дает также важный материал для разработки многих теоретических проблем современного литературоведения: проблем сравнительного изучения литератур, проблем развития поэтики и литературных языковых приемов, а также вопросов исследования исторических моделей взаимодействия народного творчества с письменной авторской литературой.
Практически все произведения японской классики VIII-XII веков в той или иной степени содержат материал для исследования проблемы становления и развития поэтических образов луны и звезд в японской литературе. Однако даже среди этих многочисленных источников можно выделить те, которые могут рассматриваться как наиболее значимые, в большей степени, чем остальные, являющиеся показательными при решении вопросов выделения историко-культурных этапов в истории бытования этих образов в японской традиции. Именно поэтому в качестве основных источников при написании данной работы нами были выбраны такие типичные для своего времени произведения.
Основным источником при исследовании древней поэзии стала антология «Манъёсю» - главный и единственный крупный поэтический памятник эпохи Нара (VIII в.), содержащий порядка двухсот стихотворных пятистиший-тсшка, непосредственно посвященных луне,
причем как авторских, так анонимных и фольклорных [Манъёсю, 1971; Манъёсю: канъяку, 1982]. В целом же в этой антологии собраны песни многих поколений, датированные V-VIII вв., а также образцы народной поэзии. В этом редком собрании представлены творения более 500 авторов, всего же песен в собрании 4516, и они помещены в 20 книг, разных по жанру, стилю и содержанию.
В качестве одного из основных источников, представляющих литературу периода Хэйан (IX-XII в.), было использовано произведение жанра цукури-моногатари «Такэтори-моногатари» («Повесть о старике Такэтори»), в котором нашли наиболее яркое отражение образы луны и лунных жителей [Повесть, 1976; Такэтори, 1978; Такэтори, Ямато, 1982]. Самобытный и оригинальный жанр ута-моногатари представлен в работе произведением «Исэ-моногатари» («Повесть об Исэ», X в.) [Исэ-моногатари, 1978; Исэ-моногатари, 2000], а также еще одним произведением этого жанра - «Ямато-моногатари» («Повесть о Ямато», X в.), которое также представляет собой пример памятника поэтико-повествовательного жанра и где в наибольшей степени можно проследить процесс перехода от поэтической традиции к повествовательной [Такэтори, Ямато, 1982; Ямато-моногатари, 1982].
Кроме того, большой интерес при исследовании процесса становления и развития поэтических образов луны и звезд, без сомнения, представляли произведения еще одного характерного для литературы периода Хэйан жанра - жанра дневниковой литературы. Речь идет, в частности, о дневнике известной поэтессы своего времени Идзуми Сикибу, которой были созданы не только многочисленные стихотворения, включенные в самые известные хэйанские антологии, но и лирический дневник «Идзуми Сикибу никки», в основе которого
лежала ее любовная переписка с принцем Ацумити [Издуми-сикибу сю, 1972; Идзуми Сикибу, 2004].
Все перечисленные произведения в разные годы были переведены на русский язык, равно как и на другие европейские языки, снабжены более или менее подробными комментариями. При этом, в свете нашей проблематики, большое значение имела работа непосредственно с текстами оригинала, поскольку только таким образом можно было проследить трансформацию поэтических образов луны и звезд на лексическом и стилистическом уровнях.
Методологической основой диссертации стали теория
сравнительного изучения литературы, разработанная в трудах
отечественных ученых: Н.И.Конрада, И.С.Лисевича, Б.Б.Парникеля,
Н.И.Никулина, П.А.Гринцера, Б.Л.Рифтина [Конрад, 1935, 1974;
Лисевич, 1959, 1968; Парникель, 1985 (1), 1985 (2); Никулин, 1977 (1),
1977 (2), 1985; Гринцер, 1985, 1994; Рифтин, 1969, 1970, 1974]. Метод
системного анализа произведений классической литературы был
разработан и широко применяется в отечественном литературоведении.
Этим проблемам посвящены работы специалистов по литературе
Японии: А.Е.Глускиной, В.Н.Горегляда, И.А.Борониной, В.П.Мазурика,
Т.И.Бреславец, Л.М.Ермаковой, Т.Л.Соколовой-Делюсиной,
А.Р.Садоковой [Глускина, 1967, 1979; Горегляд, 1997; Воронина, 1978, 1998; Мазурик, 1983; Бреславец, 2002, 2004; Ермакова, 1982, 1995; Соколова-Делюсина, 2004; Садокова, 1993, 2001].
В современном отечественном и японском литературоведении особое значение придается исследованию поэтики классического японского стиха. Такой подход представляется вполне закономерным, поскольку изучение принципов и категорий средневековой эстетики, а также поэтической лексики и стилистики дает ответы на многие
теоретические вопросы, касающиеся основных закономерностей развития японской культуры, ее эстетических принципов и установок, истории формирования и трансформации японской поэтической традиции. При этом особого внимания заслуживают приемы, строящиеся на многозначности образа и поэтических ассоциациях. Однако в японском литературоведении традиционно предпочтение отдавалось описанию приемов, систематизации и иллюстрации различных случаев их употребления, толкованию наиболее часто употребляемых эпитетов и образных средств с точки зрения семантики и этимологии. Это касалось изучения, как древней поэзии, так и средневековой. В этой связи большой интерес представляет тот опыт, который был накоплен японскими учеными при изучении антологии «Манъёсю». Однако обращает на себя внимание то, что их научные изыскания касались в основном общих вопросов содержания, тематики и общих закономерностей поэтики древней антологии.
Большой интерес представляют ставший уже классическим труд Миэкэ Киёси, посвященный теоретическому осмыслению памятника и анализу его влияния на дальнейшее развитие японской поэзии [Миэкэ Киёси, 1960]. Важной может считаться работа известного японского литературоведа Наканиси Сусуму, в которой автор обращает внимание на процесс становления художественной образности в древней японской поэзии [Наканиси Сусуму, 1974], а также труд Кубота Дзюн, в котором древняя и средневековая литература рассматриваются в контексте эстетических концепций Японии [Кубота Дзюн, 1989].
Японскими исследователями анализировались и многие другие аспекты антологии «Манъёсю». Так, например, специально авторскому составу памятника и творчеству самых известных поэтов был посвящен труд Общества по изучению древней японской литературы [Манъё-но
кадзинтати, 1974]. Многие ученые обращались к изучению антологии при исследовании самых разных сторон японской культуры. Этнографическим реалиям, нашедших свое отражение в памятнике, посвящена работа известного японского этнографа Накаяма Таро [Накаяма Таро, 1962], а проблемам соотношения исторического и поэтического аспектов в «Манъёсю» - коллективный труд японских ученых под названием «Манъёсю: эпоха и культура» [Манъёсю-но дзидай, 1974].
Важным подспорьем для изучения поэтики японского стиха могут считаться и многочисленные словари энциклопедического плана, специально посвященные антологии «Манъёсю», такие как работы Сасаки Нобуцуна, Ёсида Сэйити и Ариёси Тэмоцу [Сасаки Нобуцуна, 1962; Ёсида Сэйити, 1979; Ариёси Тэмоцу, 1982].
Японская поэзия эпохи Нара привлекала внимание и отечественных ученых. Многие свои работы посвятил проблемам древней поэзии акад. Н.И.Конрад. Такие его труды, как «Очерк японской поэтики» (1924), «О «Манъёсю» (1941) и многие другие стали основополагающими для исследователей самых разных аспектов поэтики классического японского стиха: композиции, стихосложения, средств художественной выразительности [Конрад, 1974]. Огромен вклад в изучение японской классической поэзии А.Е.Глускиной, переводчика и исследователя «Манъёсю». Именно в работах А.Е.Глускиной особо отмечалась важность исследования таких аспектов памятника как проблема авторства, специфика древнего стиля и поэтики, а также подробно разбирался состав памятника, его структура, связь древней поэзии с народными преданиями и обрядами, с синтоизмом и буддизмом [Глускина, 1967, 1971, 1979].
Наряду с изучением древней японской поэзии, темой, которая и сегодня остается приоритетной для японского литературоведения, является изучение классического наследия эпохи Хэйан - «золотого века» японской культуры и литературы. Памятники хэйанской литературы, которые послужили источниками при написании данной работы, также были предметом исследования японских ученых. Однако, как и в случае с «Манъёсю», японские ученые остаются верными традиции исследования многочисленных «общих», глобальных проблем, таких как проблемы авторства, хронологии, структуры и композиции. Все это чрезвычайно важно для понимания общих закономерностей развития японской литературы, и потому такие работы японских ученых как книга Итико Тэйдзи «Полная история японской литературы. Ранее средневековье» получила заслуженную высокую оценку в Японии [Итико Тэйдзи, 1984]. В этом же ряду стоит и многотомный труд Като Сюити «Введение в историю японской литературы», в котором дается подробный разбор особенностей развития литературы в разные периоды японской истории [Като Сюити, 1975].
Следует также отметить и такие работы как «Становление и развитие средневековой японской литературы» Араки Ёсио [Араки Ёсио, 1957], «История древней культуры Японии» Вацудзи Тэцуро [Вацудзи Тэцуро, 1972], « Японская классическая литература» Аоки Такако [Аоки Такако, 1974] и «Очерки средневековой литературы» Фукуда Хидэити [Фукуда Хидэити, 1975]. Специально вопросам становления и развития повествовательной средневековой традиции была посвящена работа Мориока Цунэо «Исследования повествовательной литературы эпохи Хэйан», в которой заметное место было отведено исследованию поэтики в произведениях жанров цурури-моногатари и ута-моногатари [Мориока Цунэо, 1967]. Общие вопросы развития основных жанров
средневековой японской литературы нашли свое отражение в монографии Абэ Акио «История японской литературы. Раннее средневековье» [Абэ Акио, 1966].
Большой интерес представляет также работа Мацумото Нобухиро под названием «История рассказа о рождении ребенка в бамбуке», в которой автор подробно рассматривает инокультурные варианты сюжета о «лунном» ребенке, рожденном из бамбука, а также его японскую версию, запечатленную в «Такэтори-моногатари» [Мацумото Нобухиро, 1951]. Обращает на себя внимание и большой, поистине энциклопедический труд известного японского литературоведа Ока Кадзуо «Словарь по литературе эпохи Хэйан» [Ока Кадзуо, 1979].
Для отечественных японистов изучение средневековой литературы было и остается одним из важнейших направлений. В свете нашей проблематики следует отметить, прежде всего, труды, посвященные исследованию литературы эпохи Хэйан. Это научные труды и переводы памятника «Исэ-моногатари», выполненные Н.И.Конрадом [Конрад, 1978, 2000, 2001], работы И.А.Борониной, в которых всесторонне освещались проблемы поэтики классического японского стиха [Воронина, 1978, 1998]. Особого внимания заслуживают работы Л.М.Ермаковой, которой был выполнен перевод и комментарии к памятнику хэйанской литературы «Ямато-моногатари» [Ермакова, 1982, 1995]. Большой интерес представляют работы Т.Л.Соколовой-Делюсиной, посвященные литературе эпохи Хэйан, в частности, ее переводы и комментарии к «Дневнику Идзуми Сикибу» [Соколова-Делюсина, 2004; Идзуми Сикибу, 2004], а также труды В.Н.Горегляда и В.Н.Марковой [Горегляд, 1994, 1997; Маркова, 1976; Повесть, 1976].
Однако при всем многообразии и масштабности исследований, посвященных истории японской классической литературы, ряд аспектов
по-прежнему остается недостаточно изученным. К таковым относится, например, исследование системы художественной образности в историко-культурном аспекте и в контексте инокультурных заимствований. Эта проблема может быть рассмотрена при изучении конкретных поэтических образов, возникших в период становления древней поэзии и затем получивших свое художественное развитие в поэзии и прозе последующих столетий. Исходя из этого, в данной диссертации предпринимается попытка проследить генезис и процесс трансформации наиболее известных и значимых для всей классической японской литературы поэтико-художественных образов, а именно образов луны и звезд. Отсюда и основные задачи, вставшие соискателем в ходе работы:
определить основные фольклорно-мифологические и празднично-обрядовые источники появления образов луны и звезд в японской культуре и литературе, выявить заимствованные и национальные элементы в их формировании;
проследить генезис и историю становления системы «сезонной» образности в древней японской поэзии и определить место поэтических образов луны и звезд в этой системе;
на основе анализа произведений средневековой прозы и поэзии рассмотреть основные функции этих образов в средневековой литературе, проследить процесс трансформации образов луны и звезд на новом этапе их развития;
определить значение образов небесных светил для процесса становления и развития художественной обрядности в японской классической литературе.
В диссертации впервые в отечественном японоведении делается попытка рассмотреть поэтические образы луны и звезд как важную
составляющую процесса формирования системы художественной образности японской классической поэзии. Рассматривается генезис этих образов, прослеживается процесс их развития от роли мифолого-обрядовых «сезонных» символов в древней поэзии к символике «полутона» в авторской любовной поэзии средневековья. Впервые определяются функции образов луны и звезд в поэзии разных исторических периодов, прослеживается изменение их метафорического значения в контексте развития японской классической литературы. В научный обиход отечественного востоковедения вводятся образцы японской классической поэзии VIII-X веков, воспевающие луну и звезды, которые не были ранее предметом специального исследования и на русский язык не переводились.
Результаты исследования могут быть использованы при написании работ по истории японской классической литературы, равно как и обобщающих работ, посвященных развитию японской литературы и поэтики в целом, вопросам становления и развития средств языковой выразительности и системы художественной образности, а также при чтении курсов по литературам Востока и литературе Японии в востоковедческих ВУЗах.
Диссертационное исследование состоит из Введения, трех глав, Заключения и Библиографического списка.
Основные принципы создания системы «сезонной образности» в древней японской поэзии
Отличительной чертой японской поэзии на протяжении всех веков ее развития было особое отношение к природе, через образы которой поэты передавали свои чувства и переживания. Можно даже сказать, что японская классическая поэзия - это уникальное единение сезонной и любовной лирики, в котором тема природы, идеи красоты природы и смены сезонов всегда играли первостепенную роль.
Представления о поэтической сезонности появились в японской поэзии еще во времена создания первой поэтической антологии «Манъёсю» (VIII в.). Именно в ней была разработана целая система сезонной образности, ставшая основой для создания поэтических творений в последующие века. Это было время, когда еще были, очевидны связи народной и литературной поэтических традиций, а авторская поэзия черпала свои образы и настроения в народной лирике. Естественно, что многие сезонные образы восходили к древним народным преставлениям о календаре, прежде всего, хозяйственном, связанном с земледельческим циклом. Конечно, ко времени создания «Манъёсю» уже многие народные образы были переосмыслены, однако, восприятие сезонных символов были принципиально иным, нежели позднее в эпоху Хэйан.
Если говорить о сезонной лирике «Манъёсю», то важно обратить внимание на такой факт: особое значение придавалось разного рода сравнениям, даже классификация песен зачастую была основана на сравнениях, то есть какие-то предметы и явления мира, собственные переживания поэта сравнивались с определенными явлениями природы. Например, в «Манъёсю» есть такие рубрики, как «Сравнивают с громом», «Сравнивают с рисом», «Сравнивают с дождем», «Сравнивают с морем», а также - с яшмой, жемчугом, деревом, цветком, песком бухты, водорослями, рекой, нитью, травой, луком, горой и так далее. Естественно, также существовали и сравнения с луной, но они никак особо не выделялись - образ луны, хоть постоянно и присутствовал в древней японской поэзии, в этом общем ряду сравнений занимал, похоже, рядовое место. Это, правда, не помешало созданию определенных закономерностей в использовании образа луны уже в древней поэзии, о чем речь пойдет дальше.
Самыми распространенными художественными приемами в антологии были иносказание, аллегория, метафора. Народная символика даже создала особую категорию песен-аллегорий. Это были в основном любовные песни, образы которых были соотнесены с широким кругом предметов и явлений: с обычаями и обрядами, древними праздниками, бытом и трудовыми процессами, а также, безусловно, с сезонными явлениями природы. Эта же символика создала также огромное богатство различных поэтических метафор, многие из которых стали использоваться в японской классической поэзии и в последующие века, а некоторые - стали как бы даже «визитной карточкой» японской поэзии вообще. Так, для девушки, возлюбленной были характерны такие метафоры как водоросль, молодой росток риса, жемчужина, яшма, поле, река, цветок и другие. А метафоры, заимствованные из бытовой лексики, например, шляпа или платье, могли стать обозначением красавицы. Для создания образа юноши часто использовались такие метафоры как корабль или олень, а также многие другие [Манъёсю-но дзидай, 1974, с. 79].
Язык народных иносказаний оказал заметное влияние и на литературную поэзию. Именно поэтому и в анонимной поэзии, и в авторских стихах «Манъёсю» можно встретить такие понятия как «нанизывать жемчуг на нить» или «окрасить платье», что значит «сделать своей женой», а также: «сеять просо» - «встречаться с любимым человеком», «надевать платье алого цвета» - «обмениваться любовными клятвами», «цветы не станут плодами» - «любовь не кончится браком», «лепестки бы не облетели» - «как бы милый не бросил» и многие другие.
Поэтико-эстетические функции луны в японской прозе эпохи Хэйан (IX-XII вв.)
Одним из самых ранних произведений японской классической литературы, в котором луна не только упоминалась, но и являлась чрезвычайно важным компонентом для понимания авторского замысла, была «Повесть о старике Такэтори».
При этом сразу обращает на себя внимание весьма любопытный факт. Сюжет этой повести был известен японской классической литературе еще с древности. Во всяком случае, первая «публикация» варианта этого произведения относится к VIII веку и связана с поэтической антологией «Манъёсю». Именно в этом памятнике в книге № 16, среди поэтических творений, так или иначе соотносимых с древними преданиями и легендами, был помещен поэтический цикл, состоящий из двенадцати песен [Манъёсю: канъяку, 1982, с. 219-221]. Его предваряло прозаические введение, дающее представление о поводе сложения приводимых далее песен. Интересно, что хотя сюжет этого введения был чрезвычайно далек от позднего сюжета «Повести о старике Такэтори», в нем впервые в японской литературе упоминалось имя Такэтори.
Введение рассказывало о том, как старик в последний месяц весны взобрался на холм и увидел оттуда девять прекрасных девушек, облик которых напоминал цветы. Они окликнули его и попросили раздуть огонь под костром, на котором готовили еду. Однако спустя время девушки стали насмехаться над ним, спрашивая друг друга, откуда вообще взялся этот старик. Старик Такэтори смутился и стал извиняться за свое внезапное появление: «Уж очень неожиданно встретился я с прекрасными феями, растерялся и осмелился дерзнуть. Теперь вижу свою вину и хочу попытаться искупить ее песней» [Манъёсю, 1972, т.З, с.67].
Далее в антологии следует песнь старика Такэтори, в которой он повествует о своем знатном происхождении, подробно описывая, какие необыкновенные одежды он носил в детстве и юности, как все восторгались его красотой и статностью. В этой песне можно встретить упоминание и цвета парадных платьев - лиловый с темно-красным отливом, и «платье, крашенное хаги» - то есть окрашенное лучшим в старину красителем. Упоминается в песне также «шнур корейский из парчи», который был важным показателем богатой, нарядной одежды, а также «двухцветные в узорах носки», считавшиеся товаром из заморских стран. Как свидетельство особого достатка семьи, где воспитывался молодой человек, воспринимается и фраза: «На одно такое платье я другое надевал...». Здесь речь идет об обычаи в богатых домах надевать одновременно одно на другое двенадцать платьев-кимоно так, чтобы у ворота были четко видны разноцветные каемки всех. По количеству видневшихся каемок можно было судить о количестве надетых нарядов, а значит, и о богатстве семьи.
Знаменательна и концовка песни. В ней старик, намекая на старинное китайское предание, проводит мысль о том, что негоже смеяться над старым человеком, поскольку в скором времени и их (девушек) красота погаснет, они также состарятся и найдутся те, кто будет смеяться над ними. Говорит он об этом такими словами: «Старцем безобразным нынче / Перед вами я предстал. / Но, узнайте, жил на свете / Мудрый человек один, / Пусть хранят об этом память / Люди будущих годин. / Ту повозку, на которой / Провожали старика, / Он привез назад, / Чтоб знали: / Будет очередь твоя» (Пер. А.Е.Глускиной) [Манъёсю, 1972, т.З, с.70].
Концовка этой песни была, несомненно, понятна читателям древней антологии, как людям, хорошо осведомленным в китайской письменной и устной традиции, и вполне вписывалась в общий контекст песни о старике Такэтори. Предание, на которое намекает старик, повествует об одном сыне, который повез в лес своего старого отца, желая от него избавиться, поскольку отец стал немощным и старым. Внук же, увидев, что делает отец, взял повозку и повез ее из леса домой. Когда же удивленный отец спросил его, зачем он везет повозку домой, мальчик ответил, что повозка еще пригодится - мол, когда, ты, отец, состаришься, я тебя на ней тоже отвезу лес. Отцу стало стыдно, и он привез деда обратно домой [Накаяма Таро, 1962, с. 55].
Миф о любви двух звезд в фольклорной традиции и обрядности японцев
В странах Восточной Азии в народной традиции миф бытовал во множестве вариантов, обрастая все новыми и новыми деталями. Так, например, в Китае широкое распространение получило представление о том, что Ткачиха была небесной феей, а Волопас - земным юношей, жившим в бедности, и имевшим лишь старого вола. Однако именно этот вол и подсказал ему, как жениться на небесной фее. Для этого надо было дождаться, когда Небесные феи спустятся к Серебряной реке, (протекавшей, согласно этой версии, на земле) и украсть одежду Ткачихи. Волопас так и поступил и вскоре женился на Ткачихе. У них родились сын и дочь.
Однако Небесный правитель был очень недоволен поведением дочери и потребовал ее возвращения на небо. Опечаленный Волопас посадил детей в корзины и отправился вослед за женой, но Серебряная река уже перенеслась на небо и превратилась в бурлящую Небесную реку. Волопас с детьми стали черпачком выливать из нее воду, пока не выбились из сил. Стойкость и решительность детей тронули Небесного правителя, и он разрешил их родителям встречаться один раз в год вечером седьмого дня седьмого месяца. Как объясняет эта версия мифа, маленькие звездочки около звезды Волопас - это дети разлученных супругов, а звездный треугольник около Ткачихи -воловий кнут, который Волопас успел бросить своей жене [Юань Кэ, 1965,с.135-138].
Другой весьма интересной версией мифа была фольклорная легенда провинции Гуандун. В ней Ткачиха и Волопас изображались небожителями, которые влюбились друг в друга и не пожелали скрывать своих чувств. За это разгневанный Небесный правитель отправил их на землю, где они родились двоюродными братом и сестрой. Но любовь их была столь велика, что они поженились на земле. Юношу тот же час отправили на чужбину, но жена стала молить его отца вернуть любимого. И тогда отец разрешил им видеться раз в семь дней, однако слуга, которому поручили передать это, все напутал и сказал, что супруги могут встречаться лишь в седьмой день седьмого месяца. Спустя время Ткачиха и Волопас вернулись на небо, но приказа земного отца ослушаться не посмели [Малявин, 1989, с.73-74].
В корейской и японской фольклорной традиции не было такого множества вариантов звездного мифа. За основу, как правило, бралась лишь общая канва известного повествования, однако именно она обрастала всевозможными деталями и дополнениями. Так, например, из корейских народных сказок можно узнать, что звезды Волопас и Ткачиха были в услужении у самого Солнца и что видеться они могли когда угодно, но жили так далеко друг от друга, что полгода требовалось лишь на то, чтобы дойти до места встречи. Приходили они туда как раз в 7-ой день 7-го месяца, но тут же должны были расстаться, чтобы «не опоздать на ежегодный смотр, который Небесный владыка звездам устраивает» [Феи с Алмазных гор, 1991, с.15-16].
Интерес к китайскому мифу в странах Восточной Азии выразился также и в том, что в день встречи звезд, в 7-ой день 7-го месяца, стали устраиваться пышные празднества, охватывавшие все слои общества. В Китае, как уже отмечалось, праздник получил название Кануна Седмицы (Циси), в Корее он назывался Праздником седьмой ночи (Чхильсок), а в Японии получил название Танабата, что можно перевести как «Седьмом вечер». Во всех странах Восточной Азии этот день почитается днем счастья и семейного благополучия. Было принято обращаться к богам с просьбами ниспослать здоровье и удачу и отвести от семьи напасти и невзгоды.
Широкую популярность этот праздник обрел и в Японии, где он был известен еще в эпоху Нара (VIII в.) и впервые отмечался в 755 г. при дворе императрицы Кокэн (750-758; 765-770). В эпоху Эдо (1603-1868) его включили в госэкку (fp p o) ) - пять основных японских
праздников.