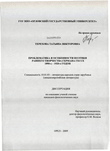Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Мифопоэтическая критика и теория интертекстуальности 16
1.1. От теории интертекстуальности к интертекстологии 16
1.2. Мифопоэтический и интертекстуальный анализ 34
Глава 2. Интертекстуальность и поэтика мифа в драматургии Ж. Кокто «античного» периода .49
2.1. Интертекстуальные стратегии в пьесах «Орфей» и «Адская машина » .49
2.2. Специфика «мифологизма» Ж. Кокто в драматургии «античного» периода .67
Глава 3. Драматургия 1930-х гг . 90
3.1. «Рыцари Круглого Стола» 90
3.2. «Бульварный» театр Жана Кокто .106
Глава 4. Интертекстуальность в драме Ж. Кокто «Двуглавый орел» .120
4.1.Традиции классицизма и романтизма в драме «Двуглавый орел» 120
4.2. Авторская мифология и античные реминисценции в драме «Двуглавый орел» .142
Заключение
- Мифопоэтический и интертекстуальный анализ
- Интертекстуальные стратегии в пьесах «Орфей» и «Адская машина
- Специфика «мифологизма» Ж. Кокто в драматургии «античного» периода
- Авторская мифология и античные реминисценции в драме «Двуглавый орел»
Мифопоэтический и интертекстуальный анализ
Теория интертекстуальности, возникшая в рамках постструктуралистской философии (философии «множества» или «различия») в конце 1960-х гг., до сегодняшнего дня остается объектом пристального внимания не только со стороны ученых-гуманитариев, но и более широкого круга гуманитарной и окологуманитарной общественности, что говорит не только о научном, но и мировоззренческом значении интертекстуальности для современного человека11. На протяжении последних сорока лет предпринимаются все новые и новые попытки осмысления, уточнения и объяснения теории интертекстуальности и категорий, лежащих в ее основе (текст, интертекст, цитата и цитатность, диалог, влияние и т.д.)12. Показательно и обилие терминов, применяемых для обозначения межтекстовых связей различными авторами: «интертекстуальность» (Ю. Кристева), «гномический код» (Р. Барт), «транстекстуальность» (Ж. Женетт), «интертекстуальное слово» (А.А. Грякалов)13 и т.д. Одной из ключевых проблем для современного литературоведения является вопрос о статусе теории интертекстуальности в ее соотношении с такими традиционными
Показательно здесь и то, что содержание понятия также постоянно меняется. филологическими дисциплинами, как теория источников и компаративистика. Работы ряда зарубежных литературоведов последних лет, посвященные этому вопросу, показывают, что в настоящее время «теория интертекстуальности», принадлежавшая изначально философскому дискурсу, осваивается литературоведением в качестве новой отрасли поэтики – «интертекстологии». Таким образом, понятие интертекстуальности с момента своего возникновения (1967) до настоящего дня прошло своеобразную эволюцию, в результате которой были пересмотрены такие базовые понятия, как художественный текст и его границы, оппозиции «структура – произведение», «произведение – текст», а также само содержание понятия «интертекстуальность». Мы обратимся к рассмотрению основных этапов этой эволюции, так как, с одной стороны, превращение интертекстуальности в новую дисциплину поэтики, происходящее на наших глазах, имеет важное методологическое значение для науки о литературе14, и, с другой стороны, в настоящее время остро ощущается необходимость в наличии более строгих определений, касающихся категорий, которыми оперирует теория интертекстуальности. Мысль о необходимости построения новой теории взаимодействия между текстами была впервые высказана Ю. Кристевой в 1967 году15. Заслуга Ю. Кристевой состоит в том, что благодаря ее работам был перекинут мост от новейшей постструктуралистской философии к собственно литературоведению. Однако цель французской исследовательницы состояла не в том, чтобы обогатить литературоведение новыми методами анализа и интерпретации текста, а в «разрушении поэтики» («поэтического дискурса», созданного
«Стоит только заглянуть за зеркальную поверхность текста - и поэтика утратит свой предмет. Реально, как мы уже сказали, у нее такого предмета и не было, поскольку, притворяясь, будто говорит о каком-то другом тексте, на деле она разговаривала сама с собой. Однако такой авто-дискурс был возможен лишь при условии, что литературный псевдо-предмет (выдвигаемый на первый план для того, чтобы его можно было не замечать) рассматривается как феноменальная поверхность, как непрозрачная структура, как удобное в работе изображение; лишенная собственного предмета поэтика превращается в способ объективации, ибо полностью зависит от литературного произведения как изображающей поверхности. Уберите из здания поэтики принцип репрезентации - и поэтика рухнет, утратит устойчивость, позволяющую ей осуществлять свои операции, потеряет опору, ибо ее подлинный предмет - это и есть принцип репрезентации, входящий в самый ее замысел; именно этому принципу сохраняет она приверженность в процессе самоиспытания, для которого конкретный текст - всего лишь необязательный предлог».
Таким образом, поэтика в понимании Ю. Кристевой представляет собой всего лишь «систему репрезентации, представление о литературном тексте как об изображающем дискурсе». Однако современные тексты (тексты авангарда ХХ века, от Джойса до «новых романистов») подрывают принцип репрезентации, и из этого следует, что современное гуманитарное знание нуждается в новой теории16.
Ключевое понятие этой новой теории, разрабатывавшейся французской исследовательницей, - это понятие интертекстуальности. Вводя это понятие, Ю. Кристева опиралась на труды М.М. Бахтина и в частности на его теорию «большого диалога», однако бахтинский диалог между субъектами был подменен (расширен) диалогом между текстами.
Кристева Ю. Разрушение поэтики // Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. М., 2000. С. 474-475. Бахтин, по мнению Ю. Кристевой, «динамизировал структурализм», поскольку художественное произведение предстает перед ним не как законченное смысловое целое, «но как место пересечения текстовых плоскостей, как диалог различных видов письма - самого писателя, получателя (или персонажа) и, наконец, письма, образованного нынешним или предшествующим культурным контекстом”. Отсюда вытекает определение интертекстуальности: « … всякое слово (текст) есть такое пересечение двух слов (текстов), где можно прочесть по меньшей мере еще одно слово (текст) … любой текст строится как мозаика цитаций, любой текст — это впитывание и трансформация какого-нибудь другого текста. Тем самым на место понятия интерсубъективности встает понятие интертекстуальности»17.
Уже здесь, в ранних работах Ю. Кристевой, мы наблюдаем подходы к принципиально иному пониманию художественного текста. Большая роль в разработке этого подхода принадлежит Ролану Барту, у которого «интертекст» становится Текстом18. Ему же принадлежит заслуга проведения границы между «произведением» и «Текстом». Здесь Р. Барт отталкивался от установок структурализма, «подменившего бытие … произведения бытием его бессознательной структуры», реализацией которой и являлось произведение, в то время как постструктурализм подменял это произведение «столь же бессознательной, многомерной диахронической глубиной его Текста (интертекста)»19. Произведение в понимании структурализма представляло собой своеобразный смысловой «монолит», единство смысла и взаимосвязей элементов которого обеспечивались интенцией автора. Такое понимание произведения манифестировало философские установки структурализма, в основании которого лежала «философия
Интертекстуальные стратегии в пьесах «Орфей» и «Адская машина
Немаловажную роль для создания цирковой атмосферы играет также освещение и звуковое сопровождение.
Следует особое внимание обратить на язык и стиль драмы Кокто, поскольку во многом именно благодаря им пьеса приобретает черты фарса. Речь героев модернизирована, содержит множество анахронизмов (anarchiste «анархист», facteur «почтальон», chirurgien «хирург», alcool «спирт», opration «операция», police «полиция», amorcer «наживлять», concours (de posie) «поэтический конкурс», acte de naissance «свидетельство о рождении», ami de la famille «друг семьи», etc.) и лишена всякого намека на патетику. Эта речь в целом выдержана в разговорном стиле, насыщена просторечиями, бранной лексикой (merde, idiot, brute (в перен. знач.), imbecile, folle, la misrable!) и лексикой и штампами «протокольного» языка (version «версия», victime «жертва», corps «тело, труп», au nom de la loi «именем закона», procdons par ordre «действуем по установленному порядку», etc.), фамильярными обращениями (mon vieux «старик», mon gaillard «мой голубок», mon ami «дружок»), фразеологизмами и устойчивыми выражениями (“tourner la tte de nos pouses” – «кружить головы нашим женам», “rira bien qui rira le dernier” -«хорошо смеется тот, кто смеется последним», “la chair de poule” – «гусиная кожа», “donnant, donnant” – «услуга за услугу», “nous voil propres” – «ну и влипли мы», “mettez-y du vtre” – «взять себя в руки», “conduire par le bout du nez” – «водить за нос»), междометиями (hein, oh! ho! hop !). В плане синтаксиса следует отметить обилие разговорных и эмоционально-экспрессивных конструкций типа “allons bon!” – «ну вот!», “de mieux en mieux” – «час от часу не легче», “silence!” – «молчать!», “chut!” – «тише!», “qu il est beau!” – «ах, хорошо!». Cр. также характерные примеры разговорного синтаксиса:
Здесь игра слов, основанная на двух значениях глагола voler: «летать» и «воровать». Однако иронический, пародийный, снижающий эффект, которого достигает таким образом Кокто, имеет и обратную, трагическую сторону. Вследствие этого и ряд реплик персонажей обнаруживает некоторую амбивалентность, сквозь иронию начинает просвечивать трагический смысл. Так, например, в разговорном обороте «Где была моя голова?», который мы слышим из уст Орфея и Эвридики [1, с. 300; 302], читатель/зритель, знающий финал мифа об Орфее, увидит трагическую иронию. В тексте пьесы мы наталкиваемся на символизацию обыденности: обычные на первый взгляд вещи и фразы содержат в себе в зашифрованном виде грозные предзнаменования: зеркало становится дверью в потусторонний мир, а перчатки – своего рода ключом, позволяющим открыть эту дверь. Слово «merci», которым лошадь благодарит Орфея в самом начале пьесы, начинается теми же тремя буквами, что и слово «merde». Количество букв также совпадает. В то же время именно это слово складывается из первых букв другой фразы, которую выстукивает лошадь во время спиритического сеанса, и которую Орфей называет самым гениальным стихотворением, когда-либо написанным («Madame Eurydice reviendra des enfers»)77. Вакханки, расшифровав эту анаграмму, воспринимают это как личное оскорбление и как достаточный мотив для того, чтобы убить поэта.
Отметим также, что мотив головы занимает особенное место в тексте пьесы, содержится преимущественно в устойчивых оборотах разговорной речи и обнаруживается в репликах Эвридики («Quelle patience! Toi qui n as aucune tte, tu en trouves pour ton cheval», « C est mon tour de n avoir aucune tte »)78 и Орфея («Une femme ... qui tourne la tte de nos pouses... », «O avais-je la tte », « «Je me flicite, moi, d avoir tourn la tte exprs vers ma femme. Cela vaut mieux que d essayer de tourner la tte aux femmes des очередь спрашивать, где была моя голова». autres »)79. В десятой сцене выражение «Где моя голова?» будет звучать из уст оторванной головы Орфея и приобретет, таким образом, буквальный и вместе с тем комический смысл.
Интертекстуальные связи пьесы реализуются не только на уровне включения жанровых элементов. Помимо современной лексики, мы находим в истории об Орфее, рассказанной Кокто, различные намеки на поэтику сюрреализма – поэтического течения, к которому некоторое время примыкал и сам Кокто. Исследователи уже отмечали эти элементы присутствия сюрреализма в тексте пьесы (поэтический метод Орфея напоминает метод автоматического письма, мотивы сна и пограничного состояния сознания и т.д.)80. Добавим к этому перечню фигуру Лошади, в которой причудливым образом узнается Пегас, «выбивающий» копытом текст акростиха, и одновременно «перевернутый» Кентавр, поскольку у нее человеческие ноги. Типично сюрреалистическим можно назвать прием визуализации метафоры – так, выражение «нить жизни (оборвалась)» реализуется в пьесе в виде катушки, на которую Смерть наматывает белую нить, к концу которой привязана голубка-душа. К эстетике сюрреализма отсылают нас также и особенности экстерьера, декораций, благодаря которым действие разворачивается в условном, остраненном пространстве.
Еще одна особенность, характерная для интертекстуальной поэтики Кокто вообще, - это включение в текст на равных правах элементов различных мифологий. В пьесе «Орфей» этот прием разработан не столь отчетливо, как в более поздних произведениях, однако уже здесь помимо античного пласта выделяется пласт христианской мифологии (голубь как символ души, ангел-хранитель Эртебиз) и восточной (мусульманской) мифологии (ангел смерти Азраил). Античная мифология доминирует над остальными, поскольку именно античный сюжет становится «каркасом»
Но наиболее значительным трансформациям подвергается сюжет легенды об Орфее и Эвридике: Эвридика умирает не от укуса змеи, но от яда, которым была смазана внутренняя часть конверта; Орфей попадает в загробное царство не благодаря своему таланту, но посредством перчаток Смерти; эпизод пребывания Орфея в Аиде у Кокто опущен; пьеса завершается чудесным «воскресением» главных героев. При этом вводятся новые персонажи, отсутствовавшие в мифе: Смерть и ее помощники, Комиссар и Протоколист, вакханка Аглаоника, Почтальон, ангел Эртебиз. Ряд событий мифа получает сниженную, бытовую мотивировку: так, Орфей второй раз теряет Эвридику во время очередной ссоры, но воспринимает это отнюдь не трагически
Специфика «мифологизма» Ж. Кокто в драматургии «античного» периода
В основе всякого творчества, по Кокто, лежит уничтожение «привычного», и задача художника состоит не столько в том, чтобы создавать новое, сколько «реабилитировать» старое, счищая с него патину и давая зрителю возможность посмотреть на затертый сюжет свежим взглядом: «Красота – всегда результат неожиданного происшествия, внезапного перепада: от устоявшихся привычек – к привычкам, еще не устоявшимся»; «Убийство привычки в искусстве узаконено. Свернуть ей шею – задача артиста» [6, c. 238, 244]. Говоря о художнике де Кирико, Кокто писал, что «истинный реализм заключается в том, чтобы показать удивительные вещи, которые мешает нам увидеть привычка» [1, c. 751]. Ирония, снижение, использование мифа по принципу зеркальной инверсии – все эти приемы имеют своей целью «остранить» миф и прочитать его заново128.
Во-вторых, Кокто не случайно выбирает именно развлекательные, «массовые» жанровые формы: фарс, водевиль, мелодрама, детектив. Здесь видна авторская интенция привлечь самый широкий зрительский круг к своим произведениям:
«Обратиться к настоящей публике, оставшейся только в «Комедии Франсез» и в «Бобино». Большие сборы. Полный зал. Вызовы на публику. Этих зрителей не надо шокировать. Они – элита. Добиться того, чтобы спектакль стал расхожим, вошел в (Парамонов Б. Русские и Кокто [Электронный ресурс]. URL: http://archive.svoboda.org/programs/rq/2005/rq.081905.asp) репертуар, не сходил с афиш. В 1930 году было бы ошибкой желать скандала, как с «Зазывалами» в 1917 году, спектаклем, который сразу сняли», - напишет Кокто в «Опиуме» (1930) [6, c. 229]. На протяжении всего своего творческого пути Кокто будет искать различные пути контакта с массовой публикой.
В-третьих, комическое в «античных» пьесах Кокто неизменно сливается с трагическим. Жанровый синтез позволяет соединить различные точки зрения на происходящее на сцене. Одни и те же события получают двойное освещение: судьба Эдипа – это фарс, балаган для богов, играющих им, но для самого Эдипа и окружающих его людей – это трагедия, в результате которой происходит «вочеловечивание» героя. Кроме того, комическое выступает в роли своеобразной «маски» и служит для «обмана» читателя/зрителя: воспринимая поначалу происходящее как комедию, лишь в процессе развития драматического действия зритель видит его трагическую подоплеку.
В-четвертых, интертекстуальность является своего рода языком, при помощи которого автор конструирует новый, «личный миф», поскольку пересказ древнего сюжета превращается в рассказ о поэте, его месте в мире и о сущности искусства. Глава 3. Драматургия 1930-х гг. 3.1. «Рыцари Круглого Стола»
Пьеса 1932 г. «Адская машина» завершает «античный» период в драматургии Кокто, и вместе с уходом античных сюжетов начинается поиск новых интертекстуальных стратегий: в период между 1934 и 1951 гг. драматург создает ряд произведений на «литературные» сюжеты - драмы «Рено и Армида» (Renaud et Armide, 1943), «Двуглавый орел» (L Aigle deux tte, 1943), фильмы «Вечное возвращение» (L ternel retour, 1943, на сюжет легенды о Тристане и Изольде), «Красавица и чудовище» (La Belle et la bte, 1945) 129 Параллельно с этим Кокто продолжает разрабатывать поэтику «бульварного театра», результатом чего становятся драмы «Ужасные родители» (Les Parents terribles, 1938), «Священные чудовища» (Les Monstres sacrs, 1940), «Пишущая машинка» (La Machine crire, 1940, 1956). Период экспериментов завершится «возрождением» античности в балете «Федра» (Phdre, 1950), в фильмах «Орфей» (Orphe, 1949) и «Завещание Орфея» (Le Testament d Orphe, 1960).
Пьеса «Рыцари Круглого стола» (Les Chevaliers de la Table Ronde, предположительная дата создания - 1934) занимает особое, переходное место между пьесами «античного» и «бульварно-синематографического» периодов творчества Кокто.
Переход к средневековой образности был неожидан не только для читателей, привыкших к античным образам и мотивам, но и для самого Кокто. Сам автор отмечает в предисловии, что в этой пьесе он «как будто порывает со своего рода одержимостью Грецией», что «интрига, эпоха и персонажи [пьесы] были настолько не его обихода, насколько это вообще
Интерес к адаптации известных сюжетов проявлялся у Кокто и ранее («Необыкновенный портрет Дориана Грея» (Le portrait surnaturel de Dorian Gray, ок. 1909), либретто комической оперы «Поль и Виргиния» (Paul et Virginie, 1920), «Ромео и Джульетта» (Romo et Juliette, 1924)), однако все эти произведения не являются самостоятельными. возможно» [5, c. 117, 118]130, а в одной из бесед уточнил, что «к моменту написания «Рыцарей…» он прочитал лишь «Тристана и Изольду»», и лишь затем, чтобы воссоздать «дух эпохи», начал читать другие романы131. Комментаторы Кокто отмечают также пренебрежительное и насмешливое отношение драматурга к эпохе Средних Веков, характерное для предыдущих десятилетий132 . Тем не менее ошибкой было бы трактовать «Рыцарей…» как некую веху, обозначающую полный разрыв с поэтикой, выработанной Кокто в 1920-е гг.
Основные претексты драмы Кокто – это романы «артуровского» цикла («Парцифаль» Вольфрама фон Эшенбаха, «Сказание о Граале» Кретьена де Труа, анонимный роман «Поиски Святого Грааля»). Однако при достаточно точном (в общих чертах) следовании легенде о Граале Кокто вносит в нее существенные изменения, что определяется характером заимствования. Из романа «Поиски Святого Грааля» автор переносит в пьесу «гибельное сиденье», предназначенное для непорочного рыцаря, эпизод игры в шахматы с дьяволом, сюжет о любви Ланселота к Гиневре, финальное возвращение жизни в королевство и ряд других деталей. Но эти заимствования служат отнюдь не для «воссоздания атмосферы» Средневековья, но становятся материалом для авторской игры различными жанровыми кодами. Более того, перенося в свою драму некоторые сюжетные линии средневековых романов, Кокто тем не менее создает свой, оригинальный сюжет.
В пьесе «Рыцари Круглого стола» три акта. Первый акт («Заколдованный замок», Le Chteau enchant) представляет читателю опустевший замок Камелот, заколдованный чародеем Мерлином: в стране короля Артура не растут цветы, не поют птицы, земля бесплодна, рыцари сражаются с призраками, однако король не замечает происходящего вокруг, пребывая в мире иллюзий.
Авторская мифология и античные реминисценции в драме «Двуглавый орел»
Королева же сменяет роль трагической героини на роль собственно королевы, принимая решение вернуться ко двору. Однако в итоге происходит еще одно, окончательное превращение, заключающееся в отказе героя от любых ролей, благодаря чему он становится человеком – и при этом человеком влюбленным. Именно любовь, а вместе с нею и смерть, становятся в мире Кокто критерием, позволяющим провести границу между игрой и реальностью, – в сущности, эти две категории и воплощают собой реальность. Любовь выступает как подлинное бытие личности, несовместимое с игрой и эту игру разрушающее.
Все перемены, происходящие с главными героями, являются следствием стремления влюбленных спасти свою любовь. Однако все их попытки оказываются безуспешными, приводя к трагической развязке.
Первая причина их неудачи заключается в том, что мир, в котором живут герои – это мир игры. В пьесе Кокто играют все. Это выражается и на уровне стиля, поскольку на протяжении всей пьесы люди, поступки, события характеризуются посредством театральной лексики: «трагедия», «фарс», «ломать комедию», «играть роль в чем-либо», «персонаж», «развязка» и др. При этом миру художественному, миру бескорыстной игры Королевы (в рамках ею самой придуманной «эстетики») противостоит мир политической интриги, и этому миру принадлежат все остальные герои пьесы. И если Королева выступает в качестве режиссера трагедии, превращая Станислава в Азраила, то не участвующая в действии эрцгерцогиня выступает как режиссер другого толка, плетя политическую интригу. Цель этой интриги – превратить всех действующих лиц в марионеток, сделать их орудием своей воли. Выясняется, в частности, что таким орудием стал и Станислав, которому полиция позволила проникнуть в замок, чтобы устранить королеву чужими руками. Возникает ситуация «театра в театре», и драматическое действие становится не только способом репрезентации, но и способом авторской рефлексии над сущностью этого действия. Уже в первом акте разыгрываются два спектакля: спектакль Королевы, «играющей в страдание», и спектакль полиции, инсценирующей облаву на преступного анархиста175. Таким образом, в пространстве пьесы разворачиваются две большие игры: игра художественная, высокая, принадлежащая иному, поэтическому миру, и игра политическая, низкая, принадлежащая земному, реальному миру. Сопоставление этих двух миров дает нам очередную романтическую антитезу. Но дело осложняется тем, что выйти из игры невозможно. Во имя спасения своей любви, главные герои начинают играть другие, чуждые им роли, становясь участниками политической игры. Сама игра усложняется и начинает замещать реальность. Так, Королева после вторжения Станислава затевает новую игру с придворными, убеждая их в том, что все произошедшее этой ночью – лишь «комедия, разыгранная Ее Величеством» [5, c. 237]. Станислав становится участником политической игры, кульминацией которой становится его словесная дуэль с Графом Феном (шефом полиции) в третьем акте. Другими словами, герои пытаются выйти из игры посредством самой же игры. Но Станислав и Королева принадлежат миру поэзии, они – поэты, люди, «чистые сердцем» («сurs purs» - такое определение мы встречаем в другой пьесе Кокто, «Адская машина»), и при этом если Станислав в какой-то мере предстает как творение Королевы, то и Королева соотносится со Станиславом как «стихотворение» («un pome») и «поэт» («un pote»), на что указывает и дальнейшее развитие действия. Поэтому они способны играть только в чистую, возвышенную игру, в низкой же игре они терпят поражение.
Вторая причина трагической развязки кроется в природе самой игры. Подлинное бытие личности, по Ж. Кокто, осуществляется через поступок, действие, в то время как бытие маски (неподлинное, игровое бытие) осуществляется через игру. Но маска статична, и поэтому на протяжении десяти лет в жизни Королевы ничего не происходит. В течение этого времени По мере своего развития действие затем осложнится «спектаклями» Эдит, Фена, Станислава. Королева строит все новые и новые замки, то есть повторяет одно и то же действие, поскольку цель игры не результат, но сам процесс игры. Трагизм же заключается в том, что игра начинает подчинять себе саму жизнь. Человек, играющий в трагедию, даже не замечает, как трагедия вторгается в его жизнь, и нередко в тот самый момент, когда личность, обретая себя в любви, стремится выйти из этой игры. Поэтому весьма символично то, что Королева в итоге превращается в настоящую трагическую героиню, а Станислав – в героя, в полном соответствии с сюжетом трагедии, которую придумала Королева. Оба героя находят свою смерть в библиотеке, среди книг, в замке Кранц, который в контексте пьесы осмысляется как «воздушный замок». Символична также и другая деталь финального эпизода: Королева, стоя на верхней площадке лестницы, протягивает перед смертью руку Станиславу, но тот, добежав до последней ступеньки, падает, испепеленный ядом. Последнее объятие не состоялось, любовь в мире игры оказывается невозможной, и тела королевы и крестьянина вновь разделены лестницей, которая становится символом «иерархической» лестницы.
Ситуация «театра в театре» имеет непосредственное отношение к авторской картине мира, конструируемой в произведении. Изображаемый Кокто мир представляет собой огромную сцену, на которой люди разыгрывают друг перед другом различные роли. Представление о мире как театре поддерживается и многочисленными отсылками к Шекспиру как в драме «Двуглавый орел», так и в других произведениях Ж. Кокто176. Отметим здесь также, что творчество Шекспира во многом повлияло на становление романтической драмы не только в Англии, но и во Франции; ср., в частности, высокую оценку драматургии Шекспира, данную В. Гюго в предисловии к драме «Кромвель» (1827) и Стендалем в трактате «Расин и Шекспир» (1823). Таким образом, присутствие шекспировских референций можно считать еще одним «следом» романтической традиции у Ж. Кокто. Тема Шекспира возникает в анализируемой нами драме на эксплицитном уровне в сцене
Об этом см. в предыдущих параграфах. чтения «Гамлета», содержание которого в ряде случаев сопрягается с содержанием пьесы Кокто (темы игры, безумия, противостояние одинокого героя придворным интригам). Однако на имплицитном уровне тема Шекспира раскрывается в плане мировоззрения: мир – это не только сцена, где все «люди – актеры», это еще и сцена вселенской игры, в которой человек – лишь марионетка в руках богов: