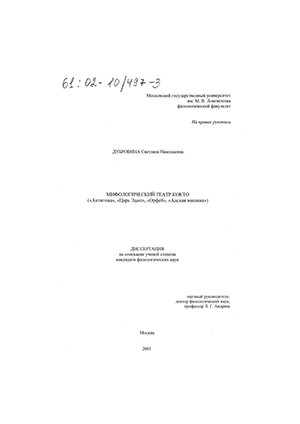Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Адаптация античных сюжетов, тем, образов и адаптация древнегреческой трагедии в драматургии первой половины XX века 22
Термин «адаптация» во французском и русском литературоведении 22
Определение термина «адаптация» и его использование в данной работе 26
Основные методы заимствования, образов античности в современной драматургии 27
Оценка критиками интерпретации античных сюжетов в XX веке 51
Глава 2 Поэтика свободных адаптации Жана Кокто («Антигона», «Царь Эдип») 54
I «Антигона» (1922) 54
Античность в драматургии Жана Кокто 57
От авангардистских постановок Жана Кокто 10-х годов к «классическим» пьесам 20-х 61
Прочтение « Антигоны » 66
Психологизация персонажей в пьесе 70
Сценические постановки пьесы 76
II «Царь Эдип» (1925-1927) 80
Партия хора 86
Оратория Стравинского «CEdipus-Rex» на либретто Кокто 87
Глава 3 Воплощение эстетических концепций Кокто в пьесах «Орфей» и «Адская машина» 89
I. «Орфей» (1925) 89
Персонажи 90
Поэзия точности и числа 97
Предметы и пророчества. Сюрреалистические идеи в пьесе 98
Медитация на тему смерти 102
Сценическое время и пространство 105
Поэт-медиум. Поэт-жертва 108
II. «Адская машина» (1932) 111
Структура пьесы 111
Образ адской машины. Поэтика названия пьесы 113
Основные мотивы пьесы 115
Временная и пространственная структура пьесы. 118
Невидимый мир богов 121
Божественная иерархия 123
Комическое начало в пьесе 125
III. Смешение жанров в драмах Кокто. Элементы фарса, мелодрамы, трагедии 145
Заключение 152
Примечания 156
Библиография 160
- Основные методы заимствования, образов античности в современной драматургии
- Психологизация персонажей в пьесе
- Предметы и пророчества. Сюрреалистические идеи в пьесе
- Комическое начало в пьесе
Основные методы заимствования, образов античности в современной драматургии
Взаимодействие образов античности с современным театром проходило в XX веке по трем основным направлениям: во-первых, это собственно новые переводы античных оригиналов, во-вторых, адаптация произведений древнегреческих авторов и, наконец, создание современными драматургами оригинальных пьес на античные сюжеты. Этой классификации придерживаются многие исследователи. Так, автор фундаментальной работы «Классическая традиция. Греческое и римское влияние на западную литературу» (1957) Хигет выделяет три основных ветви влияния античной литературы на современную западную традицию: перевод, подражание (imitation) и соревнование (emulation). К последнему типу влияния автор относит произведения, в которых заимствуется что-либо из классической формы или сюжета античного образца, но при этом добавляется стиль автора переработки и новые элементы сюжета Нетрудно видеть, что термин emulation, введенный Хигетом, фактически обозначает оригинальное произведение на древний сюжет.
Интересно также упомянуть о классификации Пиетера Торопа. Тороп в исследовании по теории перевода рассматривает типы интекстов, т.е. способов бытования одного текста в другом, выделяя при этом следующие способы заимствования чужого текста: 1) пастиш (свое в чужом), 2) цитата, 3) стилизация или реминисценция (чужое в своем), 4) перифраза (использование формы), 5) адаптация или антономазия (свойство вместо имени), 6) парафраза (пересказ), 7) бурлеск, травести, 8) аллюзия .
Под пастишем автор понимает введение в речь героев слов, описаний, непосредственно отсылающих читателя к иному тексту; понятие реминисценции в интерпретации Торопа кажется нам близким к пастишу, это также использование некой ситуации иного текста; отличие от пастиша лишь в том, что такое заимствование происходит без непосредственного употребления слов и выражений чужого текста.
В качестве примера перифразы исследователь приводит монолог Мармеладова, в целом стилизованный под текст Библии: Евангельский текст применяется в этом монологе активно, и мы можем на уровне отдельных его элементов различать разные типы интекстов, но монолог как целостный интекст является по-нашему перифразой Понятие адаптации Торопа очень близко по смыслу к перифразе, автор практически не.поясняет этого термина, но приведенные примеры позволяют сделать вывод, что адаптация фактически является переложением иного текста, где, однако, этот текст прямо не указывается (нет цитирования, заимствуется только форма, ситуация иного текста). Так, к адаптации по Торопу, видимо, можно отнести заимствование в первом действии пьесы Кокто «Адская машина» ситуации начала «Гамлета» - разговора стражников на крепостных стенах, окружающих город. К типу парафразы или пересказа, по мнению Торопа, чаще всего можно отнести неомифологические произведения.
Наконец, автор рассматривает травестирование как контрастное изменение стиля и аллюзию в обычном понимании этого слова, т.е. как намек на иное произведение.
Таким образом, классификация Торопа намеренно многозначна, т.е. одно понятие плавно перетекает в другое и, по словам самого ученого, выбор того или иного типа интекста при описании художественного произведения зависит скорее от задач исследования, от точки зрения исследователя. В целом, Тороп приходит к выводу о необходимости параметрического подхода к изучению интекстов: Если частью художественной поэтики писателя является поэтика чужого слова, то последняя может быть проанализирована при помощи нескольких взаимосвязанных и взаимодополняющих параметров: поэтики источников, поэтики интертекста и поэтики интекста .
Для наших целей, а именно для исследования переработок и оригинальных произведений Жана Кокто на сюжеты Софокла, наиболее полезными из введенных Торопом оказываются понятия стилизации, перифразы, адаптации и парафразы. Как мы только что показали, именно эти понятия из классификации Торопа имеют наиболее близкие по смыслу значения, и разделить их достаточно четко не представляется возможным (о чем прямо говорит и сам исследователь, и сходство приводимых им к данным понятиям примеров).
Практически все переводы в Средние века и значительная часть переводов вплоть до XVIII в. во Франции предпринимались с латинского языка , переводы же с греческого до XIX века были довольно редки. Западноевропейская трагедия в значительной степени развивалась под влиянием творчества Сенеки. Так, в XVI веке творчество Сенеки было уже достаточно полно переведено, в то время как трагедии Софокла и Еврипида были переведены чрезвычайно мало и непрофессионально Первые переводы Сенеки появляются во Франции в XIV веке. Трагедии латинского драматурга отличались явно выраженной «литературностью» по сравнению с древнегреческими шедеврами. Они крайне недраматичны, ибо все движения и жесты персонажей в них описываются, делая совершенно излишним их дополнение актерской игрой 4. Благодаря декламационному стилю изложения, гармоничной форме трагедий, строгому соблюдению правила «трех единств» трагедии Сенеки были чрезвычайно популярны в эпоху Возрождения и в значительной мере определили пути развития ренессансной трагедии .
Уже в XVI в., одновременно с возникновением театра в современном смысле этого слова, во Франции формируется традиция латинизации древнегреческих трагедий143. В это время делаются первые попытки перевода Софокла на французский язык, а также появляются первые оригинальные трагедии в духе подражания античным образцам; при этом авторы все же более вдохновляются творчеством Сенеки, чем самого Софокла. В ряду первых интерпретаторов древнегреческих сюжетов выделяются Лазар де Баиф (перевел на французский язык «Электру» Софокла, 1537 и «Гекубу» Еврипида, 1544) и Антуан де Баиф (1532-1589) (перевел «Антигону» Софокла).
Основное отличие в подходах к переводу между переводчиками XVI и XVII веков связано не столько с изменением отношения к античной культуре, сколько со значительной эволюцией самого французского языка. Свобода, провозглашаемая des belles infideles, вслед за Дю Белле и Амио, отразилась и на манере перевода. Переводы зачастую оказывались имитациями либо пародиями на оригинал Основной заботой художников слова становится качество стиля, стремление к ясности, элегантности, краткости изложения. Переводчики зачастую критикуют тех авторов, которых переводят; практикуется «офранцуживание» античного оригинала. Так, герои античности наряжаются по последней французской моде, ситуации переносятся в современную переводчику Францию. В целом, можно назвать подход интерпретатора XVII в. к оригиналу критическим, оригинал осмысливается и передается на французском языке с точки зрения принимающей стороны, в виду превосходства французского языка и французской культуры. Расширяющаяся коммерциализация переводческой деятельности с особой четкостью смещает акценты от того «как переводить» (чтобы передать смысл источника), к постановке задачи «как переводить, чтобы понравиться читателю» .
Реакция против такой адаптирующей манеры перевода возникает уже к середине XVII в. Некоторые из переводчиков призывают к более строгой, точной передаче оригинала. Но эта, маргинальная, тенденция все-таки гораздо более явно проявляется при переводах религиозной литературы, чем произведений светских. На формирование же классицистической эстетики все же значительно больше повлияла эстетика des belles infideles.
Манера переводов античных трагедий в XVII - XVIII веках определялась, в первую очередь, чертами самого классицистического театра. Во-первых, значительную роль в нем играла интрига. Поэтому, переводя, скажем, Софокла или Шекспира, недостающие элементы вводились автором перевода, который добавлял новые сюжетные линии, новые тайны, интригующие зрителя146. Если постановка античной трагедии заранее предполагала, что зритель абсолютно осведомлен о сюжете трагедии, происходящее на сцене не было для него тайной, то французскому зрителю требовалась загадка в самом сюжете, возможность с интересом следить за развитием событий на сцене.
Кроме того, в пьесах французского театра одним из самых главных двигателей интриги всегда была любовь, что не характерно для древнегреческой трагедии.
Поэтому французские переводчики зачастую не только акцентировали внимание на любви друг к другу персонажей переводимой пьесы (Антигона и Гемон, например), но и добавляли новые персонажи, новые любовные темы 147-148.
Психологизация персонажей в пьесе
Уже Еврипид, как известно, значительно психологизировал трагедию по сравнению с трагедиями Эсхила и Софокла. В драматургии Еврипида гораздо менее ощущается божественное присутствие, напротив, в центре внимания оказывается герой, его переживания, его «личное», в противоположность «общественному», начало. По мнению Жана- Пьера Вернана, такое изменение стало упадком жанра античной трагедии. То, что было движущей силой жанра у Эсхила и даже у Софокла, то постоянное напряжение, та серьезность в трактовке индивидуума со всеми его особенностями, с точки зрения его личного и социального статуса, а уже затем, где-то на заднем плане, богов, - все это у Еврипида было заменено на то, каким образом персонажи сталкиваются друг с другом на сцене Конфликт личного и общественного, согласно Вернану, выступает у Еврипида гораздо более явно, нежели у его предшественников, и трагическое сменяется патетическим эмоциями, потрясениями, чувствительностью.
Известно, что по сравнению с современной реалистической драмой, в которой язык каждого персонажа наделен определенным комплексом черт, призванных создать цельный психологически обоснованный характер, стиль и словарный состав речи всех персонажей античной трагедии практически одинаковы. Большинство современных исследователей античных авторов сходятся во мнении, что изображение индивидуальности героя, психологическое обоснование трагической ситуации, в которую он попадает, не было целью древних поэтов Это подтверждается и рассуждением Аристотеля в его Поэтике о превосходстве действия, фабулы трагедии над характерами.
Несмотря на наличие определенных характеристик речи героев, выделяющих их личностные особенности в драмах Софокла (например, реплики Стража в Антигоне или различие между характером Антигоны в начале пьесы и в сцене прощания героини с миром), в целом его персонажи гораздо более статичны, чем персонажи современной драмы .
В отличие от античных героев, более абстрактных, воплощающих на сцене определенное действие, идею, роль которых фактически сводится к осуществлению этого действия на сцене, персонажи современного драматурга более конкретны, психологически обозначены.
В адаптациях Кокто речь героев заметно отличается друг от друга. Так, за репликами Исмены и Антигоны прослеживается разница в их характерах.
Речь Антигоны отрывиста, порой резка, иногда даже груба, ее напористый, упрямый характер - Эдипова порода - отчетливо прорисовывается в полной горечи иронической фразе, обращенной к сестре:
Antigone- Ти те demandes : Qu y a-il He ! Creon ne donne-il pas la sepulture a I un de nos freres et ne la refuse-il pas a I autre Eteocle aura I enterrement qu il merite, mais il est defendu d ensevelir Polynice ou de le pleurer. On le laisse a cor beaux. (14)
Слова Исмены более спокойны, возвышенны, в ее речи, в отличие от простых, четких реплик Антигоны, проскальзывает некоторая доля пафоса:
Ismene- Antigone ! Antigone ! notre pauvre pere est mort dans la boue apres s etre creve les yeux pour expier ses crimes ; notre mere, qui etais sa mere, s est pendu; nos freres se sont entr egorgis. Imagine, nous deux, toutes seules, la fin sinistre qui nous attend si nous bravons nos maitres .(15)
В ответ на жалобы сестры короткие, точно незавершенные, фразы Антигоны снова создают впечатление об ее импульсном характере, о непреклонности, не терпящей компромиссов.
Antigone- Je ne te pousse pas. Si tu m aidais, tu m aiderais a contrecoeur. Agis comme bon te semble. Pour moi, j enterrerai. II me sera bon de mourir ensuite...(15)
Если Антигона Софокла, у которой Креон спрашивает, виновна ли она в нарушении запрета, отвечает: Je I avoue et n ai garde, certes, de le nier (99) 326, то героиня Кокто демонстративно бросает вызов противнику: Je I ai fait. Je le declare. (25)
Еще один пример. Антигона, защищая свой поступок перед лицом Креона, говоря о том, что должна в первую очередь подчиняться велению богов, а не людей, произносит реплику, которую не могла произнести древнегреческая героиня: Je mourrai jeune; tant mieux. Le malheur etait de laisser топ frere sans tombe. Le reste m est egal (26). Последняя фраза - все остальное мне безразлично - характеризует французскую Антигону как находящуюся к состоянии крайнего психологического напряжения, для которой в этот момент не существует ничего кроме ее цели. Слова героини Софокла более просты, спокойны, она говорит о том, что страдала бы, если бы не похоронила брата, а необходимость умереть для нее страданием не будет (100).
Постепенно характер Антигоны Кокто приобретает черты уставшей от жизни, разочарованной не по годам девушки: II у a longtemps que топ coeur est mort (32), говорит она Йемене.
Дифференциация характеров персонажей достигается автором с помощью пунктуации. Так, Антигона, ведомая стражами на смерть, произносит: Je t ai aussi ferme les уеих Polynice - et -j ai - eu - raison (45). Настойчивость, абсолютная уверенность в своей правоте, даже несколько показная демонстрация этой правоты противостоят неуверенным размышлениям Креона, сомневающегося в правильности своего решения о казни Антигоны:
Le Choeur.- Mais depecheoi done; la vengeance des dieux galope.
Creon.il le faut... heu...c est dur...tres dur...(50)
Душевное смятение Эвридики, узнавшей о смерти сына, также передается многоточием: C est-a-dire...que...j ai...unреи entendu (52).
Психологизация персонажей в драме Кокто, по мнению исследовательницы Ирены Филиповски, выражается в том, что все чувствуют себя виновными из-за роковой наследственности, Антигона говорит о комплексе инцеста, который на нее давит327. Нам кажется, однако, что комплекс вины не является доминирующим мотивом драмы Кокто. Красной нитью через пьесу проходит образ беспредельной пропасти {trou sans fond), к которой стремительно несется действие, в которой оказываются герои трагедии.
Образ пропасти появляется в самые напряженные мгновения пьесы, в финальные моменты в судьбе протагонистов, Антигоны и Креона. Антигона, идущая на смерть, восклицает: Ah! Thebes! Ah! Ma ville aux belles voitures! Voyez comme on me pousse en riant vers un trou sans пот. Sans пот. Car je ne vais ni chez les hommes, ni chez les ombres, ni chez les vivants, ni chez les morts (43). Креон, перед тем как узнать о смерти жены, взывает: J ai peur. Tuez-moi. Tuez-moi vite. Je tombe dans un trou sans fond (55). Наконец, как мы уже видели, именно из дыры (trou) в центре декорации произносит свои реплики невидимый хор. Таким образом, эта трагическая пропасть отнюдь не обозначена явно как пропасть инцеста, а скорее как более абстрактная, безымянная пропасть.
В исследовании Гринвуда , посвященном сравнительному анализу древнегреческой трагедии и современной драмы, автор, разбирая различные типы реплик персонажей, указывает на одну интересную особенность античной трагедии: кроме длинных песен хора, реплик корифея, монологов отдельных героев в трагедии есть также диалоги, состоящие из реплик длиною ровно в одну строку, не больше и не меньше.
Один из таких диалогов - сцена первого разговора Антигоны и Креона в «Антигоне» Софокла. Современные переводчики древнегреческих трагедий обычно сглаживают эту особенность, немного сокращая или увеличивая строки. Интересно решена сцена в пьесе Жана Кокто. Перед ее началом есть одна из немногих ремарок автора: Антигона и Креон разговаривают, стоя совсем рядом друг к другу; их лица соприкасаются !!) Далее следует очень экспрессивный диалог героев, который воспринимается как еще более стремительный, чем предыдущее действие пьесы. Креон и Антигона буквально перебрасываются фразами, отчего возникает ощущение непрерывно несущегося потока речи. Таким образом, Кокто достигает единства в интонировании сцены не за счет равных двенадцатисложных реплик персонажей (так вслед за Софоклом перевел диалог на французский язык Поль Мазон330), а посредством объединения их в единое произносимое целое.
Реплики героев французского драматурга достаточно точно следуют за репликами персонажей Софокла, однако они значительно сокращены автором, в особенности песни хора. Поскольку Кокто тщательно придерживается фабулы античной трагедии, то часто можно непосредственно сравнивать реплики героев современных и героев древнегреческой трагедии. Приведем несколько таких сравнений.
Предметы и пророчества. Сюрреалистические идеи в пьесе
При исследовании «Орфея» невозможно избежать аллюзии на сюрреалистическую реальность эпохи первой половины двадцатых годов, хотя бы потому, что, по утверждению некоторых исследователей, в лице протагониста своей драмы Орфея Кокто вывел на сцену сюрреалистического поэта.
В дневнике Жана Гюго за 1923 г. описываются спиритические сеансы, которыми увлекались в то время Кокто, Радиге, Жорж Орик, Жан и Валентина Гюго... В маленькой розовой комнате, апрельскими вечерами, проходили сеансы спиритизма вокруг круглого черного столика, разрисованного цветами Один удар некоей «мистической» силы по столу означал букву «А», два удара - «В» и т.д. Некоторые из таких диалогов «духа» с садящимися по очереди за столик участниками сеанса подробно описал Жан Тюто409. Абсурдные ответы, маленькие четверостишья, также лишенные смысла (depourvu de sens, по словам Гюго), рифма из ничего не значащих слов - или не сочетающихся друг с другом по смыслу - но все же со скрытым контекстом, который иногда удавалось расшифровать присутствующим, все это очень напоминает приемы создания поэтического произведения согласно канонам сюрреализма.
По утверждению Гюго, роль духа, отвечающего участникам сеансов, исполнял сам Кокто. Так это или нет, невозможно сказать абсолютно точно. Однако можно утверждать со всей определенностью, что эти спиритические сеансы послужили прообразом первой сцены «Орфея»410.
Герой сидит за столом, ожидая очередной буквы, которую ударами копыта отсчитывает Лошадь. От Лошади он ожидает настоящей поэзии, за одну ее фразу он отдал бы все свое собрание сочинений. Как и сюрреалисты, он хочет бросить бомбу в застывшую массу обыденности в искусстве: Нужно бросить бомбу. Нужно добиться скандала. Нужна одна из тех бурь, что освежают воздух. Мы задыхаемся. Мы уже не дышим (II faut jeter ипе ЪотЪе. II faut obtenir ип scandale. II faut ип de ces or ages qui rafraichissent I air. On etouffe. On ne respire plus) (1052).
Как и сюрреалисты, уделявшие огромное внимание автоматическому письму, выуживая поэтические фразы из подсознательного, Орфей пытается с помощью Лошади, ныряльщицы в его собственную ночь, выловить самое поэтическое из всех своих творений, более истинное, чем все его собрание сочинений. Декламация героя о том, как он творит поэзию, напоминает фразы из сюрреалистического манифеста: Я открываю мир. Я выворачиваю кожу- наизнанку. Я преследую неизвестное (Je decouvre ип monde. Je retourne mapeau. Je traque I inconnu) (1051).
И самое удивительное в том, что, несмотря на всю кажущуюся абсурдность такой «лошадиной» поэзии, ее единственная фраза, казавшаяся поэту в начале пьесы бессмысленной, оказалась пророческой. Но поэт в ее интерпретации идет по ложному пути (сюрреалистическому): он переставляет слова, смакует то, как они сочетаются, а фраза эта на самом деле имеет очень простой и прямой смысл. Мадам Эвридика вернется из ада (1051). Она действительно вернется оттуда.
Знаки невидимого мира иногда проступают на поверхности сознательного человеческого бытия, как острова на поверхности моря, и обыденные предметы оказываются путем в запредельное, помогают герою проникнуть в тайну иного мира. Чем более искренно следует поэт своей внутренней линии, тем глубже погружается он в зыбучие пески иного мира. Мы по шею погружены в сверхъестественное. Мы играем в прятки с богами (1051), - объясняет Орфей Эвридике.
Так, перчатки Смерти, один из магических предметов в «Орфее», позволяют, точно ключ, проникать из одного мира в иной через дверь-зеркало. Именно благодаря забытым на столе гостиной перчаткам герой может оказать услугу самой Смерти, вернув их ей и получив в награду жену. Резиновые перчатки, с одной стороны, вписываются в «медицинский» контекст сцены (один из ее основных мотивов - мотив хирургической операции), а с другой, является воплощением яркого метафорического образа эстетики Кокто.
Этот образ драматург упоминает в письме Жаку Маритену, написанном в то же лето, что и пьеса, как уже давно известный собеседнику: Небо, чтобы дотронуться до нас не запачкавшись, иногда надевает перчатки. Реймон Радиге был небесной перчаткой. Его форма, точно перчатка, подходила к небу. Когда небо вынимает свою руку, это смерть. Принимать эту смерть за настоящую значит смешивать пустую перчатку с отрезанной рукой411. То, что небесные перчатки из этого отрывка имеют непосредственное отношение к резиновым перчаткам Смерти из «Орфея», становится еще более очевидным из признания Кокто в том, что смерть Радиге оперировала (его) без хлороформа412, так же как безо всякого хлороформа оперирует Эвридику Смерть.
Интересно, что эта метафора воплощается на сцене материально: Когда небо вынимает свою руку (из перчатки. - CJ\.), это смерть, - и как только Смерть в пьесе снимает перчатки, - Эвридика мертва. Стремление Кокто к передаче реальности точным, живущим словом находит в этом небольшом эпизоде яркое воплощение.
Как и в «Адской машине», здесь появляется настоящая машина богов, и здесь это не отвлеченная идея, так или иначе проявляющая себя в репликах персонажей, а настоящая электрическая машина, требующая настройки и дополнительных приборов (бобины и хронометра, например). Это не абстрактная машина, она служит определенной цели: качественному изменению пространства, или мгновенному перемещению в пространстве. Азраэль так объясняет новичку Рафаэлю ее действие: Смерть, чтобы соприкоснуться с живыми, проходит через субстанцию, которая деформирует и перемещает их. Наши аппараты позволяют ей достигать живых там, где она их видит, избегая вычислений и значительных трат времени (La Mort, pour toucher les choses de la vie, traverse un element qui les deforme et les deplace. Nos appareils lui permettent de les toucher ой elle les voit, ce qui evite des calculs et une perte de temps considerable) (1063).
Интересно отметить, что электричество не было для поэта абстрактной идеей, но идеей, непосредственно связанной с поэтическим восприятием мира. Так, в «Профессиональной тайне» Кокто говорит о том, что поэт погружен в некую субстанцию, аналогичную электричеству, и только поэт способен, словно проводник, заставить энергию этой субстанции воплотиться в произведение искусства413.
Основная метафора, используемая автором в сцене смерти Эвридики, где появляется электрическая машина, - метафора хирургической операции. Во-первых, к мотиву операции отсылает обмундирование персонажей: помощники Смерти в униформе хирургов, с резиновыми перчатками и в масках, а сама Смерть, хотя и одетая в бальное платье, надевает на него сверху белый халат. В черных чемоданах они принесли инструменты. Смерть требует от подчиненных порядка и чистоты как на корабле (1061), а перед началом операции моет руки.
Метафору медицинской операции затем продолжает Орфей, побывавший в стране Смерти. Он рассказывает Эртбизу и Эвридике, что у него осталось такое ощущение, будто он подвергся некоей операции, и кто-то вроде хирурга служил посредником между ним и невидимой дамой (1071).
Таким образом, электрическая машина Смерти становится еще и хирургическим инструментом, с помощью которого оперируют Эвридику, преобразуют ее в новую Эвридику, обитающую отныне в потустороннем мире.
Зеркало в пьесе также является одним из магических предметов, материальным воплощением концепции поэта-медиума. Оно отражает внутреннюю глубину поэта, в которую он пристально всматривается, пытается проникнуть. Путешествие Орфея по ту сторону зеркала - метафора поэтического творчества. Целью этого путешествия становится поиск своей внутренней линии, возвращение к самому себе - через все разнообразие встречаемых на пути пейзажей. В фильмах «Кровь поэта» и «Орфей» эта роль зеркала наиболее очевидна: на глазах у зрителя поэт проникает по ту сторону зеркала и обнаруживает за этой гранью целый мир414. Зеркало в «Орле о двух головах» также помогает Станисласу обрести свою истинную ипостась, обнаружить свое сходство с портретом умершего царя. Именно из этого мира, мира запредельного, с одной стороны, и одновременно внутреннего мира Поэта, рождаются его творения. На самом деле, мое творчество настолько же похоже на меня, как то лицо, что вы видите сейчас перед вами, - сказал как-то поэт своему интервьюеру415.
Комическое начало в пьесе
Первая четверть XX века, особенно двадцатые годы, стали эпохой возрождения комического театра во Франции. В это время театр не только обращается к классической комедии (постановки Мольера Копо, например), но и к современной комической драме. Начало двадцатых годов стало плодотворным периодом для жанра комедии и фарса: фарс для марионеток, смесь фарса и феериит «Медведь и луна» Клоделя (1919), «Дело Атлетов» Дюамеля (1920), «Фарс снятого Повешенного» Геона (1920), «Дардамелла» Эмиля Мазо (1922), «Месса пропета» Марселя Ашара (1923), крестьянский фарс «Скверная история» Мартена дю Гара (1922-1924) - вот неполный перечень драматургических произведений комического и фарсового жанров, созданных в начале двадцатых490. Мода на фарс со всей очевидностью являет себя в это время и в очень популярных тогда фильмах Чаплина, в его почти марионеточном передвижении по экрану, в его клоунской мимике и жестах.
Именно в этом, говорит театральный критик в 1922 г., - мы видим обновление театра. Эти парады, эти чрезмерные фарсы, эти символические комедии с грубыми ракурсами, этот естественный примитивизм, - все это действует чрезвычайно освежающе .
Комическое, пародийное начала лежат в основе всего творчества Кокто, начиная с карикатур 10х годов, ранних театральных опытов, «Потомака» (1913) -истории о придуманных и нарисованных самим автором необычных человечках, вплоть до его последних фильмов.
В связи с пародийным началом в театре Кокто интересно упомянуть о романе «Самозванец Тома» (1922), основная сюжетная линия которого построена на истории «псевдогероя» Тома, обманным путем проникнувшего на сцену военных действий. Как отмечали многие исследователи492, ключевой образ романа - театр войны, где все играют некую мрачную комедию, а военные пейзажи весьма похожи на театральные декорации. В «Самозванце Тома», как мы увидим это и в «Адской машине», автор намеренно сталкивает трагическое и комическое. Так, в романе появляется полковник со странным именем Жокаст (Jocaste - Иокаста), гротескный облик которого контрастирует с его античным именем - и с реальностью кровавой бойни.
О фарсовых элементах в театре Кокто критика неоднократно упоминала в связи с его ранними постановками («Зазывалы», «Новобрачные с Эйфелевой башни», «Антигона»), однако комическое в драматургии Кокто середины 20х-50х годов остается практически неисследованной областью. В отличие от ранних драматургических опытов, где намерение автора рассмешить зрителя, пародируя обыденные ситуации, лежит на, поверхности, в более поздних произведениях комическое, не заметное на первый взгляд, подспудно всегда присутствует на заднем плане, на самом деле оставаясь стержнем пьесы .
Для Кокто, - говорит Франсис Рамирес, - вакуум смешного под ногами актера не случайный трюк, но является частью его концепции спектакля в целом .
«Адская машина», несомненно, является наиболее благодатной почвой для исследования комического, поскольку подспудно фарсовый характер интерпретации вступает здесь в разительное противоречие с трагичностью самого сюжета.
Интересно, что сам драматург на вопрос Андре Френьо о том, была ли «Адская машина» задумана как трагедия (сотте ипе grande tragedie), сразу же отвечает: Нет, совсем нет, она создавалась постепенно4 5. Кокто изначально предполагал написать фарсовую сценку «Сфинкс» для Бати и Жамуа, которую впоследствии дополнил еще тремя действиями, и первоначальная жанровая направленность этой сцены оказала значительное влияние на всю драму в целом.
Устами своих героев Кокто прямо указывает на роль фарса в его пьесе: Эдип, находясь на финишной прямой своей трагедии, называет разворачивающиеся события фарсом: Важно ее (Иокасту. - С.Д.) спросить, чтобы ничто не осталось в тени, чтобы этот дурной фарс закончился (II est capital que je I interroge, que rien ne reste dans Vombre, que cette mauvaise farce prenne fin) (129). Первоначальная задумка Кокто о создании грубого фарса (см. выше) не была реализована в «Адской машине», однако иронические, пародийные, комические элементы составляю! самую основу драмы и позволяют выявить сущность драматургического метода Кокто, состоящего в создании контрастного противостояния и взаимодополнения трагедии и ее иронического обыгрывания, обычного предмета и его магического предназначения, театрального персонажа и осознаваемой им самим роли.
При этом обратной стороной медали фарса, бурлеска всегда оказывается трагическое. Как за смехом Чаплина сквозят слезы истинно трагического героя, как театр эпохи между двумя войнами зачастую прибегает к горькому смеху, другая сторона которого - тоска496, так и фарсовый характер героев «Адской машины» Кокто, как мы увидим ниже, зачастую, словно прозрение, оборачивается своей трагической стороной. Поэзия, - сказал Кокто еще в «Профессиональной тайне» (1921) - совершенно не мешает живости, дурачествам, розыгрышам, шуткам, безумному смеху, который у поэтов соседствует с самой невероятной печалью .
1. Герой - трагический или...?
Адаптация Кокто трагедии Софокла «Царь Эдип» как мы уже видели выше, хотя и значительно модернизирует образец, оставляя место для собственной мифологии французского драматурга, все же в целом написана достаточно строгим классическим языком и не предполагает прочтения ее как высмеивающего фарса.
Тем не менее, следуя идее Стравинского о создании «сухого», латинского варианта трагедии при создании оратории (1925-1927), Кокто изменяет пьесу на свой лад при постановке пьесы на французском языке в 1937 г. Если не в качестве драматурга, то как театральный режиссер он добавляет в спектакль небольшие нюансы комического. Так, выступающий в роли хора актер оказывается практически нагим на сцене, поскольку его костюм состоит из сильно стягивающих его тело эластичных бинтов. По свидетельствам Роже Ланна и Жана Маре, игравших роль хора, актер, оказавшийся перед шушукающимся зрительным залом на постаменте более нагим, чем если бы на нем не было ничего, вынужден выдерживать настоящую битву за то, чтобы пьеса не была проиграна: в трагедии нельзя допустить открытого смеха зрителя .
Точно так же в постановке «Антигоны» 1922 г., как мы показали на примере свидетельств Андре Жида, элементы фарса были вкраплены Кокто- режиссером в достаточно строгий текст пьесы Кокто- драматурга.
В противоположность этим ранним пьесам, комическое в «Орфее» и «Адской машине» в первую очередь занимает вербальный пласт спектакля, и лишь затем -пластические уровни постановки. Так, в «Орфее» введение в реплики Эртбиза таких «смешных» для публики слов как каучуковые перчатки заставило Кокто, сыгравшего роль Эртбиза, изобретать различные предосторожности, чтобы зал не рассмеялся. По признанию самого поэта, это ему удавалось отнюдь не всегда .
Из всех рассматриваемых произведений комическое начало в «Адской машине» занимает самое прочное место. На фоне древнего сюжета об Эдипе, уже переложенного Кокто в сжатой версии трагедии, комическое в «Адской машине» задает тон, является главным героем пьесы, преобразует античную трагедию в трагикомедию в духе века.
Хорошо, когда герой становится немного смешным (II est Ъоп qu un heros se rende un реи ridicule) (82), - фраза, сказанная Сфинкс об Эдипе, могла бы быть в некотором роде девизом «Адской машины». Словно следуя этим словам, драматург исподволь подсмеивается над трагическими героями и над их роком.
Эдип
Первое, что подвергает автор своему ироническому взгляду, - это сам протагонист пьесы, Эдип. Совсем еще молодой, любопытный, слишком тщеславный юноша, - Любопытство и амбиции поглощают его (36) - Эдип Кокто становится полной противоположностью Эдипа в знаменитой интерпретации Муне-Сюлли, убеленного сединами старца. Драматург постоянно настаивает на молодости своего героя, подчеркивая его возраст - всего лишь девятнадцать лет.