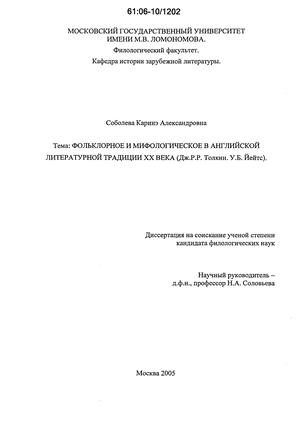Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Теории мифа от античности до 20 века. Мифологизм в западноевропейской литературе. Мифологизм в литературе
Великобритании 20 века 13
Мифологизм в литературе и культуре 20 века 25
ГЛАВА 2. Кельтская мифология 52
ГЛАВА 3. Мифотворчество Джона Рональда Руэла Толкина 85
Происхождение народов Средиземья 95
«Падение Нуменора» 97
«Лэ обЭаренделе» 100
«Сказание о Турине Турамбаре» 105
«Сказание о Берене и Лутиэн» 113
Религиозные мотивы в «Сильмариллионе» 124
ГЛАВА 4. Мифотворчество Уильяма Батлера Йейтса 152
Заключение 197
Библиография 201
Введение к работе
На протяжении развития человеческого общества мифология играла огромную роль. У каждого народа существовали свои мифы о сотворении мира и человека, а так же о богах и героях — поэтические, наивные, нередко невероятно причудливые. Мифология представляет собой основной способ понимания мира. Человеку с самых ранних времен приходилось осмыслять окружающий мир. Мифология выступает как наиболее ранняя форма мировосприятия, понимания человеком мира и самого себя, как первоначальная форма духовной культуры человечества. Вплоть до 18 века в Европе были наиболее распространены лишь античные мифы - греческие и римские. В первой половине 18 века в научный оборот вводятся мифы широкого круга индоевропейских народов (древних индийцев, иранцев, германцев, славян). Последующее выявление мифов народов Америки, Африки, Океании, Австралии показало, что мифология на определенной стадии исторического развития существовала практически у всех народов мира. Научный подход к изучению «мировых религий» (христианства, ислама, буддизма) показал, что и они «наполнены» мифами. Но, хотя содержание мифов у всех народов примерно одинаковое, всем им присущи и какие-то свои, индивидуальные черты и особенности.
К числу древнейших мифов относятся мифы о происхождении мира, вселенной (космогонические мифы) и человека (антропогонические мифы).
Интерес к изучению мифологии и мифотворчества не убывает и в настоящее время. Мифотворчество рассматривается как важнейшее явление в культурной истории человечества.
Феномен авторского мифопоэтического пространства принадлежит именно 20 веку, при этом возник он приблизительно в одно и то же время в разных, с точки зрения этнологии, литературах. Таким образом, мифопоэтическое пространство как явление наднационально и относится к
истории развития литературы, а не к истории народов или производительных сил.
Мифология в силу своей синкретической природы послужила исходным материалом для развития философии, литературы. Следы тесной связи с мифологическим наследием хранят и первые шаги развития науки, например древнегреческая натурфилософия, история (произведения Геродота), медицина и др.
Но и позднее, когда из мифологии окончательно выделяются такие формы общественного сознания как искусство или литература, они еще долго пользуются мифом как своим «языком», расширяя и по новому толкуя мифологические символы. Литература на протяжении своего развития широко использовала традиционные мифы в художественных целях. Мотивы античной, библейской (а на Востоке - индуистской, буддистской и др.) мифологии были арсеналом поэтической образности, источником сюжетов, своеобразным языком поэзии. В 20 веке происходит сознательное обращение некоторых направлений литературы к мифологии (Дж. Джойс, Ф. Кафка, Т. Манн, Г. Гарсия Маркес и другие), имеет место как использование различных традиционных мифов (при этом их смысл может резко меняться), так и мифотворчество, создание собственного языка поэтических символов и собственных мифологий.
Итак, научная новизна диссертации определяется тем, что творчество Дж.Р.Р. Толкина и У.Б. Йейтса рассматривается с точки зрения авторского мифотворчества.
В изучении мифологии можно выделить несколько этапов. Первый связан с возникшем в 19 веке направлением в фольклористике и литературоведении, получившим название мифологической школы. Её философская основа — эстетика Ф. В. Шеллинга и братьев А. и Ф. Шлегелей, воспринимавших мифологию как «естественную религию». Для
мифологической школы характерно представление о мифологии как о «необходимом условии и первичном материале для всякого искусства» (Шеллинг), как о «ядре, центре поэзии» (Ф. Шлегель). Мысли Шеллинга и Ф.Шлегеля о том, что возрождение национального искусства возможно лишь при условии обращения художников к мифологии, развил А. Шлегель и разработали применительно к фольклору гейдельбергские романтики (Л. Арним, К. Брентано, И. Гёррес). Окончательно мифологическая школа оформилась в трудах братьев В. и Я. Гримм («Немецкая мифология», 1835). Согласно их теории, народная поэзия имеет «божественное происхождение»; из мифа в процессе его эволюции возникли сказка, эпическая песня, легенда и другие жанры; фольклор — бессознательное и безличное творчество «народной души». Пользуясь методом сравнительного изучения, братья Гримм объясняли сходные явления в фольклоре разных народов общей для них древнейшей мифологией.
Мифологическая школа развивалась в двух основных направлениях: «этимологическом» (лингвистическая реконструкция начального смысла мифа) и «аналогическом» (сравнение сходных по содержанию мифов). Первое представлено работами Куна («Нисхождение огня и божественного напитка», 1859; «О стадиях мифообразования», 1873) и Мюллера («Опыты по сравнительной мифологии», 1856; «Чтения о науке и языке», 1862—64). Пользуясь «палеолингвистической» методикой, Кун и Мюллер стремились реконструировать древнюю мифологию, объясняя содержание мифов обожествлением явлений природы — светил («солярная теория» Мюллера) или грозы («метеорологическая теория» Куна). В России принципы «этимологического» изучения мифов оригинально разработал Ф. И. Буслаев («Исторические очерки русской народной словесности и искусства», 1861). Он возводил героев былин к мифам о возникновении рек («Дунай»), о великанах, живущих в горах («Святогор»), и т. п. Крайнее
выражение солярно-метеорологическая теория получила у Миллера («Илья Муромец и богатырство киевское», 1869). В пределах «аналогического» направления возникла «демонологическая», или «натуралистическая», теория Шварца («Происхождение мифологии», 1860) и Манхардта («Демоны ржи», 1868; «Лесные и полевые культуры», 1875—77; «Мифологические исследования», 1884), которые объясняли происхождение мифов поклонением «низшим» демоническим существам.
Мифологическая школа сыграла важную роль в развитии науки: расширила представления о мифологии, обратившись наряду с античными к мифам древних индийцев, иранцев, германцев, кельтов, славян; способствовала активному собиранию фольклора разных народов, поставила ряд важных теоретических проблем (в т. ч. проблему народности искусства); заложила основы сравнительного изучения мифологии, фольклора и литературы.
Всплеск интереса к мифологии пришёлся на 30-е годы 20 века, когда в западном литературоведении и культорологии сложилось направление ритуально-мифологической школы. Это был синтез ритуально-мифологической теории, оформившейся в начале 20 в., и аналитической психологии (особенно учения об архетипах) К. Г. Юнга.
Ритуально-мифологическая теория, представителями которой были Робертсон Смит, Дж. Фрейзер и «Кембриджская группа» (Великобритания) его последователей (Д. Харрисон, А. Б. Кук, Ф. М. Корнфорд и др.), восприняла многие идеи мифологической школы. Тем не менее, она говорила о приоритете ритуала над мифом и обосновывала исключительное значение ритуала в происхождении литературы, искусства, философии (античного театра, эпоса, философии, священной литературы Древнего Востока — в трудах «Кембриджской группы»; героического эпоса — Э. Миро, Ш. Отрана, Г. Р. Леви, Ф. Рэглана; романа, сказки — П. Сентива). Крайние формы теория обрела у Рэглана и Э.
Хаймана (США); из их работ вытекало требование рассматривать ритуально-мифологические модели не как источник поэтической фантазии, а как её структуру. Исполнению такой задачи чрезвычайно содействовала теория архетипов Юнга, принятая поэтому на вооружение представителями собственно ритуально-мифологической школы (М. Бодкин (Англия), Н. Фрай (Канада), Р. Чейз и Ф. Уотс (США) и др.).
Опора на Юнга позволила школе распространить ритуалистический подход на всю историю искусства, включая современность (на школу оказало влияние «мифологизирование» в самой литературе 20 в.: Дж. Джойс, Т. Манн, Т. Элиот, У. Б. Йейтс и др.). Ритуально-мифологическая школа ищет в произведениях не только мифологические мотивы, символы, метафоры, сознательные и бессознательные, но, прежде всего, воспроизведение определённых ритуальных схем, особенно обрядов инициации, эквивалентных, по её представлениям, психологическому архетипу смерти и нового рождения. В своих работах Фрай утверждает абсолютное единство ритуала, мифа, архетипа и возводит к ним литературные образы и жанры, разрабатывая своеобразную «литературную антропологию». Он, например, соотносит 4 фазы природного цикла, отмеченные древними ритуалами, с мифами, архетипами, обрядами, жанрами, организованными в силу метафорического отождествления или ассоциаций по аналогии (так, например, увязываются: заря, весна, мифы о рождении героя, о воскресении, дифирамбическая и рапсодическая поэзия).
Важные результаты достигнуты ритуалистическим
культуроведением и ритуально-мифологической школой в изучении литературных жанров, связанных генетически с ритуальными, мифологическими и фольклорными традициями, в анализе переосмысления древних поэтических форм и символов (рыцарский роман, античная и ренессансная драма, античная и библейская символика в
поэзии, творчество У. Шекспира, Дж. Мильтона, У. Блейка). Некоторые аналогии в подходе к изучению традиции имеются в трудах советских учёных В. Я. Проппа («Морфология сказки», 1928 г.), О. М. Фрейденберг («Поэтика сюжета и жанра»), М. М. Бахтина. Однако в отличие от них западная ритуально-мифологическая почти полностью сводит структуру литературного произведения к традиции и ищет ритуально-мифологическую основу во всех случаях. Литература и искусство растворяются, таким образом, в мифе, миф - в ритуале, литературоведение - в этнологии и психоанализе.
Несмотря на то, что творчество Дж.Р.Р. Толкина и У.Б. Йейтса является достаточно изученным, в контексте построения авторского мифологического пространства оно практически не рассматривалось. Среди русских исследователей творчества Толкина наиболее известны имена С.Л. Кошелева («Жанровая природа «Повелителя колец» Дж.Р.Р. Толкина», 1981), B.C. Муравьева («Сотворение действительности», 1982), Н. Прохоровой, В. Грушецкого («Главная книга Толкина. «Сильмариллион» - книга длинною в жизнь»), СБ. Лихачевой («Миф работы Толкина», 1993). Однако их работы посвящены преимущественно трилогии «Властелин колец». О романе «Сильмариллион» в отечественном литературоведении написано очень мало, а имеющиеся работы рассказывают в основном об отдельных его персонажах. В работах же зарубежных литературоведов, таких как Т. Шипи (Tolkien: author of the century), P. Хелмс (Tolkien and the Silmarils), Дж. Пирс (Tolkien: man and myth), M. Стэнтон (Hobbits, Elves, and Wizards), X. Карпентер (Tolkien. A Biography; Secret Gardens: The Golden Age of Children literature), В. Флигер (Splintered light: logos and language in Tolkien's world), аспекту мифотворчества Дж.Р.Р. Толкина уделено гораздо больше внимания.
Особое место в ряду этих работ занимает монография Р. Хелмса «Tolkien and the Silmarils» (1981), в которой, помимо разбора отдельных глав «Сильмариллиона», много внимания уделено анализу основных сюжетных линий и их мифологических источников. Р. Хелмс задается целью проанализировать связи «Сильмариллиона» с другими произведениями писателя. Автор монографии полагает, что, конструируя воображаемый «волшебный мир», Толкин сознательно и целенаправленно переработал множество источников, связанных с разными эпохами и народами. Так, «Лэ об Эаренделе» (1914), один из первых набросков для «Сильмариллиона», было создано им на основе легенды из «Младшей Эдды» и германской легенды об Оренделе, взятой из «Тевтонской мифологии» Якоба Гримма. Знакомство приблизительно в то же время с «Сагой о Волсунгах» обогатило писателя новыми темами. Но решающий импульс для написания сказочного эпоса, считает критик, Толкину дала первая мировая война, на фронтах которой погибли почти все близкие ему люди. Неприятие действительности, в которой стала возможна эта чудовищная по своей бессмысленности и жестокости бойня, стало одной из причин, побудивших Толкина создать свой собственный мир, мир «Сильмариллиона».
Критик стремится доказать что большинство сказочных сюжетов, которые использует Толкин и в «Сильмариллионе», и в других своих книгах, с одной стороны, традиционны и заимствованы им из тех или иных литературных источников, а с другой стороны, в какой-то степени обусловлены его личным жизненным опытом. Р. Хелмс сопоставляет конкретные факты из жизни самого писателя с соответствующими деталями в рассказываемых им повестях. Исследователь утверждает, что: «The power Tolkien gained for his tale by mastering the combination of literary
influence and personal memory served him through-out the rest of his now-growing work»1.
В последнее время творчеству У.Б. Йейтса стало уделяться так же достаточно пристальное внимание со стороны отечественных литературоведов. Но работы таких авторов как В.А. Ряполовой («Театр Аббатства: У.Б. Йейтс и Шон О'Кейси: драматическая хроника»), Г.М. Кружкова («Ностальгия обелисков. Литературные мечтания.»), А.П. Саруханян («У.Б. Йейтс и Дж. Джойс. Мифология и Мифологизм как способ осмысления мира»), Д. Хорольского посвящены в первую очередь драматургии Йейтса, в то время как о Йейтсе-мифотворце написано мало. В зарубежном литературоведении количество мифологических источников творчества Йейтса более обширно. Значение мифологии в творчестве Йейтса подчеркивается в работах Д.Дж. Хоффмана (Barbarous knowledge: myth in the poetry of Yeats), M.X. Туэнте (W.B. Yeats and Irish folklore), B. Kox (W.B. Yeats, the tragic phase: a study of the last poems), Д. Олбрайта (The myth against myth: a study of Yeats's imagination in old age), СП. Алдерсона (W.B. Yeats & the tribe of Danu: three views of Ireland's fairies), X. Блума, M.K. Фланнери (Yeats and magic: the earlier works), A.P. Гроссмана (Poetic knowledge in the early Yeats), К. Рэйн (Yeats the initiate: the essays on certain themes in the work of W.B. Yeats).
Среди данных монографий следует выделить книгу Дэниэла Олбрайта «The myth against myth: a study of Yeats's imagination in old age», в которой исследуется изображение Йейтсом человеческого сознания и тщательная проработка поэтом его собственной индивидуальности посредством поэзии. В некоторой степени, Йейтс пробовал перевести свое личное изображение непосредственно в объективный, словесный образ. Тем не менее, хотя он и включал в стихи образы своих друзей и даже посторонних людей, все они оставались лишь тенями, и Йейтс оставался
1 Helms, Randel, Tolkien and the Silmarils. London, Thames & Hudson, 1981.. P. 18-19
один на один с собственной жизнью, как с единственно удовлетворяющим его потребности мифом. Он практически не использовал в поэзии образ своей жены; друзья же Иейтса приобретали большую значимость после смерти, нежели будучи живыми - казненные ирландские революционеры Роберт Грегори, Флоренс Фарр, МакГрегор Мэтерс. Даже Мод Гонн, возлюбленная Иейтса, предстает не в человеческом облике, а как Роза Мира или как бронзовая скульптура. После «Графини Кэтлин», стихотворной драмы 1892 года, в творчестве Иейтса крайне редко встречаются богатые человеческие взаимоотношения. Его пьесы иносказательны, а язык лирики сложен и обобщен ('all men's speech').
По мнению исследователя, метод, использованный Йейтсом для описания становления своего духовного мира не имеет ничего общего с автобиографией. Простая случайность в его случае абсолютно неуместна -Йейтс испытывал стойкое неприятие искусства, как зеркального отображения окружающей действительности. Подлинной автобиографией, по мнению Олбрайта, является книга «Видение», в период написания которой поэт пытался определить место собственной личности в рамках человеческой истории. Эта книга, по замыслу Иейтса, должна была побудить западную цивилизацию написать собственную автобиографию.
Из русскоязычных работ следует упомянуть статью Саруханян А.П. «У.Б. Иейтс и Дж. Джойс. Мифология и мифологизм как способ осмысления мира», опубликованную в 1997 году в сборнике «Ирландская литература 20 века: взгляд из России». В ней исследуется творчество Иейтса и Джойса с точки зрения мифологического пространства Ирландии. Большая часть раздела о Йейтсе посвящена циклу пьес о Кухулине, одном из центральных персонажей кельтского эпоса, а также мифологическим сюжетам в некоторых стихотворениях поэта.
Целью данной работы является изучение способов использования мифологических образов и сюжетов, а так же феномена создания
собственной мифологии двумя известнейшими авторами двадцатого столетия, Джоном Рональдом Руэлом Толкиным и Уильямом Батлером Йейтсом, рассмотрение основных этапов создания Толкиным «мифологии для Англии», а именно написания романа «Сильмариллион», цикла легенд, начиная от глобального мифа о Песне Творения, обретшей видимое бытие, до жизнеописаний отдельных героев мира, называемого Арда, и создание Иейтсом его мифологической системы, основанной в первую очередь на древнеирландском фольклоре и кельтской мифологии.
Первая глава посвящена рассмотрению теорий мифа от античности до 20 века, а также мифологизма в западноевропейской литературе, в частности в литературе Великобритании 20 века.
Во второй главе рассматриваются основные мотивы и образы кельтской мифологии.
Третья глава посвящена исследованию мифотворчества Толкина на примере основных легенд романа «Сильмариллион», как космогонических, так и посвященных отдельным персонажам. Глава включает в себя несколько разделов, посвященных ключевым легендам романа, а так же рассмотрению вопроса «Толкин и христианство».
В четвертой главе исследуется творческое наследие У.Б. Йейтса: стихотворения разных периодов его творчества, драматургия, а также прозаические произведения «Кельтские сумерки» и «Видение».
В написании работы широко использовались критические сочинения как отечественных, так и зарубежных литературоведов. Кроме того, уделяется внимание информации статей периодической печати, касающихся вопросов влияния творчества Дж.Р.Р. Толкина на другие сферы искусств, такие как музыка, изобразительное искусство и кинематограф.
Великобритании 20 века
На ранних стадиях развития человеческого общества рациональность и рациональное мышление отождествлялись с мифологией. Это происходило потому, что первые научные и философские опыты осуществлялись в рамках мифологии и по ее законам. Философские и научные построения, исток которых можно усмотреть в архаических верованиях и древних культах, основывались не на эмпирических данных, а имели умозрительный характер. Так, например, Фалес усматривал первоначало мира в воде, Анаксимен - в воздухе, Пифагор - в числе, и т.д.
В стихотворной форме греческие мифы впервые были запечатлены певцами героического эпоса 8-7 вв. до н.э., то есть в то самое время, когда началось разложение родового строя. К сожалению, из написанных ими книг сохранилась лишь небольшая часть произведений, в частности «Илиада» и «Одиссея» Гомера.
Вторым этапом в развитии эпоса стал дидактический эпос 7 в. до н.э., который был посвящен выявлению генеалогии различных греческих богов и героев («Теогония» Гесиода). Лирические поэты 7-6 вв. до н.э. также занимались обработкой древних мифов, внося в них религиозно-нравственный смысл. В творчестве драматических поэтов 5 в. до н.э. (например, в. трагедиях Эсхила, Софокла, Еврипида) мифологический сюжет зачастую использовался для решения проблем, актуальных для того общества.
Наибольшей достоверностью отличаются пересказы мифов писателями эпохи эллинизма и первых веков христианства (Климент Александрийский, Арнобий, Тертуллиан), которые ставили своей целью критику языческих обрядов и верований. Обращаясь к ранним архаическим формам мифа, где описывались каннибализм, человеческие жертвоприношения, инцест, они стремились показать нелицеприятную сторону языческих мифов.
Первые толкования мифов - аллегорическое, символическое и эвгемерическое - также принадлежат древним грекам. В первую очередь аллегорическому истолкованию подверглось литературное наследие Гомера, мифы которого пользовались огромной популярностью и были признаны образцом словесного творчества.
Аллегорическое толкование мифов решалось в самом различном плане:
1. природно-космологическом (например, Эмпедокл считал, то Зевс - аллегория огня, Гера - воздуха, Гадес - земли);
2. этическом - мифы истолковывались как моральные аллегории (Плутарх, Анаксагор и др.);
3. философском - мифы интерпретировались как иллюстрации философских взглядов и концепций.
Понимание мифа как аллегории было широко распространено в эллинистическо-иудейской и раннехристианской литературе. Его придерживались стоики, неоплатоники, которые усматривали в мифах аллегорическое выражение концепции о переселении душ. К аллегорической трактовке мифов склонялись Платон, Филон Александрийский (при истолковании текстов Пятикнижия), Бокаччо («Генеалогия богов»), гуманисты.
Эвгемерические толкования возникли примерно в 3 в. до н.э. Они названы по имени Эвгемера, который считал мифологических героев обожествлением исторически существовавших правителей. Эвгемер, для которого мифы являлись своеобразными историческими памятниками, стал основоположником рационалистической трактовки, возникновение которой свидетельствовало об утрате сакрального значения мифа, о том, что миф превращается в обыкновенную историю, рассказ о далеком прошлом, а мифологическое восприятие мира безвозвратно потеряно.
Встречающееся у пифагорейцев толкование мифа в первую очередь связано с представлением его, как синтеза двух планов бытия: небесного и земного. Для них мифы были не причудливыми образами, а единственной достоверной реальностью. Они заключали в себе некое тайное знание, сокровенные смыслы бытия, природы и космоса, основы устройства потустороннего мира.
Аллегорического толкования мифа придерживался и Платон. Спектр толкования мифа у него достаточно широк - это и обычное слово, мнение, и повествование о богах и героях, о прошлом человечества, и басни Эзопа. Главной же функцией мифа Платон считал воспитательную. Именно поэтому он подвергал критике и называл вредными вымыслами все те мифы, в которых она не была выдержана (как, например, у Гомера и Гесиода).
Миф для Платона — выдумка, но в то же время и священное слово, возвещенное оракулом. Слово, которому невозможно не подчиниться, поскольку оно принимает форму закона. Миф еще и нечто обольстительное, магическое, способное убедить в чем угодно. Однако миф уступает логосу, хотя зачастую Платон отождествляет их, они дополняют и заменяют друг друга. Соединение в мифе знания и вымысла делает миф могущественным и непревзойденным по силе своего воздействия на людей, именно поэтому Платон не мог не использовать миф в своих произведениях. В основном же миф для Платона это область поэзии. Он считал, что именно с изучения мифов, а не научных фактов, следует начинать воспитание юных граждан идеального государства.
Кельтская мифология
Существуют различные гипотезы формирования кельтов как исторической общности. Согласно более ранней, предки народа пришли в Центральную Европу из Причерноморья. (В пользу их связей с Востоком говорит, в частности, форма боевых шлемов. Для народов Западной Европы характерны округлые шлемы, например, у греков, римлян, средневековых рыцарей и викингов. Оружейники же славян, иранцев, индийцев предпочитали остроконечную форму. Балтский народ пруссов, находившийся между германцами и славянами, использовал оба вида. Многие шлемы кельтов, фактически самой западной группы индоевропейцев, были остроконечными!).
Сейчас большинство исследователей склоняются к гипотезе автохтонного происхождения кельтов в районе между Средним Рейном и Средним Дунаем. Главенствующую роль играла, вероятно, родовая аристократия. В южной части Центральной Европы, в Приальпийской зоне известны погребения ее представителей с роскошными золотыми гривнами и браслетами, с колесницами в могилах, с бронзовыми сосудами. В 6 веке до н. э. орды огненно-рыжих кельтов потрясли Европу, пронесясь на своих боевых колесницах по территории современных Франции, Испании, Британии. Земли нынешней Франции стали называться по их имени Галлией (кельты, галлы, галаты - все это разные формы одного и того же этнонима). Эта страна стала сердцевиной кельтских земель и базой для новой экспансии, на этот раз на восток. «В доблестное правление Амбигата и сам он, и государство разбогатели, а Галлия стала так изобильна и плодами и людьми, что невозможно оказалось ей управлять. Поскольку население стремительно увеличивалось, Амбигат решил избавить свое царство от избытка людей. Беловезу и Сеговезу, сыновьям своей сестры, он решил назначить для обживання те места, на какие боги укажут в гаданиях ...Сеговезу достались лесистые Герцинские горы, а Белловезу... боги указали путь в Италию. Он повел за собой всех, кому не хватало места среди своего народа, выбрав таких людей из битуригов, арвернов, сеннонов, эдуев, амбарров, карнутов и аулерков.».
Избыточное население различных племен, собираясь вместе, захватывало новые земли, не порывая связей с родиной. Люди Белловеза разгромили этрусские городки в долине реки По (около 397 г. до н. э.). В историю вошел их нашумевший, но неудачный штурм Рима, эпизод с капитолийскими гусями и фраза: «Горе побежденным» (около 390 г. до н. э.). Затем война в Италии приобрела позиционный характер. Более перспективными были действия тех галлов, что выселились в Герцинские горы. Они заняли Богемию и бассейн Среднего Дуная (благодаря тому, что армия Александра Македонского действовала на Востоке). Затем, воспользовавшись ослаблением Македонии после войны диадохов, кельты уничтожили войско ее царя Птолемея Керавна и разграбили Грецию. По приглашению царя Вифинии они переправились в Малую Азию. Надо сказать, что эллинистические цари охотно нанимали кельтов на службу, ценя их специфические военные навыки (возможно, аналогичные тем, какие используются в восточных боевых искусствах). Но кельты (здесь их называли галаты) неожиданно образовали собственное государство в центре Малой Азии, организовавшись по образцу Галлии. И, наконец, примерно в этот же период, кельты заселили Ирландию.
Обладавшие развитой ремесленной технологией, кельты оказали сильное влияние на соседние «варварские» народы. Возможно, распространителями культуры Латена, однородной на обширных пространствах Западной и Центральной Европы, были группы бродячих мастеров, переходящих от одного вождя к другому. Вероятно также существование сильной сакрализации ремесла и участие в подобных группах жрецов.
Такова была кельтская цивилизация. «Во многих отношениях она теснее примыкает к новой, чем к греко-римской культуре благодаря своим парусным судам, рыцарству, церковному строю, а прежде всего своим, правда несовершенным попыткам сделать опорой государства не город, а племя и его высшее выражение - нацию.»20 Однако за структурную «перестройку» и «среднеевропейскую консолидацию» кельтам пришлось заплатить утратой боевых навыков. Да и господство жрецов, далеких от задач реальной политики, имело негативные последствия. С востока кельтов теснили дикие германские племена. На юге же все больше набирал силу Рим. В 121 г. до н. э. римляне оккупировали Южную Францию, создав провинцию Нарбонская Галлия. В это же время, два племени - кимвры и тевтоны вторглись в кельтскую Галлию из-за Рейна. Досталось и римлянам - они были побеждены в двух битвах.
Происхождение народов Средиземья
Народы Средиземья обязаны своим происхождением англосаксонским и скандинавским текстам - Эльфы, Гномы, Энты и даже Орки, хотя известным ранее словам профессор Толкин дает новую интерпретацию. Эльфы Толкина - это не малютки с крылышками, живущие в чашечке цветка, и даже не лукавые Пэки шекспировской традиции - но близкие к альвам «Старшей Эдды» Квенди, гордая раса Перворожденных, воины и мудрецы, народ Звезд. То же и касается и Гномов. Еще в «Хоббите» профессор Толкин намеренно использовал форму множественного числа, отличную от принятой в современном английском языке, однако построенную по аналогии с более архаичными формами, возникающими в древнеанглийском языке: «dwarf» - «dwarves» (а не «dwarfs»), что перекликается с историческим «dwarrows». Профессор Толкин намеренно отступает от современной грамматики и правописания, чтобы подчеркнуть различие между привычными гномами народной традиции и расой Средиземья, близкой к ним, но отнюдь не идентичной -«потомками Наугрим Древних Дней, в чьих сердцах еще пылает древнее пламя Кузнеца Ауле... чьи руки не утратили искусства работы по камню, что никому еще не удалось превзойти». А некоторые из созданий Толкина, хотя и обязаны своим именем известным эпосам, в самих эпосах аналогов не имеют. Так было, например, с Энтами, Пастырями Деревьев, в образе которых соединились три составляющие: древнеанглийское слово «ent», означающее «великан» давних времен. А само слово «Средиземье» есть не что иное, как калька с древнеанглийского «Middangeard», названия населенных людьми земель «между морями», да и в «Эдде» мир людей назывался Серединным: «Midgard».
Средиземье, по замыслу автора (что он не раз подтверждал в письмах), - это не параллельный мир и не другая планета; это наша Земля, oikoumene, обитель людей. Средиземье - это объективно реальный Мир, слово это в употреблении противопоставлено мирам воображаемым (Фейриленд) или мирам невидимым (как Рай и Ад). Кстати, мифологическая система Толкина вполне оправдывает существование концепции плоской Земли у древних: по Толкину, мир изначально был создан плоским, но, в результате гибели Нуменора, когда очертания мира изменились безвозвратно, а земли Валинора и Тол Эрессеа навсегда исчезли из этого мира и перенесены были за пределы досягаемости людей, - «все дороги сомкнулись в кольцо». Попытки провести аналогии между историей Средиземья и реальной историей наиболее четко прослеживаются в набросках к сказанию об Эриоле, обрамляющем цикл «Утраченных Сказаний».
В повествование вводится фигура слушателя-рассказчика: мореход Эриол выслушивает от обитателей эльфийского острова Тол Эрессеа ряд последовательных сказаний, воскрешающих историю народа Эльдар эпизод за эпизодом. Фигура посредника и ссылки на мифический первоисточник восходят к средневековой традиции: опора на вымышленных авторов обеспечивала тексту право на бытие.