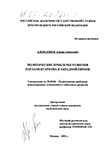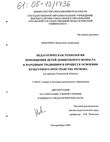Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Слово как мистерия: человек перед лицам бытия 26
Глава II. Слово как миф: миф как бытие человеческого сознания 103
Глава III. Слово как метафора: метафора как свобода бытия 217
Заключение 284
Библиография 295
- Слово как мистерия: человек перед лицам бытия
- Слово как миф: миф как бытие человеческого сознания
- Слово как метафора: метафора как свобода бытия
Введение к работе
Данная работа посвящена проблеме онтологии слова, которая исследуется на материале английской литературы от Шекспира до наших дней. Содержание диссертации составляет разработка исторического движения европейской концепции художественного слова в наиболее существенных явлениях и закономерностях этого процесса. В качестве базового предмета исследования выступает история и современное состояние концепции художественного слова в ее целостности и внутренней диалектике, в совокупности творческих достижений анализируемой в контексте английской литературы. Шекспировская эпоха рассматривается как момент становления национальной литературной традиции. Своеобразие объекта исследования состоит в его хронологической протяженности, ибо истоки восходят к античной риторической традиции, которая изучается в работе в ее основаниях. Новизна исследования во многом связана с тем, что слово понимается как художественно организованная речь в силу самостоятельной семантики самого слова. Последовательная реконструкция классической ситуации в филологии объединяет литературоведческие и лингвистические подходы: онтологическая горизонталь рассматривается в парадигме «мистерия» — «миф» — «метафора».
Язык как начальная интуиция актуализируется в риторической парадигме определенного типа культуры. Это придает риторическому слову статус окончательной ценности, что обусловлено универсальным характером языковой практики. Семантический подход к слову как к речи позволяет уточнить границы филологии и выявить ее бытийственное основание.
Современная наука единодушна в том, что «изучение культуры, ее становления и ее духовного генезиса не может быть оторвано от изучения языка, на котором выражается духовная сущность этой культуры. Язык и культура — два
неразделимых и равноправных феномена, тесно взаимосвязанных друг с другом. По отношению к культуре язык играет не только второстепенную роль производного явления или посредника, но как знаковая система, организованная по определенным правилам, является творцом культурных параметров, «штампующим устройством культуры, первостепенной моделирующей системой» (Ю. Лотман, Б. Успенский), обуславливающей наше опытное осваивание мира и задающей наши идеи. По отношению к языку культура становится второстепенной знаковой системой, построенной на определенном природном языке и воспроизводящей в себе структурную схему языка. Влияние языка на культуру обосновывается ментальной концепцией языка, которая полагает, что формулировка идей тесно связана с имманентной структурой определенного языка. Неразделимость мысли и языка впервые была сформулирована В. фон Гумбольдтом, который доказывал тождественность языка и духа, а также субъективность языка: «слово образуется из субъективного восприятия и есть отпечаток не самого предмета, а его отражения в душе»', слово выражает, по отношению к познаваемому, внешнему миру, субъективное начало, и это делает его подобным поэтическому творчеству: оба — и слово и творчество — берут свое начало в глубине индивидуальности, т. е. в душе».1
Античная риторика создала европейскую литературу как систему, имеющую собственное теоретическое значение. С эпохи возникновения античной риторики литература перестала осознаваться как ответ на запрос независимо от того, лежит ли в его основании социальная, идеологическая или пропедевтическая интенция, но стала восприниматься как художественное постижение онтологических вопросов. В силу этого художественность понимается как непосредственное теоретическое отношение к вещам.
Основу базового подхода к слову как риторической парадигме смыслов составляет «Поэтика» Аристотеля, где греческий философ предпринял попытку развернуть онтологию мысли в риторику слова через категорию жанра. Опыт жанрового постижения бытийственных оснований слова лег в основу европей-
1 Даньино А. Миф и слово. // В лабиринтах культуры. / Л. Морева — СПб., 1997. — С. 275.
ского рационализма, доказав свою продуктивность как метафоры. Жанровое мышление и сегодня главенствует в подходе к историческому слову sui generis.
В диссертации предпринята попытка реконструкции внежанровой— с точки зрения традиционного подхода— природы риторического слова. Как язык культуры, в трактате Аристотеля оно получило понятийное оформление как сложившееся явление. В диссертации впервые предлагается рассматривать «Поэтику» Аристотеля не в виде раннего трактата по эстетике, но как сакральный текст: Аристотель исследует не трагедию, но возможности слова как такового. В свете этого катарсис теряет свой смысл как проблема очищения и предстает проблемой перехода жизни в смерть и смерти в жизнь. До некоторой степени можно допустить, что катарсис есть проблема последнего очищения.
Поскольку «Поэтика» Аристотеля служит первым текстом европейской парадигмы культурного слова (как художественного слова), подобный подход предполагает, что греческий текст является последним текстом предшествующей — дориторической, в классическом смысле этого слова — традиции. Следует отметить, что «при изучении сакральной лексики сфера исследования должна расширится до такого вида этимологического анализа— названного В.Н. Топоровым «мифопоэтическим» или «онтологическим» в противовес «научному» анализу сравнительно-исторического языкознания, — который должен рассматривать не только семантические и грамматические связи между производными от одного корня, но и звуковые связи между словами разных корней, указывающими на одинаковый культурный контекст».2
Таким образом, можно предположить, что в тексте «Поэтики» произошло «снятие» основных парадигм некоей несохранившейся дискурсивности. Построение новой онтологии в опыте разрыва языка, понимаемого как самоопределение человека, и онтологического чувства жизни дает основания пересмотреть некие исходные постулаты европейской риторической системы. Обоснованием подобного подхода служит определенная тождественность пограничных ситуаций смены исторических парадигм слова. Современное состояние
2 Даньино А. Миф и слово... — С. 280.
языка свидетельствует о том, что опыт «Поэтики» Аристотеля как текста, репрезентирующего предельную (в смысле античного xeXoq) ситуацию, может быть актуализован современной культурой.
Проекция должной быть речи, как ее сформулировала античная риторика, оформила к концу XX века представление о слове как универсуме культурных смыслов. На смену представлению о речевом воздействии цивилизации как о насилии пришло понимание риторического слова как открытой перспективы. Преодолевая отрыв чувства от предметности, нормативное мышление с его отстранением слова от вещи перестало быть предписательным.
Дискуссия о сломе риторической системы на исходе XVIII века привела к признанию того, что слово было, есть и будет риторично.3 Истоки радикального пересмотра оснований породили новую риторику как форму модернистской рефлексии. Восстановление семантического потенциала исходной парадигмы способствовало «снятию» социального (нормирующего) концепта языка и переходу к представлению о языке как совокупности смыслов. Развитие этой онтологической перспективы сделало возможным данное исследование, которое представляет собой попытку соположить первые и последние основания европейской риторики. В этом ключе в работе представлено исследование трех пространств существования шекспировской метафоры в литературе XX века.
Проблема освоения чужого слова получила разработку в теории культурных кодов как «перспективе множества цитат», взывающих к уже написанному, иными словами, к Книге (Книге культуры, жизни, жизни как культуры) и превращающих текст в «каталог» этой Книги.4 Независимо от того, рассматривается вопрос в рамках взаимоотношений фенотекста и генотекста или текста и произведения, он связан с двойственной природой результата художественного творчества, одновременно историчного и анахроничного. Разработка этого положения привела французских постструктуралистов во главе с Р. Бартом к от-
3 См.: Макуренкова С.А. Ив Бонфуа. // Французская литература 1945—1990. — М., 1995. — Сс. 494—502.
4 Barthes R. C.Z. — Р., 1970. — Pp. 27-28. // Рус. пер. по: Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. — М,
1989. —С. 39.
рицанию идеи «множества смыслов» во имя теории «множественного смысла»5 произведения как сцепления бесконечных осознанных и неосознанных взаимодействий в виде реминисценций, литературных и внелитературных заимствований, влияний, всевозможных источников, скрытых цитат.
Проблема интертекстуальности, поставленная в онтологическом ключе, предполагает, что произведение искусства обречено быть «памятью» культуры, в котором совмещены ее прошлое, настоящее и будущее. Конкретная постановка вопроса на материале шекспировских образов позволяет сосредоточиться на принципах взаимодействия различных образных пластов: изучение функциональной роли шекспировских аллюзии дает возможность проследить ряд закономерностей построения семантических ассоциаций, характерных для современной литературы в целом.
Традиция культуры как восхождения обновленного слова подверглась в искусстве XX столетия глубокому рефлексирующему анализу. Выражением этого процесса стал особый статус заимствованного слова, выступившего в качестве художественного приема.
Типологически риторическое слово в постмодернистском дискурсе рассматривается как освобожденное от жанровой принадлежности. Восстановление полноты как целокупности выступает единственным способом обретения им своих оснований. Это явление изучается в диссертации как онтологическая парадигма слова, которая может быть представлена триадой мистерия — миф — метафора. Данная концепция представлена двояко: с одной стороны, в этом аспекте анализируется собственно творчество Шекспира, с другой стороны, шекспировские аллюзии в английской литературе XX в. исследуются в трех пространствах — в пространстве персонажа, в пространстве автора и в пространстве произведения — соответственно соотнесенных с метафорой — мифом — мистерией.
В отличие от традиционного представления, мистерия в этом контексте рассматривается не просто как способ посвящения в сокровенное знание, но как
5 См.: Косиков Г. Ролан Барт— семиолог, литературовед. // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика...—С. 12.
способ формирования человека как такового, как способ раскрытия образа человека в человеке. В виде древнейшей формы мифоритуала, мистерия в своей обрядовости несет память о двух магических моментах онтогенеза — смерти и рождении. В парадигме риторического сознания европейской культуры они оказались поименованы мимесисом и катарсисом.
Наследуя достижениям европейской мифологической школы XX века, миф, в свою очередь, представлен в работе не просто как организация мышления, но как особая функция речи. Миф понимается как универсальное средство вместить целое как плерому, будучи наикратчайшим расстоянием между так называемой субъективной и объективной реальностью. Мистерия как таинство вечного обновления разворачивается в мир мифом, который является единственным способом вместить полноту возможного, что делает миф телом мистерии — иными словами, овеществляет ее. Мистерия оказывается трансцендентна мифу в той же мере, насколько она имманентна ему.
На плане рефлексии миф выступает первичным основанием культуры, определяя парадигму ее проявленных форм. Соотнесенный с пространством как ее первичным символом, миф трансцендируется в вечности, понимаемой в виде таинства мистерии. Совмещенные по подобию с пространством и временем, миф и мистерия перестают восприниматься как историческое прошлое и обретают непреходящую актуальность настоящего.
Выступая как функция речи, миф в познавательном аспекте становится метафорой. Природа метафоры уклончива и неуловима. Любые попытки свести ее к неким началам традиционно заканчиваются эмпирическим перечислением наиболее выразительных примеров. В диссертации метафора не рассматривается в традиционном ключе как средство выразительности речи, но исследуется как эвристическое средство познания.
Вопрос о природе метафоры традиционно связан с трансформацией так называемого буквального смысла и восходит к природе образного языка как такого. Понимание процесса наречения именем как мифотворчества снимает вопрос о так называемом буквальном смысле и приводит к сознанию того, что мышле-
ниє как таковое метафорично. Природа метафоры возводится в работе к основаниям мифа и растворяется в глубинах мистерии, что объясняет исходную невозможность дать ее исчерпывающее определение. Метафора понимается как способ преодоления «отдельности» и возвращения к первичной полноте целостности. Это составляет ее интенциональную природу и служит онтологическим основанием, по которому она соотносится с миром и входит в зиждительную триаду мистерия — миф — метафора.
Таким образом, бытийственно соотнесенное с мистерией, существование разворачивается в мир мифом, механизм актуализации которого воплощает метафора. Триада мистерия — миф — метафора описывает единство мыслительного дискурса, которое оказывается зиждительным и универсальным. Это явление рассматривается в диссертации на материале бытования шекспировских аллюзий в литературе XX века.
Соотношение риторики как ремесла мысли с поэтикой как искусством мысли способствовало переложению трех первых оснований речевого дискурса на язык вдохновения: таким образом были обозначены начала художественного слова. Риторическая триада мистерия — миф — метафора обрела коррелят в поэтике слова в виде триады целитель — пророк — поэт. Врачевание занимает главное место, удерживая равновесие пророческого и поэтического начал и сообщая целительную мощь референциальному воздействию на читателя. В пределе оно определяет полноту творческого акта, обеспечивая цельность художественного произведения.
Потеря «целительства» как живительного основания речевого дискурса составляет основу онтологической «болезни» современного слова. Его сакральная природа восходит к парадигмам мифоритуальной обрядовости. Рождаясь из жреческого культа, античная риторика несла в памяти слова этимологии исходных смыслов. Именно это предпринял попытку запечатлеть в трактате «Поэтика» Аристотель. Он соотнес сакральные основания слова как дискурса с их актуальной формой и выдвинул понятия мимесиса и катарсиса.
Начальная герменевтика, являющаяся основой исчисления европейского знания, одновременно являлась итогом, «снятием» иного знания, которое понимало мимесис (подражание) в виде реконструкции как бы нового, заново увиденного предмета и построения нового субъекта подражания. Мимесис, как показано в работе, являлся категорией мифоритуала, что делало невозможным его теоретическое понимание в смысле устремленности на недостижимый «идеал». Основу мимесиса как элемента ритуала составляло максимально полное осуществление природной закономерности в отдельном явлении. В свою очередь, в риторической парадигме мимесис стал пониматься как способ выявления истины в виде максимальной наглядности проявления закона природы в ее единичном создании. В художественной практике полноту актуализации миметического принципа традиционно воплощает эстетический идеал как предельная органичность жизни в формах непосредственной живой целостности, схваченная в индивидуальном образе. Идеал как совершенный образ и явление-образец, в котором, согласно закону мимесиса, проступает природная закономерность, соотносятся по принципу подобосущего, когда многообразие внешних форм определяется бытийственной онтологией единого. Это придает внутреннюю органичность как художественной, так и теоретической практике освоения действительности в формах ее миметического воспроизведения, когда поиск идеального эстетического совершенства соотносится с безупречной фиксацией реального. Речь идет не о подражании природе в формах уподобления художественного произведения внешним линиям ее контуров, но о воспроизведении самого природного принципа как принципа жизни. Таким образом, мимесис есть воспроизведение творящей способности природы в доступной человеку сфере, что служит основанием и залогом вечной обновляемости подлинно художественных творений.
Обращаясь к категории катарсиса, Аристотель ищет новую форму «овеществления» архаического содержания, которое в исторической перспективе предшествовало культовой обрядовости мимесиса. Память слова образует семантический потенциал формы греческого «katharsis». Как любая форма она
являет свое семантическое основание, которое европейская мысль соотнесла с идеей соразмерности. В работе предложен новый подход к пониманию онтологии и семантики этой ключевой для европейской парадигмы сознания категории.
Метод «реконструкции мифоритуала» дает возможность определить природу третьей, заключительной части «Поэтики» Аристотеля. Текст «Поэтики» построен согласно жесткой архитектонике сакрального обряда. За интродукцией развертывания сюжета-мимесиса, завершающегося огнем ритуального костра в честь мифологического героя, следует благодатное возлияние в виде очистительного ритуала катарсиса с благовониями и умащиваниями. Третья часть текста посвящена развертыванию повествования о загробной жизни героя, которое в античности традиционно определялось жанром катабасиса/анабасиса (= нисхождение/восхождение).
Таким образом, композиция трактата Аристотеля как должной быть речи может быть представлена следующим образом: Первая часть «Поэтики» представляет собой погребальную песнь, своего рода рассказ-мимесис; Вторая часть соотносится с очистительной процедурой катарсиса, и ритуалом тризны-возлияния; Третью часть, наиболее затемненную и невразумительную, представляется возможным реконструировать как катабасис/'анабасис.
Композиционно «Поэтика» выстроена в согласии с логикой мифоритуала погребения, которая, благодаря усилиям Аристотеля, во многом составила основу риторической парадигмы европейского сознания и его мыслительного дискурса.
Основы европейского риторического дискурса анализируются в работе системно в виде соотношения триад:
Мистерия Миф Метафора
Целитель Пророк Поэт
Мимесис Катарсис Катабасис/Анабасис
Наука в классическом понимании синекдохична, ибо расширяет поле знания. Оправданием семантической метафоризации науки служит углубление гнозиса через расширение семантики старых слов. Взаимодействие аллюзий с собственным повествованием происходит в основном по принципу переносных значений, что придает классическим образам в современном тексте характер тропов. Неопределенность возникающих при этом аналогий ведет к установлению оригинальных связей, усиливающих художественную сторону произведения. В силу функциональной нагрузки они могут выступать в качестве «изобразительных» или «выразительных» метафор.
В первом случае залогом успешного использования заимствованных образов выступает их адекватность общепризнанному содержанию. Если классический образ — в данном случае шекспировский — трансформируясь, сохраняет соответствие первичному значению, речь идет о его вариантах. В том случае, когда индивидуальная модификация известного художественного решения достигает предела, за которым он получает самостоятельное существование, относительно независимое от исходного материала, шекспировский образ обретает новое качество. В случае с «изобразительной» метафорой классические образы выступают в аналитической функции, усиливая содержание мысли современного автора. Если заимствование используется в плане «выразительности», то, обладая большей свободой, аллюзии обогащают контекст выявлением неожиданных содержательных аспектов. В этих редких случаях полнота их реализации зависит от прояснения окказиональных особенностей исходного образа.
В зависимости от преобладания качества изобразительности или выразительности заимствованный образ может существовать в современном произведении в одном из трех пластов: в пространстве персонажа, пространстве автора или порождаемом им самим пространстве нового художественного произведения. Эти три взаимопроницаемые сферы характеризуются отсутствием жестких границ. Принцип взаимной прозрачности является ведущим основанием их бытования.
В этой связи следует отметить, что актуальность исследования связана с фундаментальным поворотом в отношении к Слову в XX веке, когда сложилась такая область знания как экзистенциальная онтология. Отказав языку в нормирующей (социальной) функции как превалирующей, Хайдеггер в своих работах провозгласил понимание исходной, а не методической операции.6 Вслед за ним его ученик Гадамер признал, что понимание из области познания («гносеология») превращается в модус бытия («онтология»).7 В силу усиления онтологического статуса слова истина стала пониматься открытием, в котором пресуществляется бытие. Положение Хайдеггера о том, что «слово есть дом бытия» развил в своих трудах Деррида, придав глобальный онтологический смысл письму: вся история европейской риторики есть «история подавления и угнете-
ния письма, прорывы которого в бытие, в мир становятся сценами истории». Г. Башляр выдвинул концепцию метаслова, в которой он исходил из причастности слова искусства природным стихиям и понимал метаслово как исходный пункт, а не результат поэтического импульса.9 Результаты этого процесса анализируются в заключительной главе диссертации на материале романного творчества крупнейшей английской писательницы XX в. Айрис Мердок.
Научная новизна исследования связана с разработкой вопросов современного бытования слова, которое анализируется в системно-целостном освещении. Историко-филологическая перспектива подхода к слову в горизонте европейской риторической традиции дает основание выдвинуть тезис о его бытовании в парадигме мистерия — миф —метафора. Материалом, на котором разворачивается выдвинутое в диссертации положение, служит творческое наследие Шекспира. В работе находят обоснование и объяснение не только вопросы, которые стоят перед современным шекспироведением, но и проблемы бытования шекспировских аллюзий в литературе XX века. Особый акцент делается на творчестве видной английской писательницы Айрис Мердок, чье творчество пронизано цитатами из пьес ее соотечественника. Современная теория метафо-
6 См.: Хайдеггер М. Бытие и время. — М., 1997; Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики. — М., 1997.
7 См.:Гадамер Г.-Г. Истина и метод. — М., 1988.
8 Деррида. Письмо и различение. — М., 2001. — С. 23.
9 См.: Башляр Г. Вода и грезы. — М., 1998.
ры получает в диссертации дальнейшую разработку в виде выдвинутого тезиса о существовании трех пространств заимствованной метафоры.
Методология исследования основывается на широком сравнительно-типологическом анализе материала в сочетании с историко-литературным аксиологическим и лингвистическим подходами с привлечением достижений ведущих школ XX века в области методологии гуманитарного познания. В диссертации использованы методологические принципы, методики и опыты изучения литературных произведений, литературного процесса, художественно-творческой деятельности, эстетических и литературно-теоретических концепций, в разное время обоснованных и успешно применяемых в филологической науке культурно-исторического, сравнительно-исторического, историко-генетического, системно-типологического и структурно-семиотического подходов, а также методы филологической герменевтики и рецептивной эстетики. Методология и исследовательская методика этих научных школ востребованы в диссертации в зависимости от характера изучаемого объекта и постановки конкретных исследовательских задач.
Объектом исследования является слово в полноте его онтологического существования, одним из проявлений которой служит интертекстуальный механизм взаимодействия свое/чужое. Шекспировская аллюзия рассматривается в контексте литературы XX в. Интертекстуальный механизм взаимодействия шекспировского образа с современным текстом анализируется в трех аспектах — заимствованная аллюзия используется в пространстве персонажа, либо в пространстве автора, либо в пространстве порождаемого ею нового произведения. Последний случай является наиболее радикальным использованием заимствованной метафоры, в силу чего ситуации подобного рода встречаются в европейской традиции достаточно редко. Творчество Айрис Мердок, изобилующее отсылками к шекспировскому наследию, примеров подобного характера не дает. Попытки подобного рода использования шекспировских аллюзий нельзя отнести в ее художественном наследии к числу творческих удач. Для иллюст-
рации выдвинутого в диссертации положения границы анализируемого в работе материала расширяются в согласии с задачами исследования.
Предметом исследования является проблема слова в горизонте европейской риторической традиции, эксплицируемая на материале шекспировских аллюзий в литературе XX века. В диссертации анализируется положение о трех пространства существования шекспировской метафоры.
Цель и задача исследования состоят в том, чтобы рассмотреть комплекс проблем, связанных с современным бытованием слова как такового. Цель работы, понимаемая в духе античной риторики как целое и пресуществляющаяся в конце полнотою смысла, понималась как типологическое соотношение постмодернистской парадигмы современного слова с «дожанровои» парадигмой слова как мифоритуала.
Теоретическая значимость исследования определяется тем, что в нем на материале европейской риторической традиции разрабатывается оригинальный подход к проблеме слова, связанный с онтологией слова как такового. Описанное как системное единство слово рассматривается одновременно в трех проекциях как мистерия — миф — метафора. Взаимосвязь общих и частных планов бытования слова показана на материале трех пространств существования заимствованной шекспировской метафоры, как аллюзии, в литературе XX в. Наибольший акцент при этом делается на творчестве Айрис Мердок как крупнейшего представителя английского модернизма.
Практическая ценность диссертации состоит в том, что она расширяет сложившееся в XX в. представление о мифопоэтической природе слова. Основные положения работы конкретизируются на материале бытования шекспировских цитат в литературе XX в.
На защиту выносятся следующие основные положения диссертации.
1. На материале современной литературы анализируется механизм освоения заимствованного слова как образа. Для глубокого и обширного исследования характера этого процесса используется шекспировское наследие, которое
по количеству отсылок уверенно удерживает приоритет в европейской литературе XX в.
По результатам исследования шекспировского пласта в современной литературе рассмотривается положение о трех пространствах существования заимствованной метафоры собственно в новом оригинальном художественном произведении. Эти пространства в работе обозначаются как пространство персонажа, пространство автора и пространство произведения.
Выделение трех пространств существования заимствованной метафоры, рассматриваемой как механизм организации нового художественного произведения, предполагает их сложное взаимодействие и сложное взаимопроникновения. Примеров использования заимствованного образа исключительно в одном из пространств практически не встречается. Этот факт свидетельствует о сложности интертекстуального взаимодействия фенотекста и генотекста, и подчеркивает необходимость дальнейшей разработки предложенной к рассмотрению в диссертации проблемы.
Заявленный в исследовании подход к проблеме свое/чужое рассматривается в границах понимания культуры как кода заимствования. Это позволяет поставить вопрос о явлении конгениальности произведений по совпадению в третьем из предложенных к рассмотрению пространств существования заимствованной метафоры.
Шекспировское наследие как метафора получает обоснование в границах заявленного подхода к собственно онтологической природе слова. Его бы-тийственная перспектива разворачивается триадой мистерия — миф — метафора, где мистерия рассматривается не просто как способ посвящения в сокровенное знание, но как способ формирования человека как такового; тогда как миф выступает не просто как организация мышления, но как особая функция речи; а метафора служит способом преодоления «отдельности» явления и возвращения к первичной полноте целостности.
Тезис о том, что слово разворачивается в мир согласно закону мистерия — миф — метафора, обретает обоснование в исследовании истоков евро-
пейской риторической традиции, восходящей к «первому» тексту, обозначившему горизонты риторики как филологической дисциплины — трактату Аристотеля «Поэтика». В работе прослеживается преемственность положений европейской риторической традиции, у истоков которой стоят тексты Платона и Аристотеля. Шекспировское наследие в этом ряду рассматривается как один из наиболее репрезентативных моментов освоения европейской литературой ее архаических оснований.
В связи с анализом исходных посылок, сформировавших и оформивших европейскую традицию художественного слова, в работе исследуются основополагающие понятия классической риторической традиции «мимесис» и «катарсис». В трудах Аристотеля, которому традиционно принадлежит их теоретическое обоснование, они были соотнесены в первую очередь с практикой античных театральных драматических жанров. Это во многом определило выбор шекспировской драматургии как материала для анализа динамики развития европейской риторической традиции.
Историко-филологический подход к исследованию проблем дал возможность сделать ряд наблюдений над современным состоянием художественного слова и шире — слова как такового. Те основания, на которых сегодня базируется механизм функционирования слова, оказались соотнесены с исходными положениями, на которых возводилось здание европейской риторической традиции. Такое сопоставление позволило сделать ряд наблюдений, которые изложены в завершающей части работы.
Апробация проводилась на международных шекспировских конференциях «Шекспировские чтения — 2000», «Шекспировские чтения — 2002» и «Шекспировские чтения— 2004», на заседаниях отдела теории литературы ИМЛИ РАН имени A.M. Горького в специальных докладах по основным темам диссертации, в выступлениях на конференциях, а также в ходе работы на международных семинарах в Оксфордском и Венском университетах. Результаты исследования обсуждались с участием ведущих специалистов по английской
литературе, а также по исторической семантике слова и отражены в книгах и статьях, которые приводятся в Библиографии.
Структура работы. Диссертация состоит из Введения, трех глав, Заключения и Библиографии.
Универсальность предложенной в диссертация европейской парадигмы сознания требует тщательной разработки на уровне синтагматики. В эпоху глобализации Европа обретает в своих истоках единую мощную философскую эпистему, которая на протяжении тысячелетий питает ее духовную жизнь. В настоящее время востребованность этого знания становится все более очевидной. В свете пересмотра глубинных парадигм бытования слова в данной работе предполагается конкретизация этих оснований. Ведущей мыслью выступает предположение о типологической связи моментов «снятия» устоявшихся парадигм слова как мысли в аристотелевой «Поэтике» и в постмодернизме.
Своеобразие подхода связано с тем, что в работе предпринята попытка реконструкции риторики слова «дожанрового» периода, предшествовавшего формированию европейской системы жанров. Традиционно ее истоки восходят к трактату Аристотеля «Поэтика», который общепризнано считается первым европейским трактатом по эстетике, заложившим разделение литературы на роды и виды. Современное литературоведение признает, что «важнейшую роль в образовании античной литературы как единой системы жанров сыграли как внутренние, так и внешние причины. К внутренним причинам относится прежде всего опыт трагедии, поставившей вопрос об этическом основании человека и его отношении к традиционным установлениям. Понимание этоса (нрава) человека как того, «что не повинуется приказам» (учение Аристотеля о благородстве), становится важнейшим не только для этики, но и для литературного самосознания. Трагедия предстает центральным объектом изучения Аристотеля в «Поэтике». К внешним причинам относится появление философского учения о роде и виде, которое ложится в основу жанрового мышления европейской литературы. Как философское учение, оно предполагает теоретический способ познания в виде нахождения не генетических, но онтологических причин ве-
щей».10 Данная работа в этом плане и представляет собой исследование онтологии первых оснований европейской риторической системы. По результатам исследования можно утверждать, что фундаментом словесной парадигмы европейского сознания послужил мифоритуал погребения, который в «снятом» виде оказался зафиксирован в «Поэтике» Аристотеля. В тексте трактата произошло наложение двух мифоритуальных схем, что выразилось в использовании понятий культовой обрядности двух разных традиций. Они соотносятся в дихотомии вода/огонь, где катарсис восходит к мифоритуальной обрядовости миной-ской эпохи, тогда как мимесис связан с мифоритуальным опытом греческой эпохи героев и относится к культуре дорийцев.
В связи с реконструкцией мифоритуальной схемы догреческой архаики представляется плодотворным ввести в контекст европейской культуры новую эпистему. В свете знания, которое с определенной долей условности сегодня носит название «археология гуманитарных наук», возможно реконструировать в основании европейской культуры новую парадигму, во многом определившую особенности европейского мыслительного дискурса. Минойская эписте-ма, которая не принадлежит к сфере греческой архаики, базирующейся на парадигме дорийского мифоритуала, составляет в истории человеческого общества самостоятельную мыслительную структуру с существенно обусловленным модусом восприятия. Появившаяся на карте Европы в результате археологических изысканий последних ста лет, минойская культура заставляет пересмотреть базовые представления о европейской культуре, исторически сложившиеся под влиянием «первых текстов» европейской литературы, каковыми явились поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Исследование минойской эпистемы как основополагающей для европейской риторической парадигмы вынуждает признать, что балканская культура эпохи греческой архаики формировалась не на малоазийских (= троадских) культах,11 но взошла на мощном основании египет-
10 Марков А.В. Античная система жанров. // Сб. Современные проблемы теории литературы: роды и жанры. (В печати).
" См.: Андреев Ю.В. От Евразии к Европе: Крит и Эгейский мир в эпоху бронзы и раннего железа (III — начало I тыс. до н.э.). — СПб., 2002; Молчанов А.А. Социальные структуры и общественные отношения в Греции II тыс. до н.э. — М., 2000; Галанопулос А.Г., Бэкон Э. Атлантида. За легендой — истина. — М., 1983, и др.
ского знания, посредующим звеном относительно которого выступала древняя критская культура. Исторически связующим этносом послужили ахейцы, провинциальная культура которых в границах минойской империи — Pax Mi-noica, а не Pax Mycenea — оказалась запечатлена в гомеровском эпосе.13
Необходимо отдать должное интуиции современной науки, которая указывала на сложный вектор взаимообратного движения культур в средиземноморском регионе — не только с суши на море, но и с моря на сушу: «но было бы ошибкой в отношении Балкан к Средиземноморью видеть только экстенсивный аспект — как и ограничиваться лишь одним направлением движения — от Балкан к Средиземному морю, забывая о противоположном— от Средиземного
Иероглифическое письмо, весьма возможно, вышло из употребления на Крите как раз вследствие того, что его в качестве особого декоративного шрифта для минойских текстов сакрального и иного торжественного характера сменила специально введенная письменность Фестского диска. О принципиальном значении этой смены свидетельствует полная, насколько можно проследить, независимость чтений знаков минойского иератического силлабария от чтений внешне сходных с ними слоговых знаков критской иероглифики и линейного А. Можно допустить, что в отличие от линеара А направление написания и чтения текста справа налево было принято в миноиском под влиянием египетской иероглифики— наилучшего в отношении каллиграфии письма того времени. Египетские иероглифические надписи были известны на Крите задолго до создания письменности Фестского диска. Так, к среднеминойскому Иб периоду относится, к примеру, статуя сановника-египтянина — вероятно, посла фараона на Крит, с подобными надписями, датируемая по стилю более ранним временем, — посвященная в дворцовое святилище Кносса. Установление регулярных дипломатических отношений критских династов с могущественными правителями Египта способствовало, естественно, появлению среди критян людей, достаточно хорошо знакомых с письменностью страны пирамид. (Молчанов А.А. Таинственные письмена первых европейцев. — М., 1980. — С. 84).
13 О микенской культуре как греческой архаике см.: «Термины власти сравнительно мало меняются от микенской эпохи к греческим диалектам I тыс. до н.э. при том, что внутреннее содержание терминов претерпевает иногда достаточно сильные изменения. Так, глава микенского государства — ванакт (wanaka) — известен и в гомеровском эпосе (этот титул сохраняет Агамемнон ccvai; dvSpcov). В последующие века ava— обычное обращение к божеству. В микенское время, судя по всему, наблюдалась определенная сакрализованность царской власти. Не только эпитеты божеств (wa-na-sa), не только связь ванакта с культом (ср. pa-ki-ja-si, mu-jo-me-no, е-pi wa-na-ka-te), но и гомеровские формулы, восходящие к микенской эпохе, до некоторой степени свидетельствуют о таком положении дел, например, упоминание о священном замысле царя (icpov ucvog 'AXxivooio), где icpov ucvo<; скорее всего связано с промыслом и замыслом, включавшем также элемент сакрализации этого замысла. На последнее может указывать также формульное ведийское iiren.a mdnasa (instr.) Если прав К. Ройх, определяющий icpov uevoi; как микенскую формулу, входившую в этикет обращения к царю, то внутренняя форма данного словосочетания отчетливо указывает на присутствие сакрального в самой царской должности. Для поздней архаики, напротив, сакральные способности правителя не востребованы: чтобы освятить свое право вернуться к власти, Писистрат ставит на колесницу рядом с собой девушку, наряженную Афиной, имитируя эпическую ситуацию, но нигде не утверждая прямо свое iepov ucvoq— его право на тираническую власть освящает олицетворение божества. Из микенских текстов мы знаем, что следующим за ванактом стоял военачальник — лавагет, а затем три человека, обозначенные как te-re-ta». (Казанский Н.Н. Власть предержащие (от микенской эпохи к греческой архаике. // Homo Balcanicus. Поведенческие сценарии и культурные роли. Балканские чтения—6. / И.А. Седакова, Т.В. Цивьян. М., 2001. — С. 7); Ср.: ...минойское A-ta-na, откуда происходит название великого греческого города Афины. К минойским по происхождению относятся имена таких популярных персонажей греческой мифологии, как Европа, Пенелопа, Кассиопа (или Кассиопея)... Весьма живучей... в Греции второй половины II — первой половины I тыс. до н.э. оказалась и кносско-общекритская династическая традиция... Престиж старинного минойского происхождения... был велик. Самые могущественные из ахейских владык— цари «златообильных» Микен— стремились породниться к кносскими Миносидами и очень дорожили этим родством... Обычай устройства состязаний в Олимпии имел, по мнению древних греков, критское происхождение. (Молчанов А.А. Таинственные письмена первых европейцев. — М., 1980. — Сс. 96, 98, 104).
моря к Балканам. Постоянное и актуальное присутствие моря, с трех сторон окружающего Балканы»,14 определило онтологию и генеалогию европейской культуры.
Приводимые в диссертации результаты исследования онтологии «европейского» слова как парадигмы сознания позволяет утверждать, что греческая культура имеет в своем генезисе морской субстрат. Иными словами, греки пришли с моря — об этом свидетельствует мифологический субстрат их мысли, построенный на морской эпистеме. Греческая культура пришла на Балканы не с материка — она в буквальном смысле восстала из морской пучины. Историко-геологическая ситуация средиземноморского бассейна предполагает лишь одно решение: эта культура сложилась и была принесена на материк с некого островного анклава или острова, иными словами, с клочка земли посреди хляби.
Понятие эпистемы, которое ввел в современную культурологию М. Фуко,15 служит упорядочиванию пред-данного на каждом историческом этапе соотношения «слов» (= имен) и «вещей». Вычленив в границах западно-европейской культуры ряд эпистем — «ренессансную» (XVI в.), «классическую» (рационализм XVII—XVIII вв.) и «современную» (с рубежа XVIII—XIX вв.), — французский ученый соотнес ренессансную эпистему с античной. По мнению М. Фуко, в ренессансной эпистеме культурное наследие античности, воспринимаемое аналогично природным феноменам, образует тесное и законосообразное системное единство на основе тождественности слова и вещи, непосредственно соотносимых и, в пределе, взаимозаменяемых в виде «слов-символов». Не касаясь вопроса соотношения трех предложенных М. Фуко эпистем, представляется возможным раздвинуть горизонты оснований европейской парадигмы мысли, представив в качестве исходной минойскую эпистему. Ее соотношение с античной эпистемой следует рассматривать в дихотомии воды/огня, бессмертия/смерти, мифоритуала/риторики, дожанрового/жанрово-го, ритуала/трагедии и т. д.
14 Топоров В.Н. Эней — человек судьбы. — М., 1993. — С. 5.
15 См.: Фуко М. Слова и вещи: археология гуманитарных наук. — Киев, 1996.
Возможно, введение минойской эпистемы с ключевым образом лабиринта (= топос Островов Блаженных16) станет для европейской культуры своеобразным ответом на формально-логическую перспективу интерпретации деконст-руктивистского тезиса Р. Рорти17 о невозможности найти привилегированное знание, которое функционировало бы как обоснование для всего остального знания. В целом замысел данной работы связан с выявлением первичного опыта сознания, который не основывается ни на каких образцах. Своевременность подобного подхода анализируется на материале присутствия шекспировской образности в современной литературе: идея эксплицируется результатами исследования трех пространств существования заимствованной шекспировской метафоры в английской литературе XX в.
Таким образом, анализ динамики развития европейской риторической традиции в горизонте от ее архаических истоков до опытов постмодернистской литературы дает возможность предполагать, что современное научное знание сегодня располагает возможностью обрести то привилегированное знание, которое может функционировать как основание для всего остального знания. Погруженная во тьму времен в результате геологического катаклизма, минойская цивилизация оказалась стерта с исторической карты мира. Будучи форпостом египетской культуры в Средиземноморье, эта цивилизация, заваленная пеплом
1 Я.
страшного извержения, послужила становлению Европы. Pax Minoica превра-
16 В смысле общечеловеческого архетипа нетленного бессмертия как воскресения. Ср. мысль В. Набокова о
соотнесении парадигмы Островов Блаженных с Пасхой:
Там, вдали, где волны завитые переходят в дымку, различи острова блаженства, как большие фиолетовые куличи.
Ибо золотистыми перстами из особой сладостной земли пекаря с кудрявыми крылами их на грани неба испекли.
И, должно быть, легче там и краше, и, пожалуй, мы б пустились вдаль, если б наших книг, собаки нашей и любви нам не было так жаль.
17 Rorty R. Philosophy and the Mirror of Nature. — Princeton, 1979. — P. 15.
18 См.: Evans A. The Palace of Minos at Knossos. — Vv. I—IV. — L., 1921—1935.
тился в Pax Mycenea— древняя земля острова Крит, где встретились египетская и европейская цивилизации, помнит первые несмелые шаги ахейцев по усыпанным белым вулканическим прахом плитам Кносского дворца. Микенская культура оказалась заключительным аккордом минойской цивилизации — в ней обрела завершение минойская эпистема как неповторимая культурная парадигма.
В свою очередь, микенская культура пережила нашествие дорийцев и, в качестве ахейского субстрата, легла в основание греческой архаики. Таким образом, грандиозный природный катаклизм, похоронивший минойскую Атлантиду, оказался беспрецедентным в границах данного исторического времени: ему обязана существованием современная цивилизация.
Мощное духовное основание минойской культуры определило вектор развития Греции и, позже, Европы в целом. Сила этого заряда столь велика, что вплоть до настоящего времени он незримо направляет характер духовных поисков современного сознания. Сегодня представляется очевидным, что археологическое открытие этого пласта европейской культуры в 1900-х гг. при раскопках Кносского холма потрясло величием трагедии современную культурную мысль: Европа взглянула в пустые глазницы истории. Это не спасло ее от Первой и Второй мировых войн столетия. В свою очередь, отстояние от этого знания России многое определило в характере русской революции и истории.
Обретение минойской эпистемы в подбрюшье европейской цивилизации значительно повлияло на духовную парадигму художественных исканий XX века. В ее глубинах оказалась востребована греческая антиномия Порядка и Хаоса, которой древняя мысль ответила на вызов природы, когда совершенное в своих формах минойское искусство оказалось в одночасье поглощено мрачными подземными силами. «Объективный» крах минойской культуры актуализировал категорию вечности в исканиях европейского искусства XX века, начиная от дадаизма и сюрреализма, включая эстетику Арто и театр абсурда, творчество таких авторов как О. Шпенглер, Х.Л. Борхес, Ж.-П. Сартр, А. Камю, Ж. Жене, У. Эко, Ж. Деррида и др. Все это, по мнению современных филосо-
фов, привело к сущностной «трансформации предмета эстетики, к отказу от традиционных эстетических категорий и к введению в актуальную сферу эстетического дискурса немалого рода понятий, большинство из которых в классической эстетике были не только маргинальными, но часто вообще не входили в эстетическое поле. В частности, к таким паракатегориям относятся лабиринт, абсурд, жестокость, повседневность, телесность, вещь {вещность), симулякр, артефакт, эклектика, интертекст, гипертекст, деконструкция и другие. В художественно-эстетических пространствах XX в. понятие лабиринта выдвигается на одно из значимых мест. История культуры и особенно ее современный этап представляются постмодернистскому сознанию сложнейшим лабиринтом, в котором возможны какие угодно блуждания по «проселкам» и «неторным тропам», бесконечные непредсказуемые перипетии и события. Особой значимостью понятие лабиринта наполняется в наступающую эпоху глобальной компьютеризации».19 Таким образом, сквозь призму трагического опыта Атлантиды (= как лабиринта) выстраивается иное понимание эстетики постмодернизма, что позволило в границах данного исследования соотнести постмодернистскую парадигму слова с «дожанровой» парадигмой слова как мифоритуала.
Следует особо отметить, что реконструируемая в работе идея Лабиринта как храма бессмертия обретает историческую конкретность в границах миной-ской эпистемы. Это позволяет соотнести начальный миф с постмодернистским символом и выявить как смысловое ядро, так и вектор расхождения культурных топосов. В целом, в диссертации предлагается рассматривать Лабиринт как храм имаго с культовым тотемом Великой Пчелы, реконструкция которого сегодня требует широкого привлечения данных целого ряда наук.
Гибель островной цивилизации не имела свидетелей — мощные сейсмические волны смыли память о ней со скрижалей истории. Она косвенно реконструируется сегодня по библейским текстам о расступившемся море и кровавых реках, по условно соотносимым с этим событием сценам вселенского плача на египетских стелах и ряду других источников. Не имея живых свидетелей, тра-
19 Бычков В.В. После «КорневиЩа». Пролегомены к постнеклассической эстетике. // Эстетика на переломе культурных традиций. / Н.Б. Маньковская — М., 2002. — Сс. 26-27.
гедия Атлантиды, тем не менее, обрела свидетельствование в Слове. Почти тысячу лет спустя ее со свойственной мысли этого человека проницательностью выхватил из тьмы небытия Платон. Воистину тот факт, что он единственный письменно засвидетельствовал существование сгинувшей цивилизации, предполагает материальность существования эйдосов.
Платоновская притча об Атлантиде — это не памятник бесследно исчезнувшей культуре, составившей основание европейской цивилизации, но триумф и апофеоз Логоса над тленом и мраком. Поэтическое повествование в «Критий» выступает гарантом жизни — вечной жизни Атлантиды. Онтология слова оборачивается апологией поэта, ибо единственное оправдание поэзии — она сама. И шекспировское наследие являет этому один из наиболее убедительных примеров.
Слово как мистерия: человек перед лицам бытия
Желание осмыслить опыт приводит на границе столетий к настойчивому стремлению разобрать письмена, коими оказались запечатлены духовные искания уходящей эпохи. Вглядеться и распознать вечные круги, на коих от века свершается томление духа. Там всяко едино, здесь искушает прелестью многообразия. Испытывая необоримый восторг перед конкретностью вечного, которое растворяет себя в богатстве земного, человек избывает его в драматическом одолении очевидного, сотворяя коллективное существование по законам мистерии.
На плане преходящего оно оборачивается сказкой (метафорой), рассыпающейся конкретностью толкований. Будучи спрессовано в исторический опыт, выступает монетой со стертыми очертаниями, достоинство которой в копилке мировой культуры оценивается в «миф». В этом смысле миф настолько же историчен, насколько история мифологична. «Если бы я не верил, подобно мудрецам, — говорит Сократ у Платона, — ничего в этом не было бы странного, я стал бы тогда мудрствовать и сказал бы, что порывом Борея сбросило Окинфию, когда она резвилась с Фармакеей на прибрежных скалах; о такой ее кончине и сложилось предание, будто она была похищена Бореем» (Федр, 229с).1
Накопленный опыт довлеет себе, и миф разворачивается в мир как эпос. Он переживает виток жанровых преобразований, пока не иссякнет благодатный источник, и, обессилев, миф не уснет в забытьи. Подобно спящей деве, он может сохранить себя в хрупком сне, а может распасться. И позже, вызванный к новым рождениям, существовать по закону синекдохи — pars pro toto, — когда часть называет целое, которое обречено быть «становящимся», но не может быть «ставшим».
Отнесение мифотворчества к коренной способности мыслящих существ является непосредственным завоеванием теоретической мысли XX столетия и открывает возможность соотнести по первичному основанию миф с мистерией, вместилищем которой он выступает. Исторически посвященная космогенезу, мистерия сохранила память о земледельческом цикле, связанном «с культом прорастающего зерна, где философия конца присутствует в "наивной" форме, знаменуя новое рождение».2 Под покровом таинственности мистериальное знание свершило ряд кругов в европейской культуре, сохраняя энигматичность исходной сакральной ритуальности. Одним из редких свидетельств служит трактат Ямвлиха «О египетских мистериях», в котором речь идет о метафизике бытия как о сущем. В его труде жреческое служение выступает облачением спекулятивной философии — на закате эллинизма понятие мистерии отделяется от ритуального обряда, чтобы вернуться к первосмыслу.
Со временем содержание мистерии в европейской культуре замещают библейские сюжеты. Постепенное отчуждение от сокровенной реальности смысла акцентирует момент таинства как способа произнесения непроизносимого. Само «непроизносимое» забывается в напластовании культурных кодов. На вопрос, что есть мистерия, культура сегодня отвечает многословно и многомудро, забыв, что таинство мистерии исходно являет актуализацию неизбывной энергии рождения, давая возможность приобщиться к святости основ космоге-неза. Любое иное прикосновение к основанию, составляющему суть жизненного обращения материи, именуемого греками метаморфозисом, чревато обезвоживанием истоков и замутнением вод. Жалкие нивы питают такие реки.
Суть, согласно утверждению древних, есть тело сущности. Мистерия как таинство вечного обновления, к которому невозможно приобщиться вне непосредственного участия в самом акте рождения, разворачивается в мир мифом. По-видимому, это единственная форма, в которой сознание человека может вместить полноту возможного, что делает миф телом мистерии — иными словами, овеществляет ее. Мистерия оказывается трансцендентна мифу в той же мере, насколько она имманентна ему. Как храм без святилища и религия без сакрального ритуала, миф не существует без мистерии.
На плане рефлексии миф выступает первичным основанием культуры и определяет природу всей парадигмы ее проявленных форм. Он может быть соотнесен с пространством как ее первичным символом, которое трансцендирует-ся в вечности, понимаемой в виде таинства мистерии. Совмещенные по подобию с пространством и временем, миф и мистерия перестают восприниматься как историческое прошлое и обретают непреходящую актуальность настоящего.
Слово как миф: миф как бытие человеческого сознания
Если мистерия есть то, как человек себя мыслит вне времени, то миф есть то, как человек себя мыслит во времени. Безмолвие — язык мистерии, слово — язык мифа. Это понимание мифа на протяжении веков представлялось классическим, что наглядно зафиксировал в своих поздних размышлениях поэт Вяч. Иванов. В его бумагах от 1944 г. сохранилось рассуждение о мифе как сказе: «не прекрасно ли, последовав древнему и достохвальному обычаю, освещенному Платоном, начать речь с мифа, если есть вожатый мифа? Но чтобы положиться на вожатого речи, потребно уверится, что перед нами воистину миф, то есть ознаменовательная повесть о сверхчувственной правде... поскольку действие предлежащее в ознаменованиях [изображенное в знамениях, символах] уразумевается как внутреннее движение ознаменовательнои идеи... Так оправдывается видение сновидца истолкованием сногадателя, посредника между предчувствующей душою и мыслящим сознанием — пусть же расскажет поэт свой загадочный сон [миф, миф-сон], повесть и потом уступит место разгадчику-истолкователю».1
Революционный пересмотр лежащих в основании европейской культуры парадигм мифа связан в XX веке с именем английского поэта и ученого Роберта Грейвса. Он расширил историческое понимание европейского мифа в таких масштабах, что это привело к смене внутренних структур смыслов. В греческой архаике он утвердил матриархальную парадигму над патриархальной возведением солярного культа к лунному. Основным материалом ему служила магическая поэзия. «Его главная книга «Белая Богиня», претендующая на роль первой грамматики поэтического языка, — писал Х.Л. Борхес, — на самом деле великолепный миф, то ли отысканный Грейвсом, то ли Грейвсом придуманный. Белая Богиня его мифа — это Луна; по Грейвсу, западная поэзия представляет собой лишь разветвление и вариации этого сложного лунного мифа, ныне восстановленного им в целостности. Он хотел вернут поэзию к ее магическим исто-кам». Особенность подхода Р. Грейвса к мифу заключалась в том, что он опирался на собственный поэтический опыт. Это давало ему возможность порождать миф изнутри собственной художественной практики, тем самым опасно приближаясь к мистериальной бездне сокровенного. «Для всех эллинистов, включая Грималя, — подчеркивал Х.Л. Борхес, — мифы, которыми они занимаются, попросту музейные экспонаты, либо забавные старые сказки. Грейвс исследует их в хронологии, ища за различием форм постепенное видоизменение живых истин... Его книга охватывает века, и соединяет в себе воображение и природу».3
В свою очередь, к наиболее серьезным научным попыткам реконструкции природы мистического/мифологического знания в XX веке следует отнести опыты Л. Леви-Брюля. Французский ученый видел своеобразие первобытного мышления в «мистичности», подразумевая подчиненность сознания вере в сверхъестественные силы. Существование дикаря было пронизано мистическими связями, которые составляли основу того, что Леви-Брюль именовал «законом сопричастности», характеризующим, в свою очередь, особую природу первобытного мышления. Его отличие от форм мышления современного человека ученый видел в том, что древний человек исходил из предпосылок, которые на сегодняшний взгляд представляются нелепыми и абсурдными, однако имеют оправдание в жизнеспособности древних сообществ. Столкновение древнего и современного форм мышления с наибольшей полнотой проявляет себя на пространстве мифа, которое не терпит рациональной рефлектирующей мысли, хотя несет в себе глубокую логику. Предложив называть синкретическое мышление древнего человека «прелогическим», Леви-Брюль постоянно подчеркивал, что это вовсе не означает, будто оно было алогичным. Хотя именно алогичность — с точки зрения современных позиций — и делала это сознание мифичным. «Ко гда люди мыслили так называемым «дологическим» мышлением, — отмечал ученый, — собственно, они еще не мыслили, а мифологически воспринимали».4 Попав в характерную для подобного рода ситуаций ловушку из слов современного рационального обихода, Леви-Брюль вынужден был столкнуться с ситуацией дурной бесконечности автокомментирования: «...прелогический, однако, не должно значить, что это мышление представляет собой своего рода стадию, предшествующую во времени появлению логической мысли. Существовали ли когда-нибудь группы человеческих или пречеловеческих существ, чьи коллективные представления не подчинялись законам логики?.. Мышление в обществах низшего типа, которое я называю прелогическим, за неимением лучшего термина, вовсе не было такого рода. Оно не антилогическое; оно также и не алогическое. Называя его прелогическим, я хочу только сказать, что оно не стремится прежде всего, как наша мысль, избежать противоречия».5 Имплицитно приближаясь к утверждению, что человеческое мышление мифично по своему основанию, Леви-Брюль не отказался от позитивистского подхода, оставаясь в тенетах исторического анализа явления: «Выражение «прелогическое» переводят термином «алогическое» как бы для того, чтобы показать, что первобытное мышление является нелогическим, т.е., что оно чуждо самым элементарным законам всякой мысли, что оно не способно осознавать, судить и рассуждать подобно тому, как это делаем мы».6
Исторический подход в сфере духовно-интеллегибельных практик, в силу определенной линейности, является провокативным, ибо ставит вопрос о границе между прелогическим и логическим этапами.
И независимо от того, в каких земных горизонтах обретается ответ — будь то теория панвавилонизма, согласно которой основой мифов всего мира послужили вавилонские космогония и астрономия с их звездным миром, либо аристотелева силлогистика, заложившая основы европейского мышления — сама постановка вопроса являет бесперспективность обрести разрешение проблемы.
Единственным выходом служит одоление границ очевидного как того самого логического и обретение пространства за его пределами. Иными словами, исход в это самое прелогическое мышление, где все мифично.
Слово как метафора: метафора как свобода бытия
Словесные мифы лишь одно из метафорических выражений мифа — метафора есть «маленький миф» (Дж.-Б. Вико). Ее основание составляет «тотемиче-ский образ»,1 что находит выражение в акте наречения явления/вещи именем. Имя дается не по качеству и не по признаку, а по внутреннему образу. Его природа — в силу интеллигибельной непознаваемости — представляется эпиграммой-загадкой.
Сопоставляя греческую и римскую парадигмы мысли, Ф. Зелинский выделял во внутреннем образе вещи/явления субстанциальность/актуальность: «Верующий грек нисколько бы не удивился, если бы ему где-нибудь на дороге встретилась его Деметра в виде высокой и полной женщины, с ласковой улыбкой на лице. Римлянин никогда бы в такой женщине не признал своей Цереры — она объясняется ему единственно в растущем хлебе: пока хлеб не взошел, а посеянный покоится в земле, его ведает не Церера, а Сатурн; когда он уже вырос и цветет — Флора; когда он готов к жатве — Коне. Как видно отсюда, божество обитает не в предмете, а в акте. Римская религия... будучи имманентна явлению, не субстанциальна, а актуальна: римские божества были объективациями мировой воли — этим мы сразу выражаем то, что отличает их от всяких других божеств» {курсив — СМ.).
В свою очередь, современная наука все более склоняется к мысли, что метафорическая природа слова как такового определяется выявлением в имени полноты внутренней актуализации явления/вещи. И соотносит понятие внутреннего образа с полнотой смысла как значимостью. Рассматривая эту проблему в плане экзистенциальной, а не эссенциальной онтологии метафоры, О. Фрейденберг предлагает исторический подход к становлению метафоры как языкового феномена: «В самом деле, по какому принципу происходит наречение предметов при тотемизме? Какие признаки предмета ложатся в ту эпоху основой словообразования? Вот в том-то и дело, что мифологическое (мифотворческое) мышление не определяет предмета со стороны его признаков. Оно еще не умеет замечать признаков, а тем более объединять их («характеризовать» ими). Оно берет любой предмет, имеющий реальные признаки величины, цвета, качества, назначения и т. д., и наделяет его образными, воображаемыми чертами, идущими мимо признаков предмета. Так, левый означает смерть, правый — жизнь, красное — воскресение или зной, сосуд — зверя или город и т. д. Тут, следовательно, решающую роль играют не признаки предмета, а его семантика. Значимость заменяет признаки; всякая значимость и есть признак. Примитивный ум может различать предметы и многое видеть, но соотносит он неправильно. Мы уже не чувствуем этого в таких наименованиях, как отец, раб, царь и т. д., потому что эти слова живут до сих пор и представляются нам логически соответствующими своему содержанию — тому, которое мы сами в него вложили впоследствии. Мы уверены, что отец искони означал кровного родителя и никак не мог означать ничего другого. Но это грубая ошибка: Бог, преисподняя, жизнь в форме смерти, жрец — вот кто назван отцом, и только.
В следующий период, родовой, продолжается наименование предметов не по рациональным признакам, то есть не по их свойствам. Но тут уже, в эту новую эпоху, имеется большое образное наследие от дородовой культуры, которая полностью продолжает жить и в родовом обществе. Однако она только формально кажется неизменной. На самом же деле ее прежнее, тотемистическое содержание наполняется новым смыслом родовых связей и аграрных представлений. Старое содержание продолжает жить, это верно; но оно приобретает характер формальной категории. Так, брат, гроб, отец, царь, бог и все прочее остается, но смысл их иной (брат — по крови, отец — родоначальник, бог — растительность, гроб — материнская земля и т. д.).
Так как образ создает слово (в широком смысле), то возникновение мифа не отличается от возникновения слова, с той только разницей, что область мифа шире области слова. Но там и тут первобытный человек идет не от рациональной логики, которой еще не владеет, — «алогическое», согласно терминологии Леви-Брюля, — а в разрыве с ней. Культура создавалась от проекции человеческих представлений на внешний мир, хотя эти представления и были своеобразным выражением этого же внешнего мира».3
Метафорическая природа имени как наречения предмета сегодня общепризнанно воспринимается вне отношения к каким бы то ни было функциям предмета. Общий закон системы семантизации показывает, что каждое значение имеет особую форму существования, уживается с другими, переходит в них, пребывает в скрытом виде, теряет свой смысл и появляется вновь. Эта полнота жизни слова как имени и лежит в основе его метаморфосиса.
Обретая имя не по качеству, не по признаку, но по внутреннему образу, вещь сама становится именем, тогда как имя становится вещью. Только войдя в исходную парадигму образа явления/вещи, представляется возможным приблизится к «разгадке» имени. Процесс именования носит эвристический характер — имя есть «выхватывание» вещи из тьмы нерасчлененности (= хаоса) и выведение в пространство рефлексии. В определенной мере можно утверждать, что явление/вещь, подвергающееся процессу именования, одновременно представляет собой и субъект, и объект. Как субъект вещь подвергается некоторому эвристическому проникновению внутрь ее ядра-образа, из глубин которого только и может быть исторгнуто имя. С другой стороны, явление/вещь «подсказывает» свое имя, идет навстречу процессу именования, само «навязывает» себя имени. Имя (как слово) есть пограничное пространство встречи вещи и мира — в имени (= слове) они пресуществляются в некое единое целое, обретая новое качествование через функцию называния.