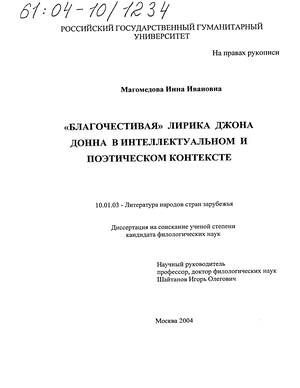Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. «La Corona» Джона Донна: истоки поэтической традиции с. 16
1.1. Сонет-посвящение «Леди Магдалине Герберт о святой Марии Магдалине» Д.Донна и спор об онтологическом статусе слова с. 16
1.2. Джон Донн и Филипп Сидни о достоинстве Музы: «На перевод Псалмов сэром Филиппом Сидни и графиней Пембрук, его сестрой» и «Защита Поэзии» с. 28
1.3. Венок лавровый и венец терновый: «La Corona» и «Астрофил и Стелла» Ф. Сидни с. 42
1.4. Мотивы Музы и музыки в архитектонике лирических циклов Ф. Сидни и Джона Донна с.60
ГЛАВА 2. Архитектоника цикла «La Corona» Джона Донна: структурообразующие мотивы с.71
2.1 . Теологическая грамматика как основа создания образов Троицы и Девы Марии 71
2.2 Рождение личностного начала в свете истории спасения: меланхолия и сонет «Воскрешение»...с.85
2.3. Оппозиция «свет-тьма» как лейтмотив цикла...с. 100
2.3. Проблема жанровой специфики и ближайшего внелитературного ряда цикла «La Corona» с. 111
ГЛАВА 3. Поэзия и вера в век астрономических открытий: "Страстная Пятница 1613 года. Уезжая на Запад" Джона Донна с. 120
3.1 Эвтерпа, внимающая Урании: открытия Кеплера и Галилея в религиозно-поэтической модели мира Д. Донна с. 120
3.2. Топосы пути и пилигрима с.134
3.3. Медитация как поэтический жанр: Донн и Лойола с. 145
ЗАКЛЮЧЕНИЕ с.161
БИБЛИОГРАФИЯ с.168
ПРИЛОЖЕНИЯ с.188
- Сонет-посвящение «Леди Магдалине Герберт о святой Марии Магдалине» Д.Донна и спор об онтологическом статусе слова
- Теологическая грамматика как основа создания образов Троицы и Девы Марии
- Эвтерпа, внимающая Урании: открытия Кеплера и Галилея в религиозно-поэтической модели мира Д. Донна
Введение к работе
Сегодня трудно представить диссертацию о полупроводниках или о рождении сверхновой звезды, написанную на языке поэзии, или в виде учёного трактата либо диалога, выстроенную согласно риторическим правилам. Современное, узко специализированное знание о мире и человеке, освободившись от церковного влияния и опеки, благодаря опыту раскрыло многие загадки мироздания и обрело свой язык в терминологической точности. Но вместе с религиозностью была утрачена синкретичность, сакральность знания и соответствующий им язык тропов1. Истоки этого процесса - в XVII веке, который многие из современных фундаментальных наук считают временем своего рождения из эмбриона теологии2.
Метафизическая поэзия Джона Донна была одной из последних попыток удержать эту синкретичность мышления, поскольку язык концептов позволял сохранить связь христианской мифологии с естественнонаучными открытиями своего времени. Парадокс этой эпохи заключается в том, что многие труды писались во славу Господню, благодаря чему была доказана актуальная бесконечность, научились оперировать с бесконечными величинами, но так и не познали природу бесконечного. А это, как известно, одно из свойств Бога.
Семнадцатый век с легкостью поддается модернизации, так как вопросы, им поставленные, остро звучат и сегодня. Их не трудно перечислить, и все они имеют теологическое происхождение: детерменизм и свобода, структуры континуума и числа, психофизический дуализм, объективность мира внутреннего и внешнего, отношение конечного результата к актуальной бесконечности, взаимодействие конструктивного и созерцательного начал разума. Но модернизация незаметно начинает переходить в реконструкцию, потому что открытия этой эпохи - ответы на вопросы Средневековья и Возрождения.
Отцы церкви, схоласты, а затем и гуманисты пытались переплавить библейское и античное знание о мире в универсальное учение. Но систематизация привела к полемике, и XVII век захлестнули метафизические размышления. Работы, посвященные метафизике можно найти у Декарта, Локка, Г.Мора, Лейбница, Гоббса, Ньютона. Именно с этой метафизикой боролся Кант, а в XX веке Коллингвуд сказал, что метафизика и онтология — разные вещи.
Ф.Бэкону удалось синтезировать эти два пути преодоления гносеологического кризиса. В «Новом Органоне» (1620) он соединил жанр эссе, обращенный к опыту человеческого бытия, со строгой систематизацией областей знания. Учение о земном и преходящем отграничил от метафизики -учения о конечных причинах и формах. Впоследствии химия отделилась от алхимии, астрономия - от астрологии, физика - от метафизики, математика - от нумерологии, филология - от экзегезы и философия — от теологии. Словесность тоже пошла по этому пути, а вслед за ним и наука на долгое время сделала предметом своего изучения преимущественно «светскую литературу», поскольку религиозная всегда телеологична и эпистемиологична. Она обращается к метафизике и имеет утилитарные функции, выходящие за рамки сугубо эстетической или художественной цели.
Но сейчас наблюдается обратная тенденция: современное искусство стремится вернуть себе утраченный синкретизм. Что, естественно, породило интерес к дискурсивным границам, взаимодействию собственно литературных и иных знаковых парадигм. В этом плане религиозная словесность с её непрерывной многовековой традицией даёт обширный материал для исследования данного феномена, что обуславливает актуальность исследования «благочестивой» лирики Джона Донна. Такого рода поэзия оттеняет доминанты, художественно-эстетическую и речевую установку жанров собственно художественной литературы.
В ряд свободных искусств Бэкон включил и поэзию, подчеркивая в ней ведущую роль воображения. В эпоху размывания иерархических границ между ступенями Великой Цепи Бытия3, когнитивными способностями души, свободными искусствами, поэзия оказывается способной проникнуть и в метафизические сферы благодаря воображению, конструктивному началу разума. Однако в следующем XVIII веке, когда от самой поэзии потребуют неукоснительного соблюдения правил и стилистического декорума, ей поставят в вину склонность к научной и философской отвлеченности.
Знаменитый упрек Самюэля Джонсона по поводу «метафизичности» поэзии Донна и его последователей будет результатом размежевания двух истин, провозглашенных Бэконом: Божественной и земной, обретаемой на путях научного поиска. Если наука уводит от целостного знания, то что же способно его обеспечить? Первый ответ можно найти в самом значительном английском трактате, созданном в жанре «поэтики», - в «Защите Поэзии» (1581) Филипа Сидни.
В основе рассуждения о предназначении поэзии лежат посылы «моральной философии» популярной в эпоху Возрождения4. Посредством опыта он оценивает пути, ведущие к совершенству, преодолению греха: «...одни думали, будто столь счастливый дар приобретается знанием, и поскольку нет выше и божественнее знания, чем постижение звезд, то они предались Астрономии; другие, убедив себя, что сравнятся с богами, если познают причины явлений, сделались натурфилософами и метафизиками; кого 3 Лавджой А. Великая Цепь Бытия. M., 2001, - 372 с. 4 Братина Л. M. Итальянский гуманизм. Этические учения XIV-XV веков. M., 1977. то поиск упоительного наслаждения привел к Музыке, а точность доказательства - к Математике. Но все - и те, и другие - были подвластны желанию познать и знанием освободить свой разум из темницы тела, и возвысить его до наслаждения его божественной сущностью»3. В результате сопоставления свободных искусств Сидни приходит к выводу, что только поэзия способна познать многообразные проявления сущности человека и побудить его встать на дорогу добродетели, привести к совершенству кратчайшим путём, не насилуя воли.
Эта способность изначально заложена в самой природе поэтического искусства, божественного по своему происхождению. Вслед за Скалигером он различает три вида поэзии: первая (divine) подражает Богу (Давид в Псалмах, Соломон в Песни песней, Экклезиаст); вторая - природе, обращаясь к философии, этике, истории, астрономии (Манилий, Понтано). Третий вид создают художники-творцы в ренессансном понимании этого слова, «...которые должным образом подражают, чтобы научить и доставить удовольствие, и, подражая, они не заимствуют ничего из того, что было, есть или будет, но, подвластные лишь своему знанию и суждению, они обретаются в божественном размышлении о том, что может быть или должно быть. Именно их как первых и благороднейших по справедливости можно назвать vates»6.
Хотя стилистически Донн как будто бы резко порывает с ренессансной традицией, но, по сути, стремится вернуть поэзии былое синкретическое достоинство и синтезирует уже далеко разошедшиеся пути к совершенству. В своей «благочестивой» лирике Донн пытается восстановить утрачиваемое единство трех видов знания и тем самым преодолеть наступивший онтологический и гносеологический кризис. Как это происходит, можно
видеть, обратившись к стихотворению «Страстная Пятница 1613 года. Уезжая на Запад».
Исходя из жанровой градации словесности в европейских поэтиках XVI века и концепции поэтического творчества, спроецированной на Историю Спасения, представляется уместным словосочетание "divine poetry" перевести на русский язык как «благочестивая поэзия». Поскольку здесь соединяются коннотации слов «religio», «divine» и «devoutness». «Religio» указывает на отношения человеческого с Божественным, несёт отпечаток материального, чувственно воспринимаемого и даже несовершенного7, что позволило эффективно употреблять этот термин и в атеистических сочинениях.
В «divine» заложено значение происхождения поэтического дара от Бога
о
(бого-данный) , совершенство творения; обозначена «обратная связь» с горним миром посредством Благодати Святого Духа, на которую уповает смертный. Слово «благо-честие» предполагает обе стороны: как дающую, так и просящую, поскольку «Благость» оказывается свойством Бога, простирающимся на всё сотворенное им, ибо Он - источник жизни. Чествуя, восхваляя и творя бескровную жертву Богу человек молит о Благо-дати, которая - любовь, милость и сила Господня, искупающая и прощающая грехи заблудшему. Благочестивая поэзия сохраняет связь с горним миром и ритуалом, выходит за рамки индивидуального узкоэстетического опыта.
Ф.Сидни наметил пути «дивинизации» жанров, перехода лирического рода из светской в сакральную сферу: «...в добром согласии с лирой воздает хвалу благим делам [лирический род], учит законам нравственности и не забывает о Природе. Иногда, поднимая голос к небесной выси, он поет славу бессмертному Богу9. Донн пошёл в этом направлении, используя жанровые возможности сонета, элегии. Таким образом, научная новизна обусловлена исследованием феномена дивинизации жанра путём объединения Донном в «благочестивой» лирике трех видов поэзии, описанных Ф. Сидни. Это возвратило искусству былое синкретическое знание о мире и синтезировало далеко разошедшиеся пути к совершенству. Насколько Донну удалось преодолеть онтологический и гносеологический кризис, можно увидеть, обратившись к циклу " Венец " (La Corona) и стихотворению "Страстная Пятница 1913 года. Уезжая на Запад" (Good Friday, 1613. Riding Westward), которое до сих пор трудно поддаётся интерпретации.
В XVII в. кризис мышления связан не столько с распадом старых связей, сколько с осознанием их недостаточности и ограниченности, как в физике, так и в метафизике. Поэтическое слово очень чутко реагирует на новое ощущение всеобщей связи вещей, имен и универсалий. «Strong line» и драматическая напряженность свойственна метафизическому стилю не только из-за сближения далековатых идей, но и потому, что текст разворачивается в силовом поле разных реальностей, нескольких уровней бытия и откликается на другие тексты. Следовательно, для адекватного понимания метафизической поэзии необходим библейский, исторический, теологический, натурфилософский и ритуально-бытовой контекст10.
Донн - создатель нового принципа на старой основе. Сэмюел Джонсон был прав: и мотивы, и жанр, и стилистические формулы, и само остроумие открыты не Донном. Все это черты общего стиля, который принято считать признаком позднего Ренессанса, маньеризма, барокко. Поэт жил в эпоху, которая свёртывает природу вещей и явлений в знак, отторгая видимость от сути, превращая их в знаки самих себя, что наглядно проявилось в эмблеме и алгебраизации математического языка в конце XVI века. Однако в пределах знаковой реальности возникает возможность оперировать предметами в поисках небывалых (далековатых) связей, с целью восстановления целостной картины мира по законам, заложенным Создателем. Метафизический текст -своего рода «интегральное исчисление» поэтического языка.
Не смотря на то, что имя Джона Донна приобретает все большую известность и лучшие стихи существуют в нескольких переводах, его благочестивая поэзия до сих пор требует колоссальных усилий русских переводчиков. И это понятно, так как в национальной русской поэзии не сложилось устойчивой традиции метафизического стиля, или религиозной поэзии, которая смогла бы высветить божественную перспективу обыденного языка. Данный стиль возник в Англии во время формирования европейских национальных языков под влиянием перевода Библии. Трудности возникают вследствие огромной смысловой ёмкости слова, которую поэт максимально реализует благодаря ещё сохранившейся в сознании тонкой связи бытия и логоса. Кроме того, поэтическое слово Донна откликается на теологические, политические, научные, философские дискуссии эпохи, что требует их реконструкции, с которой не всегда справляются даже комментаторы.
Не менее сложно обстоят дела с пониманием и прочтением этого пласта творчества Донна в русскоязычной науке. Религиозные стихи в советский период из-за идеологических соображений считались признаком упадка, нивелировки яркой индивидуальности поэта, что, как полагалось, и привело к угасанию поэтического таланта. Только 1989 году А.Н. Горбунов в своем предисловии к антологии английской поэзии конца XVI — начала XVII веков сказал о несомненных художественных достоинствах «Благочестивых сонетов». Так в конце 80-х годов XX века в России на волне интереса к религиозному сознанию открывают и начинают ценить благочестивого Донна, пытаясь разобраться в этимологии его религиозных концептов. В монографии «Джон Данн. Поэтика и риторика» С. Макуренкова подробно рассматривает тему смерти в ее христианском понимании.
Статьёй «Уравнение с двумя неизвестными: Поэты-метафизики: Джон Донн и Иосиф Бродский» И.О. Шайтанов положил начало компаративистскому изучению «метафизического стиля». Он рассматривает Донна в интерпретации Бродского, а не попутно, как одно из «влияний», формировавших русского поэта. Егорова Л.В. исследовала эволюцию слова Донна (речевое рефлектирующее — потаенное — метафорическое — метафизическое) в жанровом контексте, уделив основное внимание проповедям, составляющим большую часть его наследия.
На материале любовной поэзии, «Годовщин», писем, проповедей B.C. Макаров в диссертации «Религиозно-философские аспекты творчества Джона Донна» раскрывает основополагающие для антропоморфного Микро-Макрокосма понятия иерархии, Кафолической церкви в контексте средневековой и ренессансной философии. Таким образом, центральная фигура в английской поэзии XVII века приобрела более отчётливые очертания для нашего читателя. Но в изучении благочестивой лирики наблюдаются неоправданные лакуны, которые разрушают целостное представление о жанровой преемственности и эволюции поэта.
Это можно сказать и в отношении западноевропейского донноведения. Основной удельный вес приходится на прочтение «Песен и сонетов», элегий, благочестивых сонетов, «Годовщин». В 20-30 гг. в английском литературоведении религиозное творчество Донна осмыслялось в плане проявленности в нём католических и протестантский тенденций. На первое место вышли теологические и биографические вопросы, заслонив саму поэзию. В 1948 году Л. Мартц связал большую часть благочестивых стихотворений Донна с иезуитской медитативной практикой XVI-XVII веков. Но уже в 60-е годы начинается полемика с этой точкой зрения, так как перед нами, прежде всего,— эстетический факт и художественный текст. Большой шаг в преодолении этой концепции сделала Х.Гарднер, создавшая свою школу учеников. Она дополнила концепцию Т.-С. Элиота о чертах метафизического стиля в поэзии Донна. Но до сих пор ставится под сомнение искренность поэтического и религиозного переживания Донна из-за ренегатства из католичества в англиканскую церковь, подчиненности художественного текста риторике, жанровой условности и теологической догме1 Биографический аспект вчитывается в художественный текст Донна неслучайно, поскольку данная эпоха ещё сохранила утилитарную функцию словесного творчества.
Красноречивым свидетельством этому служит полемика Ф. Сидни и С. Госсона, а так же сам выбор жанров Донном: эпиталама, послание, сатира, песня, элегия, памфлет, сонет, гимн, проповедь, медитация, перевод «Плача Иеремии». Его риторически и драматически окрашенная поэтическая речь всегда имела конкретного адресата и была привязана к реальности, сохраняя установку на подчинение косной материи языка благородной форме. Донн, обращаясь к друзьям, возлюбленной, покровителям и прихожанам, апеллирует к узнаваемым ими библейским, поэтическим, теологическим, натурфилософским топосам своего времени, что часто порождает появление похожих образов в разных жанрах, в разное время.
Отсюда возникает ещё одна более или менее ярко выраженная тенденция в изучении творчества поэта: тёмные места в благочестивой поэзии интерпретируются при помощи схожего образа в проповеди. При этом забывают рассмотреть, как данный концепт возник из родного ему текста, кому предназначена речь, и где, с какой целью она звучит. Исследование сводится к откапыванию одних и тех же слов в разных произведениях, напоминая режим поиска в компьютерных программах. Это стремление к формальной каталогизации нарушает принцип историзма, нивелирует жанровую специфику отдельного произведения, унифицирует живой поэтический образ. Хотя при осторожном и точном его использовании, метод, действительно, позволяет выявить творческую эволюцию Донна.
Таким образом, цель данного исследования - рассмотреть благочестивую лирику Джона Донна с точки зрения жанровой специфики, ближайшего внелитературного ряда, интеллектуальной и поэтической традиции. Широта поставленной цели ограничивает в предмете исследования, вследствие чего избраны два произведения, ключевые для понимания эволюции жанра в средний, «middle» период (1601-1615) творчества Джона Донна. Во-первых, это открывающий благочестивую поэзию единственный цикл сонетов "La Corona" (1607), оставшийся недооцененным и непонятым. Как правило, к нему обращаются в связи с образом Распятия, оставляя за пределами анализа архитектонику произведения и динамику концепта. Во-вторых, «Страстная Пятница 1613 года» - последнее стихотворение, написанное Донном перед рукоположением в сан (с этого события начинается новый этап в жизни и творчестве поэта).
Объектом изучения является архитектоника, интеллектуальный и поэтический контекст вышеназванных лирических произведений. Цель и предмет научного изыскания определяют соответствующий ряд задач. На основе представлений об онтологическом статусе слова XVT-XVII веков раскрыть пути сакрализации языка и «дивинизации» жанра сонета и элегии в свете исторической поэтики. Проанализировать речевую установку благочестивой лирики Донна и степень модификации канонических форм внелитературных жанров (литургического гимна, молитвы, медитации, псалма). Реконструировать последовательность развития концепта, лежащего в основе архитектоники цикла «Венец» и стихотворения «Страстная Пятница. Уезжая на Запад». Выявить следы рецепции в благочестивой поэзии Донна раннехристианских, средневековый и ренессансных учений о путях познания и спасения. Определить жанровые доминанты, специфику цикла «Венец» и стихотворения «Страстная Пятница 1613. Уезжая на Запад» посредством идентификации ближайшего внелитературного ряда.
Вышеизложенными целями и задачами определяются методы исследования: сравнительно-сопоставительный (компаративный) в рамках исторической поэтики А.Н. Веселовского и поэтики жанра, как она утвердилась в русской филологической школе. При выявлении связей цикла «Венец» и стихотворения «Страстная Пятница 1613. Уезжая на Запад» с христианской гимнографией и Библией использовались приёмы текстологического анализа. Формальный метод, разработанный Ю.Тыняновым, Р.Якобсоном, В.Шкловским, позволил ответить на вопросы о ближайшем внелитературном ряде, жанровой доминанте и функции данных поэтических текстов. Описание архитектоники благочестивой лирики Джона Донна осуществлено при помощи метода пристального чтения (close riding of the text), введённого Т.С. Элиотом и разработанного школой «New criticism» (Новой критики). Выявление исторического, бытового, политического и интеллектульного контекстов ориентировано на сравнительно-исторический и культурологический опыт школы «биографии идей» (Э.Панофски, А.Лавджой). Анализ теологических доктрин, оказавших влияние на художественную структуру и языковую ткань благочестивой лирики Джона Донна, опирается на метод экзегезы, возрождённый в философско-герменевтических трудах Х.Д. Гадамера12.
Структура работы. Диссертация состоит из введения; трёх глав; заключения; списка источников, литературы, справочных и учебных изданий (350 единиц); семи Приложений. Первая глава «La Corona» Джона Донна: истоки поэтической традиции» посвящена сопоставлению циклов «Венец» Д.Донна и «Астрофил и Стелла» Ф.Сидни. Непосредственный интерес представляет соотношение религиозного и светского начал в цикле, так как он написан, когда Донн еще не принял сан священника, но мысли о служении Богу настойчиво требовали ответа. В связи с этим раскрываются способы трансформации творческих и речевых установок, структурообразующих мотивов в "La Corona", обусловленные переводом Библии на английский язык и сменой адресата (возлюбленная - Господь). Донн избирает апологию «Защита Поэзии» в качестве наставления, а стихотворное наследие (первый в Англии сонетный цикл «Астрофил и Стелла» и стихотворный перевод Псалмов Сидни, 12 Гадамер Х.Д. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М., 1988. - 669 с. основанный на строфике европейских песен) указывает вектор «дивинизации» сонета. Выявляется жанровая перспектива сонета, вобравшего индивидуальное поэтическое слово, молитву, гимн и Слово Божественное.
Во второй главе «Архитектоника цикла «La Corona» Джона Донна: структурообразующие мотивы» основное внимание уделяется проблеме отношения цикла «Венец» к внелитературным бытовым рядам (гимнография Амвросия Медиоланского, «Октоих» Иоанна Дамаскина, Псалмы, литургия, богословские сочинения). Установка метафизической поэзии на присутствие собеседника приводит к сложной местоименной игре внутри метафизического текста, что позволяет Донну решить в русле догматического учения тринитарный вопрос и проблему «беспорочного зачатия» Богородицы. Исследуется развитие лирической и эпической линий сюжета «La Corona», подчиненных принципу контрапункта, который организует основные структурообразующие мотивы: освобождение лирического героя от тяжести греха и его спасение от двойной смерти в свете истории Боговоплощения и Искупления.
Третья глава «Поэзия и вера в век астрономических открытий: "Страстная Пятница 1613 года. Уезжая на Запад" Джона Донна», рассматривает пути преодоления релятивизма, возникшего вследствие пересмотра астрономической концепции мироздания и теологических разногласий между католиками и протестантами по поводу календарной реформы. Лирический герой предстаёт в образе пилигрима, который странствует не только по Англии или к смерти, но сейчас путь его медитирующего разума лежит сквозь преграды греховности в метафизическое пространство в поисках истины. Способ медитации, рекомендованный Лойолой как основной путь к Богу, исключается в силу пространственных, временных, метафизических и этических причин. Жанр элегии трансформируется под влиянием теологических, астрономических трактатов, исповеди, библейского текста, молитвы. Как в "La Corona", так и в "Good Friday, 1613. Riding
" основой архитектоники концепции Донна является понятие формы и движения, наполненные сакральным смыслом.
В приложениях помещены репродукции «Меланхолии» и карт звёздного неба, выполненных Дюрером; созвездий из атласов Байера, Яна Гевелия; титульного листа издания 1621 года «Анатомии Меланхолии» Р. Бёртона и текст «Богородичных догматиков» Иоанна Дамаскина.
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы при чтении лекционного курса по истории западноевропейской литературы XVI-XVII, а так же для семинаров по истории английской литературы и культуры XVI-XVII веков.
Апробация работы. Авторская концепция была представлена в докладах на XII Пуришевских чтениях (Всемирная литература в контексте культуры): «Терновый венец и начало религиозной поэзии Джона Донна»; на кафедре сравнительной истории литератур: «Онтологический статус слова и благочестивая лирика Джона Донна»; обсуждалась на семинарах «англорусские литературные связи» и «литературное страноведение эпохи Возрождения в Англии» в Российском государственном гуманитарном университете.
Сонет-посвящение «Леди Магдалине Герберт о святой Марии Магдалине» Д.Донна и спор об онтологическом статусе слова
«La Corona» принадлежит к числу ранних религиозных произведений Донна (1607). Венок сонетов был преподнесен Джоном Донном покровительнице Магдалине Герберт. Поэт дарит Евангелие в семи сонетах в память о Марии Магдалине, верной ученице Христа. Циклу, как полагал Грирзон, был предпослан сонет-посвящение «Леди Магдалине Герберт о св. Марии Магдалине» («То the Lady Magdalene Herbert: of St. Mary Magdalen»). Основанием для данного вывода послужило письмо, адресованное Донном Магдалине Герберт из Митчема 11 июля 1607 года, которое было напечатано Исааком Уолтоном в «Life of Herbert» (1670 г.) Вышеназванный сонет Уолтон поместил после этого послания, заканчивавшегося словами: «By this Messenger, and on this good day, I commit the inclosed Holy Hymns and Sonnets...to your judgment, and to your protection too, if you think them worthy of it; and I have appointed this inclosed Sonnet to usher them to your happy hand»13. В факте посвящения можно усмотреть образец комплиментарной поэзии, что вполне соответствует условности самого жанра сонета. Но степень искренности и важности этих отношений можно понять, если вспомнить, что поэт считал леди Герберт своей духовной матерью, ведь с переходом в англиканство он утратил связь с крестной.
Тайная женитьба в 1601 году на Энн Мор, племяннице Лорда Эджертона, положила конец светской карьере поэта и стала началом долгого пути к сану священника, который в 1607 году рекомендует принять королевский капеллан Томас Мортон. Таким образом, цикл «La Corona» написан, когда мысль о служении Богу настойчиво ожидала ответа. С переходом в Англиканскую церковь в творчестве Донна, в письмах, теологическом трактате «Псевдомученник» наблюдается устойчивая тенденция сознательного отторжения / переосмысления не только семейной католической традиции, но и своего религиозного релятивизма и скептицизма девяностых годов XVI века. Так, в третьей сатире поэт критически высказывался и в адрес протестантских церквей.
В эти годы (так называемый средний «middle» период 1601-1615) Донн нашёл духовный приют и в семье Гербертов14. Старший сын, поэт и философ, Эдвард стал ему другом. Младшего, Джорджа, в 1626 году доктор Донн рукоположит в сан диакона и будет ему духовным наставником, что найдёт своё отражение и в поэтической преемственности, так как цикл «Храм» непосредственно продолжает, развивает поэтический образ одноимённого сонета из "La Corona".
Сонет-посвящение и весь цикл можно рассматривать как знак почтения. Духовное родство и послушание демонстрируется не только тематикой, но обращением к семейной поэтической традиции. В качестве эталона Донн избирает сонет Филиппа Сидни, который приходился дядей мужу Магдалины Герберт, лорду Ричарду Герберту, умершему в 1598 году. Жизнь Сидни (1554-1586) стала образцом мужественности для многих: рыцарь веры, ревностный служитель церкви и Англии, верный вассал королевы, галантный придворный, страстно влюблённый поэт, переводчик Псалмов, погибший на поле брани. Донн возвращается к безупречной манере и музыкальности елизаветинского «золотого стиля», чтобы на английском языке в благородных формах достойно подражать материи высшего порядка - Слову Божию. Ни в одном другом произведении Донна нет столь строгого равновесия между словом человеческим и божественным, индивидуальным и всеобщим, разумом и верой, видимым и неизреченным, преходящим и вечным. Формальные и содержательные компоненты взаимосвязаны на фонетическом, графическом, синтаксическом уровнях: являют собой эмблему .
А.Н.Горбунов считает, что произведение «...удалось прежде всего как виртуозный эксперимент, где умственное начало преобладает над эмоциональным» , что мы в России начала XXI века не склонны наделять «высоким художественным уровнем». Доминирование разума над верой заставляет сомневаться и в последней, так как религиозный опыт облекается внешним словом, выносится из тайников души и тем самым удаляет поэта от истины. Ведь в эксперимент вовлечены на только изыски формальные и жанровые, но и предметы, связанные с постижением Божественного. В эпоху кризиса материальной стороны знака, утраты словом онтологического статуса человек невольно искажает истину в акте риторического высказывания. А если учесть, что перед нами жанр сонета, который уже подчинен условности, у А.Н. Горбунова есть еще более серьезный повод считать, что «La Corona» - только духовное упражнение, в котором поэт эффектно использовал свое мастерство. Но есть веские основания полагать, что в данном случае вещь, имя и универсалия наделены онтологическим статусом.
Теологическая грамматика как основа создания образов Троицы и Девы Марии
На протяжении всего цикла поэт ни разу не называет Имя Господа, поскольку Бог может явиться только посвященным в назначенный срок: «This time that heart and voice be lifted high; I Salvation to all that will is nigh». Донн «всматривается» во внутреннее смысловое пространство слова в поисках отсвета на нём божественного бытия. Истинное Имя Бога совпадает с его сущностью, и поэтому человек не способен узнать его в силу своей греховности. Но поэт ни разу не обращается к апофатическому богословию, посредством которого, по мнению Николая Кузанского, «...Скорее находят небытие, чем бытие Бога. И если ищут Его утвердительно — находят Его только через подражание, скрытым, не обнаруженным. ... он [Дионисий Ареопагит] выходит за пределы разделения к сочетанию (copulacionem) и совмещению противоположностей (coincidenciam), к простейшему единству ... где отъятие сочетается (coincidit) с положением и отрицание с утверждением»77.
Смертный может приблизиться к Абсолюту, познавая Его отдельные качества и некоторые свойства: «Deign ... Thou which of good hast, yea, art treasury, / All changing unchanged Ancient of days». Донн, описывая Творца посредством атрибутов, следует теологическому обоснованию Дионисием Ареопагитом «многоименности» Бога. В трактате «О божественных именах» теолог систематизировал слова и тропы, которыми обозначен Творец в Священном Писании и литургических текстах . В частности, он полагал, что Бога «...можно воспевать и как Вечность, и как Время - как причину и всего времени, и вечности и Ветхого денми .. . , поскольку Он - и до вечности, и выше вечности... »79
Второй способ, который позволяет Донну не только предать свойства Бога и узнаваемые события Священной Истории, но и обратиться с молитвой и хвалой к Царю Небесному, - употребление местоимений. Неопределенность, с которой местоимение указывает на предмет, даёт возможность приблизиться к более сложным теологическим построениям уже в первом сонете. Речь идет о тринитарном вопросе. Доктрина о троичности Бога была лаконично сформулирована в апостольском Символе Веры80, принимавшемся всеми протестантами81. Но возникает вопрос: лирический герой обращается к Богу, единому в трех Лицах или к одной из его ипостасей? Первый катрен, действительно, не различает их, но уже во втором с появлением притяжательного местоимения «thy» отчётливо вырисовывается облик Христа: «But what thy thorny crown ... A crown of glory, which doth flower always. / The ends crown our works, but thou crown st our ends».
Так слово «thou» получает теологически «многосмысленный» статус. Все три Ипостаси объединяются местоимениями «thou» и «hee», поскольку в грамматически один и тот же субъект предстает то первым, то вторым, то третьим лицом, не меняясь в своем существе. Этот аргумент в полемике о Троице привел Петр Абеляр в XII веке, положив начало развитию в богословии «божественной грамматики», которая просуществовала вплоть до XVII века. Актуальность этого вопроса подтверждают трактаты по логике протестанта Рамуса, написанные во второй половине XVI века. Черта метафизического стиля, названная Хелен Гарднер, «игрой местоимениями» и тео-логия органично соединились им подняли текст до анагогического уровня прочтения.
Путь к спасению от греха лежит через милосердие Бога - Его рождение в человеческой плоти. Донн в сонете «Благовещенье» словно вторит Кальвину: «Поскольку же Бог не может испытать смерть, а человек - победить ее, Он соединил человеческую природу со своею, дабы через смертность первой очистить и освободить нас от наших злодеяний, а силою второй достичь ради нас победы над смертью» : «Which cannot sin, and yet all sins must bear, I Which cannot die, yet cannot choose but die, I Lo! faithful Virgin, yields Himself to lie /In prison, in thy womb; and though He there I Can take no sin, nor thou give, yet He ll wear, / Taken from thence, flesh, which death s force may try».
Эвтерпа, внимающая Урании: открытия Кеплера и Галилея в религиозно-поэтической модели мира Д. Донна
В рукописи, содержащей тексты, написанные Донном и Гудьером, составленной, как полагает Болд154, кем-то, имевшим доступ к бумагам последнего, "Страстная Пятница" озаглавлена "Mr. J.Donne goeinge from Sir H.G. on good fiyday sent him back this meditation, on the Waye". Возникает закономерный вопрос, поэт или компилятор назвал стихотворение медитацией? Но даже если не сам автор определил жанровую принадлежность, то факт рецепции даёт представление об особенностях жанрового мышления эпохи, социальной функции религиозной поэзии и является поэтическим документом, зафиксировавшим очередной и очень важный шаг Донна к рукоположению. Ещё в 1607 году Мортон советовал Донну принять священство, но, по мнению поэта, препятствием была молва о его поэтической легкомысленности, развращённости, ренегатстве, религиозном релятивизме, скептицизме, характерном и для эпохи в целом.
В этот период жизни, большей частью, проведённый в Митчеме и окрашенный в тона мрачной меланхолии, Донн регулярно по вторникам писал письма Генри Гудьеру. Эта переписка приносила утешение: предметом обсуждения были не только бытовые темы, но и политические, этические, духовные. Не редким был обмен и стихотворными посланиями. "Good Friday, 1613. Riding Westward", написанное в дороге, — одно из них. Почему возникает потребность облечь в метрические одежды формы бытовой речи? В какой степени это меняет жанр, отношения между автором и адресатом?
Как полагает И. О. Шайтанов, говоря о посланиях Донна, «...не смотря на то, что речевая установка дружеского послания как будто бы неизменна, но изменилось речевое пространство, в котором она действует: оно обретает качество всемирности и придаёт единичному характер всеобщности...»155 Но в стихотворении меняется и сам адресат, так как лирический герой в конце уже взывает к Богу. Муза стремится примирить лирического героя с людьми, поэтому медитация обращена не только к Господу, но адресована к братьям и сестрам во Христе. Именно для них опыт духовного размышления воплощён во внешнем поэтическом слове. Конкретно-биографические, астрономические, исторические обстоятельства становятся отправной точкой, неким знамением, знаком состояния мира и человека.
Общеизвестна гипотеза Л.Мартца, что образная система религиозной поэзии Донна развивается под влиянием католического воспитания и спиритуальной практики Лойолы156. Согласна с ней в основных моментах и Хелен Гарднер, которая приходит к выводу, что «Страстная Пятница» - это рассудочная медитация (discursive meditation) . Но уже в третьей сатире Донна проявлена полемическая позиция по отношению к земным церквям, особенно к Римской. Хотя он не впадает в безверие, а стремится найти Истинную Церковь и позже принимает англиканство. Позже Донн пишет сатирический памфлет "Игнатий и его конклав", "Псевдомученик", направляя остриё своего ума против католических святынь. Не исключение и проповеди, где он часто выражает несогласие с экзегезами иезуитов и критикует Вульгату за неточность перевода.
С первых строк стихотворения ставится под сомнение власть над поэтом спиритуального упражнения, предписываемого иезуитами. Донн обращается к абстрактно-астрономическому образу, тогда как в "Духовных упражнениях" даже в размышлении о предметах невидимых (о грехах и душе) рекомендуется прибегать к помощи чувственного восприятия: "...представление места будет такое: вообрази душу свою в тленной плоти, как бы в темнице, а самого себя -душою и телом, как бы изгнанником в этой юдоли, среди лютых зверей" . Исток подобных зримых картин восходит к средневековому аллегорическому сознанию. Конечно, такие "мелочи" можно отдать на откуп творческому воображению, либо сослаться на то, что Донн принял англиканство и вовсе не обязан строго следовать жесткому канону Лойолы, регламентирующему что, когда, как, где, в каком состоянии делать в соответствии с почасовым расписанием в течение дня, недели, месяца.
Каково происхождение и функции этого чрезвычайно сложного геометрического, астрономического и векторного образа? Не ответив на этот вопрос, невозможно до конца понять многие коннотации словоупотреблений и движение концепта, которому подчинена архитектоника стихотворения. Донн избегает характерного для католицизма конкретно-чувственного образа и обращается к интеллектуальному абстрагированию, способному приблизить к метафизической сущности явления. Для эпохи Возрождения этот метод теологически обосновал Н. Кузанский в трактате "Об учёном незнании": "...мы можем ныне избрать себе путеводителем [к Божественному] математические знаки, вследствии их непреходящей достоверности"159. Чистая мысль в геометрии овеществляется, а чувственное восприятие в ней очищается, предстает как более "тонкая" геометрическая материя.