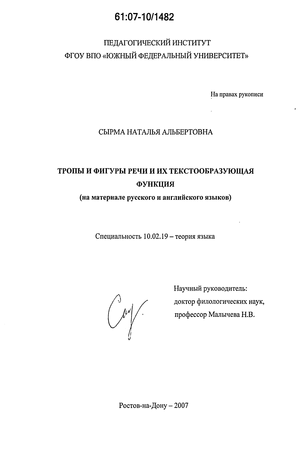Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Теоретические основы и принципы исследования 9
1.1. Проблема определения текста в зарубежной и отечественной лингвистике. Текст, дискурс и сложное синтаксическое целое (ССЦ) 9
1.2. Понятия «тропы» и «фигуры речи» в работах теоретиков древности, Ренессанса и Просвещения и их классификации 21
1.3. Понятия «тропы» и «фигуры речи» в работах современных отечественных лингвистов 25
1.4. Понятия «тропы» и «фигуры речи» в работах современных западных лингвистов - 51
Выводы по первой главе 64
Глава II Текстообразующая функция тропов и фигур речи при формировании основных категорий текста 66
2.1. Иерархия текстовых категорий в аспекте тропонимии 67
2.2. Категория персональное 91
2.3. Категория когезии 132
2.4. Категория когерентности 147
Выводы по второй главе 156
Заключение 158
Библиография 162
- Проблема определения текста в зарубежной и отечественной лингвистике. Текст, дискурс и сложное синтаксическое целое (ССЦ)
- Понятия «тропы» и «фигуры речи» в работах современных западных лингвистов
- Иерархия текстовых категорий в аспекте тропонимии
- Категория когерентности
Введение к работе
Данное исследование посвящено комплексному анализу тропов и фигур речи и их текстообразующей функции в русском и английском языках. Как известно, в лингвистических исследованиях лишь некоторые стилистические и грамматические приемы рассматривались в качестве одного из средств создания текстов.
Несомненно, что тропы и фигуры речи выступают в качестве основного компонента любого художественного текста. С появлением нового направления в лингвистике - лингвистики текста тропы и фигуры речи анализировались весьма фрагментарно, поскольку долгое время считалось, что данные языковые средства принадлежат к области исследования риторики и стилистики.
Несмотря на то, что тропам и фигурам речи еще с античности посвящено немалое количество работ (см., например, работы Цицерона, Квинтилиана, П. Рамуса, А.Н. Веселовского, СВ. Ильинского, О.С. Ахмановой, Т.Г. Хазагерова, Л.С. Шириной, Н.П. Кнэхт, Е.Н. Зарецкой, Л. Бенсона, О. Бертона и др.) следует отметить, что ни в одной из них данные приемы не рассматривались с точки зрения лингвистики текста. В работах выдающихся западных лингвистов (таких как, например, Е. Буллингер, В. Тайлор, Р. Ланхам, К. Вилер) преобладает структурность определений и классификаций тропов и фигур речи. В основном все ученные считают тропы и фигуры лишь украшением произведения или речи, но не основным компонентом ее построения и реализации.
Объектом изучения являются тропы и фигуры речи в русских и английских художественных текстах.
Предмет настоящего исследования составляет система семантико-синтаксических отношений, складывающихся между тропами и фигурами речи и их текстообразующая функция.
Актуальность исследования состоит в том, что предлагаемая диссертация не только продолжает традиции исследования семантико-синтаксических приемов риторики и стилистики, но и рассматривает их в русле приоритетно нового направления в качестве средства, которое формирует текст в русском и английском языках.
Текстообразующая функция тропов и фигур речи не имеет четкого описания в современной теории языка, несмотря на то, что в текстовых условиях и в системе средств выражения ведущих категорий - персональное, когезии и когерентности им принадлежит значительная роль.
Целью данной работы является описание структурных, семантических и функциональных особенностей тропов и фигур речи в качестве типичного признака художественного текста, а также описание и анализ их текстообразующей функции.
Для достижения данной цели в работе ставятся следующие задачи:
- классифицировать и дать определение тропам и фигурам речи
как основным компонентам текстообразования;
определить динамику употребления тропов и фигур в художественном тексте в русском и английском языках;
выявить категории текста, которые формируются с помощью тропов и фигур речи;
описать специфику реализации тропов и фигур речи в текстообразовании.
Методологическая база исследования. Диссертационное исследование опирается на диалектический принцип познания действительности, состоящий в учете всеобщей связи явлений в природе, обществе и сознании, закона перехода количественных изменений в качественные, представления о диалектических антиномиях общего и частного, конкретного и абстрактного, материального и идеального, индуктивного и дедуктивного методов познания.
В работе используются понятия и подходы иных гуманитарных областей знания - психологии, логики, теории познания. В ряде случаев к материалу применяется комплексный филологический подход.
Общенаучной основой послужили теории В.В. Виноградова, Т.А. ван Дейка, В.Г. Костомарова, Е.И. Дибровой, СБ. Кураш, Т.Г. Хазагерова и Л.С. Шириной.
Частнонаучными предпосылками и базой исследования стали идеи Е.Н. Зарецкой, Н.В. Малычевой, Е.Ю. Стратийчук и других.
В работе использовались различные методы исследования: описательно-аналитический, метод сопоставления, метод наблюдения и моделирования, приемы методов трансформации, лингвистического эксперимента и количественной оценки.
Следует отметить, что эти методы не использовались изолированно друг от друга: анализ проводился комплексно с привлечением на каждом этапе работы тех приемов и методов, которые более всего удовлетворяют поставленным целям и задачам исследования.
Основной метод исследования - метод лингвистического наблюдения и описания конкретных языковых фактов с целью
получения обобщенных данных. Наряду с этим осуществлялся дедуктивный подход, поскольку на исследование проецируются теоретические посылки существующих научных концепций. Ряд понятий в силу их общеизвестности используется априорно. Фрагментарно используются в работе понятия и подходы иных гуманитарных областей знания - психологии, психолингвистики, логики, теории познания. В ряде случаев применялся комплексный филологический подход.
Материалом для исследования послужили тексты, взятые из произведений художественной литературы конца XIX и XX в.в., английских авторов: Jane Austin, William Thackeray, Charles Snow, Graham Green, и их переводные варианты на русском языке, а также русских авторов аналогичного временного промежутка: Н.А. Бестужева, А.П. Чехова, М. Булгакова и И.А. Бунина. Общий корпус примеров составил более 3000 текстовых фрагментов.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Под тропами понимаются средства создания ткани текста, которые реализуются на уровне слова или словосочетания, а под фигурами речи — средства создания ткани текста, которые реализуются в определенном смысловом отрезке, равном предложению или большем, чем предложение. В основу классификации положено представление о том, что некоторые приемы могут быть не только тропами или фигурами, но так же принадлежать в зависимости от замысла автора и грамматико-стилистических особенностей текста и к той и другой группе. Переходные приемы мы относим к схемам. В нашем понимании схема - это «слайдинг» текстообразования (от лат.зіісіи^ переход), т.е. в зависимости от замысла автора, схема может
интерпретироваться в одном тексте, как троп, а в другом, как фигура речи.
2. Любой художественный текст содержит тропы и фигуры речи, их динамика употребления зависит от автора и возможности с точки зрения семантики, грамматики передать их адекватно на язык перевода. Особую роль при языковой трасформации играет культурологический аспект, в особенностях с тропами антономазии и аллюзии.
3.Тропы и фигуры речи формируют такие категории как персональность, когезия и когерентность. Взаимосвязь данных категорий доказывает тот факт, что некоторые тропы и фигуры речи могут участвовать в образовании нескольких категорий текста одновременно, так, например, асиндетон и полисиндетон формируют все три категории, а гипербола -категории персональное и когерентности.
4. Под текстообразующей функцией тропов и фигур речи понимается их способность передавать разнообразные оттенки смысла и способности реализовывать коннотативные значения на основе общности значения, закрепленного за ними в языке и речи. Текстообразующая функция тропов и фигур речи опирается на их способность модифицировать, трансформировать свое основное значение в процессе речевой реализации, т.е. в процессе создания текста. Текстообразующая функция тропов и фигур речи проявляется не только на семантическом, но и на структурном (строевом) и композиционном уровне.
Научная новизна работы заключаются в принципиально новом подходе к исследованию места, роли и состава тропов и фигур
речи как особого средства связи текстового пространства, а также их тестообразующей функции в русском и английском языках.
Многоаспектный структурно-семантический и коммуникатиный анализ исследования позволил выявить дифференциальные признаки тропов и фигур речи и создать их классификацию на основе практического и теоретического материала.
Теоретическая значимость определяется тем, что в диссертации предлагается комплексное системное описание тропов и фигур речи в качестве средства связи компонентов текста. Теоретическое обоснование полифункционального характера тропов и фигур речи с учетом их текстообразующей функции позволило выявить их уникальный статус не только как средства выразительности, но в первую очередь, как одного из главных компонентов текстообразования, что соответствует одной из приоритетных задач современной теории языка.
Работа вносит вклад в развитие теории языка, лингвистики текста и стилистики.
Выводы и основные положения данного исследования открывают перспективу дальнейших исследований в области лингвистики текста.
Практическая ценность диссертации заключается в возможном использовании ее материалов, результатов и выводов в процессе преподавания вузовских курсов современного английского и русского языков, теории языка, теоретической грамматики, лингвистики текста, стилистики, лингвистического и филологического анализа художественного текста.
Апробация работы. Основные положения диссертации и результаты исследования излагались в докладах и сообщениях на
международноых научно-практических конференциях, на научно-методических семинарах кафедры русского языка и культуры речи Педагогического института ФГОУ ВПО «Южный Федеральный университет» (2005-2007).
По теме диссертации опубликовано 5 работ, общим объемом 1,5 п.л., из них - 5 статей, в том числе в изданиях ВАК РФ -1.
Структура диссертационного исследования определяется реализацией поставленных в ней задач и доказательством выносимых на защиту положений. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и библиографического списка.
Проблема определения текста в зарубежной и отечественной лингвистике. Текст, дискурс и сложное синтаксическое целое (ССЦ)
Двадцатый век наряду со многими информационными новшествами также внес свой значительный вклад в лингвистику. Утверждение Н.А. Слюсаревой, что «текст с одной своей стороной повернут к литературоведению, а другой - к языкознанию», четко определило основу нового направления (Слюсарева 1982: 41). Мысль М.М. Бахтина о том, что текст выступает в качестве первичной данности всего гуманитарно-философского мышления и является той непосредственной действительностью, из которой могут происходить эти дисциплины, еще более расширила горизонты новой науки, лингвистики текста (Бахтин, 1979). Действительно, на определенном этапе развития литературоведение и лингвистика должны были соединиться, чтобы открыть новый потенциал для исследования, шире обратиться к самому объекту исследования к тексту. Сначала текст был обыкновенным материалом для анализа лингвистов и литературоведов, затем рассматривался как «среда, в которой функционируют различные языковые единицы» (Бабенко, Казарин, 2006: 12). Сам феномен текста стал исследоваться многими учеными в контексте разных научных дисциплин, таких, как поэтика, психолингвистика, антропология, семиотика и др. Живой интерес исследователей сформировал окончательно новую отрасль в лингвистике, а именно лингвистику текста. Е.С. Кубрякова считает, что появление лингвистики текста было реакцией на старую научную парадигму (Кубрякова, 1983, 50). Действительно, в самой отрасли лингвистики изменился подход от структурно-систематизирующего к функциональному. Стремительное развитие лингвистики текста обусловлен также своеобразной реакцией на ограниченность исследований американского структурализма, когда не учитывался тот факт, что язык по своей сущности и функции -явление всегда социальное и всегда реализуется в определенных ситуациях и социальных контекстах. Бесспорно, лингвисты не могли согласиться с тем, что предложение относится к высшему уровню языковых единиц. Появилась точка зрения, что в качестве высшей единицы языка должен рассматриваться текст.
Существуют разные подходы к вопросу об отнесенности текста к феноменам языка или речи. На настоящем этапе мнение В.А. Бухбиндера о том, что текст синтезирует в себе «языковые сущности и речевые свойства. Он одновременно единица языка и произведение речи» (Бухбиндер, 1978: 30-31), является весьма важным в исследовании текста.
Сначала под текстом понималась просто последовательность предложений, связных по смыслу друг с другом в рамках общего замысла автора. Поэтому возникла необходимость выделить виды этой связи и правила ее передачи. При этом лингвистика текста была лингвистикой именно связного текста. В процессе выделения особых средств связи текста ученые обращали внимание на средства межфразовой связи, которые включали лексические и словообразовательные повторы, дейктические местоимения, союзы, сосуществующие с семантическими отношениями типа «часть-целое», порядок слов. Весь синтаксис строился на уподоблении межфразовых связей и связности внутри сложного предложения. Однако сами средства межфразовой связи еще не создают связности текста. Их можно рассматривать лишь в качестве выражения связности. Можно создать внешне абсолютно правильный текст, отличающийся, тем не менее, несоответствием между связностью плана выражения и несвязностью мысли, хотя сложно построить текст без специальных законов и правил связности.
Одновременно с этими процессам весьма актуальным стал вопрос о единице большей протяженности, чем предложение, например, о сложном синтаксическом целом (далее - ССЦ). Данный научный поиск способствовал в свою очередь анализу внутренней организации текста. Кроме общепринятых лексических и грамматических основ связности текста особенно важной оказалась содержательная сторона.
В современной лингвистической литературе с начала XX века по настоящее время накопилось более 250 определений понятия «текст». Такое большое количество интерпретаций свидетельствует о том, что проблема определения текста остается едва ли не самой сложной. В настоящее время на базе многих лингвистических вузов всего мира исследуется текст и разрабатывается лингвистика текста.
В зарубежной лингвистике так же наблюдается повышенный интерес к исследованию тексту. Профессор университета Флориды Роберт де Бёграндэ (Robert de Beaugrande) в своем научном труде «Текст, дискурс, текстология» (Text, Discourse, and Process Toward a Multidisciplinary Science of Texts) выделяет три основных фазы развития лингвистики текста и понимания самого термина «текст». На самой ранней фазе, которая продолжалась до 1960-х, Роберт де Бёграндэ отметил появления интереса к понятиям «текст» и «дискурс», как к будущим главным объектам лингвистического исследования. Среди самых первых зарубежных ученых, которые обратили свои взоры к этим двум понятиям были Бюлер (Buhler) 1934, Хелмслев (Hjelmslev) 1943, Харрис (Harris) 1952, Фирт (Firth) 1957, Козериу (Coseriu) 1955, Карлсен (Karlsen) 1959, Хартман (Hartmann) 1964 и др. Но в то время в лингвистике не существовало даже методологии для начала такого глубокого исследования. Зарубежные лингвисты обращали свое внимание в основном на минимальные единицы - отдельно взятые предложения, что отвлекало и отводило от исследования текста в целом.
В 1968 зарубежные лингвисты Пайк (Pike) 1967, Краймс (Crymes) 1968, Дик (Dik) 1968, Харвег (Harweg) 1968, Изенберг (Isenberg) 1971) сошлись во мнении, что «лингвистика должна быть выше предложения». В это время некоторые ученые Вотерхауз (Waterhouse) 1963, Харпер (Harper) 1965, Вилер (Wheeler) 1967, Харпер и Су (Harper & Su) 1969) все еще рассматривали текст как единство предложений. Единственным препятствием в то время было то, что само единство текста, по мнению профессора Роберта де Бёграндэ, оставалось неохваченным и вообще не изучалось.
Понятия «тропы» и «фигуры речи» в работах современных западных лингвистов
Самыми известными в зарубежной лингвистике авторами, которые занимались исследованиями тропов и фигур речи являются Е.В. Булингер «Фигуры речи в Библии» (E.W. Bullinger, Figures of Speech in the Bible, 1989), Ли А. Сонито (Lee A. Sonnino, 1968), Варен Тайлор (Warren Taylor, 1972), Артур Кин (Arthur Quinn, 1982), Бернард Дупьез (Bernard Dupriez, 1984), Ричард Ланхем (Richard Lanham, 1991), Гидеон О. Бертон (Gideon О. Burton, 1996), Грант Вильяме (Professor Grant Williams, 1980), Варен Тайлор (Waren Ту lor, 1973), Л. Кип Вилер (Dr. L. Kip Wheeler, 1989), профессор Кастаньеда (Dr. Castaiieda, 1990). В отличие от отечественных лингвистов представители западных школ пользуются как греческой, так и латинской терминологией. Помимо понятий «троп» и «фигура речи» в зарубежном языкознании присутствует термин «схема». В основу классификации тропов и фигур речи зарубежных ученых положены несколько признаков, а именно:
- лексико-грамматический
- функциональный - когерентный
- лингвистический
- социо-психологический
- психолингвистический
- филологический
Представителями лексико-грамматической классификации тропов и фигур речи являются американские исследователи профессор Лаури Бенсон (Laurie Benson), Гидеон О. Бертон (Gideon О. Burton) университета риторики имени Бригхема Янга (Brigham Young University), США и представитель лингвистической школы при Колледже Карсон-Ньюмэн в Тенессе (Carson-Newman College in Tennessee) доктор Л. Кип Вилер (Dr. L. Kip Wheeler).
Под фигурами речи ученые понимали отклонение мысли от привычного метода письма и говорения и подразделяли их на:
схемы - отклонение в организации
тропы - отклонение от обычного значения
Профессор Гидеон О. Бертон так же выделял отдельно «фигуры мысли» (figures of thought) как особый вид фигур речи. С точки зрения профессора, как схемы, так и тропы связаны с непривычным, переносным значением. (Burton, 1971:300).
Профессор Гидеон О. Бертон помимо определения понятий выделяет следующие виды тропов, которые он относит к фигурам речи и классифицирует схемы:
Профессор Кип Вилер определял схемы как фигуры речи, которые связаны не только с порядком слов и организацией речевого высказывания, но и синтаксисом, буквами и звуками. (Dr. L. Kip Wheeler, http://web.cn.edu/kwheeler/index.html).
Представителями функционального способа классификации тропов и фигур речи являются профессор Кастаньеда (Dr. Castaneda) и Турко Льюиса (Turco Lewis). Профессор в работе «Символы, знаки, метафоры, тропы, представление, речевые акты и другие спекулятивные идеи» (Symbols, Signs, Metaphors, Tropes,
Representation, Speech Acts, And Other "Speculative Ideas) относит тропы и фигуры речи к «метафорам в широком смысле этого понятия» (Castaneda, 1994: 3). Таким образом, важным становится не дифференциация терминов, а функция стилистического приема. Кастаньеда ассоциирует фигуры речи с «поэзисом» (поэтическим языком), а тропы, «корневые метафоры (root metaphors) - те метафоры, которые наиболее четко помогают сформировать и выразить наши мысли» с любым текстом. (Castaneda, 1994: 8). В этом случае тропы выполняют следующие функции:
- отношения к знаку
- грамматическо-синтаксической единицы
- риторическую
- организации слов (arrangements of words)
В отличие от профессора Кастаньеды, Турко Льюис вообще не разграничивает понятия «тропы» и «фигуры речи». В основу классификации профессор положил смысловую нагрузку, которую несут тропы в предложении, а также ту литературную функцию, которую они выполняют. Приемы формируются по группам, первую составляет описатели (descriptions), к которой относятся сравнение, аналогия, контраст, аллюзия, гипотипосис (описание реальных вещей), прагматография (описание действий), топография (описание реальных мест), икона (описание двух похожих между собой людей), просопография (описание никому неизвестного человека, выдуманного персонажа), парабола (описание выдуманного сравнения), сложный эпитет (соединение двух описательных слов в одно) оксюморон. В отдельную группу выделяется метафорические тропы или метафорические конструкции, к которым Турко Льюс относит катахрезис, подчиненную метафору (спрятанная в контексте), исчезающую метафору, органическую метафору (логически требуемая контекстом), добровольную метафору, смешанную метафору, тщеславие (термин автора для распространенной метафоры) и аллегорию. Третью группу составляют риторические тропы анифразис, атеизмус (высмеивание), чарейтизмус (добродушная шутка), ирония, меозис (Turco, 1973:105).
Иерархия текстовых категорий в аспекте тропонимии
После того, как мы дали определение тексту, уместно было бы обратиться к вопросу о его категориях, а так же рассмотреть их в контексте тропонимии.
Категория с философской точки зрения - это «предельно широкое понятие, в котором отображаются наиболее общие и существенные признаки, связи и отношения предметов, явлений объективного мира» (Кондаков, 1975:240). Выявление и характеристика категорий является одной из самых важных и ключевых задач лингвистики. В данной работе исследование категорий текста также важны, поскольку тропы и фигуры текста формируют категории текста, тем самым, выявляя текстообразующюю функцию.
Категории текста и категории предложения отличаются друг от друга и сочетаются на уровне целого и частного. Категории текста гораздо шире, чем категории предложения. Категории текста помогают выявить существенные признаки текста, а также его онтологические, гносеологические и структурные признаки. Категории текста универсальны, поскольку обнаруживаются в любом связном тексте, написанном на любом языке мира.
В настоящее время существует большое количество категорий текста, среди которых выделяются категории темпоральности, ретроспекции, пресуппозиции, градации, континуума, чистой связности, персональное, интеграции и т.д. Этот список, действительно, достаточно длинный, поскольку постоянно дополняется многими учеными и лингвистическими школами. Данный процесс свидетельствует не только о неоднородности мнений, но и об актуальности исследования. Расхождения во многом базируются на неверном понимании феномена «лингвистическая категория». В данной работе будем придерживаться мнения проф. Н.В. Малычевой о том, что лингвистическая категория текста - это «интуитивно воспринимаемые признаки текста», получающие статус грамматических категорий (Малычева, 2003: 43). Но важно также отметить, что текстовая категория - это признак, который свойствен всем текстам, то есть типологический признак текста.
И.Р. Гальперин указывал на то, что текстовые категории должны выступать в качестве специфических признаков законченного речевого целого, которые могут отличать это целое (текст) от других ЯЗЫКОВЫХ явлений. Этими признаками должны быть те, без которых «невозможно представить сам текст в его типологических чертах», ..., «на основе которых можно построить некую идеальную модель этого объекта исследования» (Гальперин, 1981: 5-8). И.Р. Гальперин был одним из первых исследователей, который уделил особое внимание именно категориальному аппарату, выделив такие категории, как информативность, членимость, когезия (внутритекстовые связи), континуум, автосемантия отрезков текста, ретроспекция (возвращение адресанта к изложенным ранее фактам, событиям, оценкам) и проспекция (элементы, обеспечивающие перспективу высказывания), модальность, интеграция и завершенность. Но все эти категории носят грамматический характер и рассматриваются именно как грамматические.
Иначе отнеслись к вопросу текстовых категорий такие ученые, как О.И. Москальская, Е.А. Реферовская, М.П. Ионицэ. В их понимании текстовые категории - это функционально-семантические категории, под которыми понимается группа «языковых средств разных уровней, взаимодействующих друг с другом, которые обладают общими инвариантными семантическими функциями» (Москальская, 1982: 8). Таким образом, авторы выделяют основные, базовые и неосновные, небазовые категории текста. К первым относится модальность, персональность, аспектуальная темпоральность, интенцональность и связность. А к небазовым, в свою очередь, - категории вежливости, принадлежности, интенсивности и другие (Реферовская, 1989).
Обратимся к мнению З.Я. Тураевой, которая разделила текстовые категории на две группы. В первую группу вошли категории, отражающие структурные признаки, а во вторую - содержательные. В первую группу З.Я. Тураева отнесла такие категории, как сцепление, интеграцию и прогрессию. Во вторую - образ автора, художественное пространство и время, информативность, причинность, подтекст и другие.
Целостность относится одновременно к двум группам, посколько отражает одновременно и структурные, и содержательные признаки текста. Цельность, по мнению Ю.С. Сорокина, «есть латентное (концептуальное) состояние текста, возникающее в процессе взаимодействия реципиента и текста» (Сорокин, 1982: 65). Данная категория связана с восприятием текста в целом, а не отдельных его частей и сюжетных линий авторского замысла. М.М. Бахтин говорит о понятии завершенной целостности текста, которая достигается:
1) предметно-смысловой исчерпанностью
2) речевым замыслом и речевой волей говорящего
3) типическими композиционно-жанровыми формами завершения (Бахтин, 1979:90). Цельность текста обеспечивается именно категориями информативности, интегративности, завершенности, хронотопа -текстового времени и пространства, персональное, модальности и эмотивности.
Некоторые ученые различают цельность и связность текста, так, например, А. А. Леонтьев считает, что «связность обычно является условием цельности, но цельность не может полностью определяться через связность. С другой стороны, связный текст не всегда обладает характеристикой цельности» (Леонтьев, 2003: 57). Проф. Харламова разделяет эти категории и считает, что цельность представляет собою некоторое смысловое единство текста, а связность - формальное выражение цельности (Харламова, 2000: 6). Таким образом, получается, что цельность связана с планом содержания текста, а связность - с планом выражения, так что фактически обе эти категории объединяются в одну категорию, хотя в реальной речевой действительности между цельностью и связностью знака равенства нет, хотя они и взаимосвязаны тесно.
Многие ученые считают, что все категории текста имеют и план содержания, и план выражения, а, следовательно, нельзя категорию цельности сводить лишь к смысловому единству, а категорию связности - к ее формальному выражению (Тураева, 1986: 6, 83-90.; Шевченко, 2000: 7, 92-93, 107-19). При этом можно отметить, что при рассмотрении содержательной стороны текста целесообразно разграничивать план содержания и смысл текста: «план содержания -это предмет речи, результат взаимодействия значений языковых единиц, входящих в текст. Смысл текста - явление более высокого уровня, складывается из взаимодействия плана содержания с контекстуальной. Ситуативной и энциклопедической информацией, формирует идею текста» (Шевченко, 2000: 19).
В лингвистике нет единого мнения относительно категорий «когезии» (от лат. cohesion - сцепление) и «когерентности» (от лат. cohaerens - связный, взаимосвязанный). И.Р. Гальперин делает вывод о взаимообусловленности всех категорий дискурса (Гальперин, 1980:47), что также подчеркивает тесную взаимосвязь этих категорий. Ученый Б. Растье, который занимался углубленно семантикой текста, определяет когерентность как семантическую непрерывность последовательности (Растье, 2001: 113). Для нашего материала характерна тесная взаимосвязь формально-логических и абстрактно-содержательных характеристик, поэтому нам представляется наиболее логичной точка зрения О.М. Вербицкой.
Категория когерентности
Категория когерентности, которая отражает содержательную связность текста, а также тесно связана с категорией информативности, поскольку содержательная сторона информативна сама по себе, и конечно, неразрывно связана с категорией когезии и персональное, ведущими категориями текста. Но, несмотря на тесную связь с категорией когезии, которая выражается только фигурами речи, категория когерентности формируется при помощи тропов и схем. Но, несмотря на тесную связь с категорией когезии, которая выражается только фигурами речи, категория когерентности формируется при помощи тропов и схем. Основываясь на исследуемом материале, категория когерентности выражается с помощью схемы аллюзия и гипербола, тропов антономазии и метонимии.
/. Схемы
Под аллюзией мы понимаем - «ссылку на историческое событие или литературное произведение, которые предполагаются общеизвестными» (ФЭБ, http://feb-web.ru). Аллюзия выступает всегда дополняет содержание текста особым смыслом, таким образом формируя одну из важнейших категорий текста - информативность. Например:
The first time I dropped napalm I thought, this is the village where I was born. That is where M. Dubois, my father s old friend, lives. The baker-I was very fond of the baker when I was a child - is running away down there in the flames I ve thrown. The men of Vichy did not bomb their own country (Green, The Quite American). Первый раз, когда я сбросил напалм, у меня мелькнула мысль: вот деревня, где я родился. Тут живет старый друг моего отца мсье Дюбуа. Булочник - в детстве я очень любил нашего булочника, - вот он бежит там, внизу, объятый огнем, который я на него сбросил. Даже те, из Виши, не бомбили свою собственную страну. Я казался себе куда хуже их (Грин, Тихий Американец).
Для русского читателя, в русском тексте этот прием едва заметен, скорее Виши выступает в роли малопонятного термина, если брать его отдельно, например в данном в данном абзаце. Поэтому, здесь уместно сказать о категории цельности художественного текста, когда отдельно взятый отрывок весьма сложен для анализа. В целом, можно сказать, что, рассматривая данное произведение, как единое целое, читатель примерно понимает, о чем идет речь. На самом деле имеется в виду правительство Виши, прогитлеровское правительство маршала Петена, которое во время второй мировой войны на основе соглашения о сотрудничестве с нацистами стояло во главе так называемой «неоккупированной» Франции. В английском тексте такой сноски нет, поскольку автор предполагает, что такого рода ссылка на исторической событие не нуждается в дополнительном пояснении.
Но иногда прием аллюзии носит универсальный характер, когда автор ссылается на исторический предмет универсального, масштабного характера. Например, упоминание автором текста исторического памятника Биг Бэн, который расположен не далеко от здания парламента в столице Великобритании, не требует дополнительного пояснения на русском языке. Аллюзия может полностью совпадать. Например:
A lamp was shining over the Big Ben - the parliamentary session was running at the moment. We passed it and went in the direction of Whitehall. We can see the light in the Exchequer on the other side of the Parliament Square (Snow, Corridors of Power). В вышине над Большим Беном светился фонарь - шло заседание парламента. Мы прошли чуть дальше по направлению к Уайт-холлу. По другую сторону Парламентской площади в здании Казначейства тоже горел свет (Сноу, Коридоры власти).
В следующем примере аллюзия носит частичный характер, но, безусловно, формирует текст. В английском варианте отсутствуют дополнения, которые сделаны переводчиком текста. Данные пояснения являются дополнительными и вспомогательными, в отличие от первого примера. Ср:
Как-то нехорошо - кабинет зубного врача без витража. Некультурно. В дома - то в Англии - обычно вставляли "Смеющегося кавалера" [картина голландского живописца Франса Галъса (1581(85)-1666); создана в 1624 г., находится в Лондоне, в музее "Уоллис коллекшн"], не знаю почему, или тюдоровскую розу [красно-белая роза в гербе короля Генриха VII (1457-1509), наследника Ланкастеров, женившегося на наследнице Иорков; символизировала объединение враждующих династий, в гербах которых были розы - в одном алого, в другом - белого цвета]. Но тут не до выбора (Грин, Власть и Слава). It seems bad to have a dentist room without a glass. Ill-mannered, boorish. I don t know the reason why but we used to frame The Laughing CavalieK or the Tudor Rose. But now there is no other alternative, but... (Green, The Power and the Glory.
Аналогичный пример аллюзии можно привести из произведения М. Булгакова «Воспоминание...», хотя Пречистинский бульвар известен многим, но из контекста иностранному читателю будет сложно понять о чем, идет речь. Ср:
Мыслимо ли расстаться, если, лишь только я подниму голову, встречаю над собой потолок, правда, это отвратительный потолок -низкий, закопченный и треснувший, но все же он потолок, а не синее небо в звездах над Пречистинским, где, по точным сведениям науки, даже не 18 градусов, а 271, - и все они ниже нуля. (Булгаков, Воспоминание...)