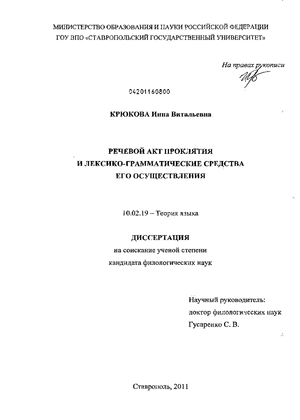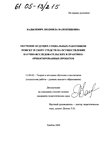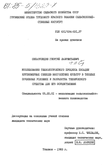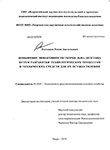Содержание к диссертации
Введение
Глава 1 Речевые акты в анализе речевого общения 13
1 Прагматика как подход к изучению языковых явлений 13
2. Понятие речевого акта 15
2.1. Основные понятия и положения теории речевых актов 15
2.2. Типологии речевых актов: 22
3. Пер формативное высказывание и перформатшшый глагол 34
3.1. Понятие перформативности а теории речевых актов 34
3.2. Свойства и классификации перформативов 39
4. Понятие речевой интенции 49
5. Понятие вербальной агрессии 52
6. Группы агрессивных инвективных формул 58
Выводы к главе 1 64
Глава 2. Проклятие как речевой акт 67
1. Общая классификация высказываний со значением проклятия 61
2. Определения и конвенции проклятия в церковных и библейских источниках 70
3. Определения и конвенция проклятия в фольклоре и народных поверьях 84
4. Определения и конвенции родительских и общебытовых проклятий 96
5. Речевые акты проклятия и приравниваемые к ним (структура, условия успешности, классификации высказываний проклятия) 100
6. Речевой акт проклятия в классификации иллокутивных актов 104
7. Речевой акт злопожелания в классификации иллокутивных актов 113
Выводы к главе 2 123
Глава 3. Лексико-грамматические характеристики высказываний со значением проклятия 126
1. Синтаксическая конструкция и семантика высказывания 126
2. Синтаксические конструкции высказываний перформативного проклятия 129
3. Синтаксические конструкции высказываний проклятия-пожелания и злопожелания 134
4, Разновидности злопожеланий по лексико-семантическому типу предиката 138
5. Ситуативно зависимые и универсальные злопожелания 142
6. Высказывания проклятия с обращением как полифункциональным компонентом 148
Выводы к главе 3 156
Заключение 159
Библиографический список 162
Список источников лингвистического материала 176
- Прагматика как подход к изучению языковых явлений
- Основные понятия и положения теории речевых актов
- Общая классификация высказываний со значением проклятия
- Синтаксическая конструкция и семантика высказывания
Введение к работе
Актуальность предпринятого исследования обусловлена существенной ролью речевых актов проклятия в организации или дезорганизации социального взаимодействия вообще и инвективной речевой коммуникации в частности.
Теория речевых актов вошла в круг актуальных проблем современной теории коммуникации, проведены лингвистические исследования, посвященные определенным типам речевых актов: оценки (Булыгина, Шмелев 1994; Анипкипа 2000), вопроса (Конрад 1985; Андреева 1989), пожелания (Ранних 1994), комплимента (Безменова 2001), отказа (Бычихина 1998; 2002), разрешения и запрещения (Шатуновский 2000) и др.
В современных исследованиях подчеркивается, что при рассмотрении речевого акта следует учитывать характерологические особенности партнеров по коммуникации, саму ситуацию общения, а также тот факт, что цель коммуникации состоит не только в том, чтобы адресат понял адресанта, но ивтом, чтобы вызвать у адресата определенную реакцию на услышанное или сделанное. То есть с прагматической точки зрения важное значение для эффективности коммуникации приобретает интенция адресанта и ее адекватная интерпретация адресатом.
Из сказанного следует, что речевые акты представляют собой чрезвычайно сложное и многоаспектное явление, при описании которого нельзя ограничиться каким-либо одним аспектом изучения. Только единство основных семиотических аспектов изучения языковых выражений (семантического, синтаксического и прагматического) позволяет представить объективную характеристику речевых актов проклятия.
Данное диссертационное исследование посвящено изучению речевого акта проклятия, а именно изучению корреляций между компонентами лексико-грамматической структуры высказываний, являющихся локутивной составляющей речевого акта этого типа, и их иллокутивными функциями. При исследовании конкретных речевых актов представляется целесообразным изучение в первую очередь их языковых составляющих, выявление характерных речевых формул и специфических коммуникативных единиц, обслуживающих реальные потребности в конкретной коммуникативной ситуации.
Таким образом, объектом исследования выступают речевые акты проклятия, представленные в коммуникативном взаимодействии функционально специфицированными высказываниями со значением проклятия.
Предметом диссертационного исследования выступают функционально-прагматические и лексико-грамматические характеристики высказываний со значением проклятия, являющихся локутивной составляющей соответствующего речевого акта.
Цель исследования заключается в проведении комплексного лингвистического описания речевого акта проклятия, рассматриваемого в единстве его функционально-прагматической и лексико-грамматической составляющих.
Достижение данной цели предполагает решение следующих задач:
-
определить понятие речевого акта проклятия;
-
выделить и классифицировать типы речевых актов с общим значением проклятия;
-
рассмотреть определения и конвенции речевого акта проклятия с учетом историко-культурных аспектов их функционирования;
-
классифицировать речевые акты проклятия по иллокутивному основанию;
-
выделить специфические коммуникативные единицы и речевые формулы, характерные для речевого акта проклятия, их формальные, семантические и прагматические особенности;
-
определить стандартные структуры перформативных высказываний проклятия, проклятий-пожеланий и злопожеланий;
-
определить и классифицировать высказывания проклятия по их лексико-грамматическим параметрам.
Материалом для исследования послужили монологические и диалогические единства, представленные в русской прозе и драматургических текстах ХХ века. Анализу подвергнуты высказывания со значением проклятия, включенные в тексты таких авторов, как В. Короленко, Г. Горин, Б. Пастернак, М. Пришвин, С. Лукьяненко и др. Для выявления установлений и конвенций речевых актов проклятия в прототипических формах привлекались библейские тексты и материалы этнографических экспедиций. Объем картотеки, составленной в результате сплошной выборки материала, составляет около 1500 единиц, представляющих исследуемые единицы в окружении минимального контекста, достаточного для адекватного анализа.
Обращение к высказываниям проклятия, взятым из художественных произведений, обусловлено прежде всего тем, что получение эмпирического материала путем непосредственного наблюдения инвективной коммуникации не представляются возможными, поскольку инвективные формы общения не являются социально одобряемыми, в присутствии наблюдателей коммуниканты не склонны к употреблению агрессивных речевых формул и получение объективных данных становится чрезвычайно затруднительным. Тем более малоэффективными для исследовательских целей представляются методы опроса носителей языка, поскольку в этом случае речевые образцы рассматриваются вне коммуникативного контекста.
Методологическая база исследования опирается на общепризнанные в лингвистике положения, согласно которым структурно-семантические и лексико-грамматические параметры языковых выражений находятся в прямой зависимости от прагматических установок коммуникантов, являются следствием реализации коммуникативных установок говорящего.
В настоящем диссертационном исследовании были использованы следующие методы: функционально-прагматический анализ, метод описательного анализа (интерпретация, обобщение, классификация); метод структурно-семантического анализа; метод сплошной выборки; сопоставительный метод; контекстно-семантический анализ в сочетании с методами компонентного анализа и элементами количественного подсчета.
На защиту выносится следующие положения:
1. Речевые акты проклятия существенно различаются по сфере применения в речевом взаимодействии, которое и обусловило их подразделение на проклятия библейские и церковные; проклятия в фольклоре и народных поверьях; проклятия родительские и общебытовые.
2. Речевые акты проклятия, представленные как перформативными, так и неперформативными высказываниями, обладают необходимым набором значимых параметров, определяющих их функционально-прагматическую спецификацию (согласно иллокутивному значению и способу его выражения). По способу представления речевые акты проклятия подразделяются на перформативные проклятия, проклятия-пожелания и злопожелания.
3. В речевых актах проклятия высказывания, включающие в свою структуру перформативный глагол, представляют собой, как правило, полносоставные синтаксические структуры с замещенными позициями субъекта, предиката и прямого объекта. Субъект может быть эксплицитно не выражен местоимением, но сама по себе форма перформативного глагола предполагает в качестве субъекта местоимение первого лица. Предикат в подобных конструкциях представлен в канонической перформативной форме. Перформативные высказывания характеризуются замкнутостью синтаксических связей. Обязательное окружение глаголов в таких высказываниях составляет дополнение-объект.
4. В речевых актах проклятия типовая структура проклятия-пожелания обязательно включает в себя глагол будь (-те) в форме императива, местоимение второго лица ты (вы) в И.п. и краткое причастие проклят (-а, -ы). Основной целью таких высказываний является выражение крайне отрицательного отношения к адресату посредством пожелания ему проклятия. Для выражения злопожеланий, выполняющих функцию проклятия, также существует определенный тип высказываний – это оптативные высказывания типа Чтоб ты / Чтоб тебя + глагол на -л.; типовая структура высказываний злопожелания включает в себя частицу чтоб, личное местоимение второго лица и глагол на -л.
5. Все глаголы-предикаты высказываний-злопожеланий по общим лексико-семантическим основаниям делятся на две группы: 1) глаголы, обозначающие действия, связанные с инфернально-мифологическими пространствами, 2) глаголы, обозначающие отрицательное физическое воздействие на адресата или нежелательные для него состояния.
6. Высказывания-злопожелания типа Чтоб ты / Чтоб тебя подразделяются на два функционально-прагматических типа: 1) злопожелания, семантика которых определяется типом ситуации произнесения, то есть ситуативно зависимые злопожелания 2) злопожелания независимого, универсального типа, которые пригодны для произнесения в любой ситуации.
7. Наиболее распространенной формой проклятия выступает проклятие с обращением, где оно может выражаться лексическим элементом с функционально специфицированной семантикой. По этому основанию все формы проклятий с обращениями подразделяются на три группы: 1) проклятия с обращением, выраженным общеинвективной лексикой; 2) проклятия с обращением, выраженным причинно-инвективной лексикой; 3) проклятия с обращением – именем собственным.
Теоретическими основаниями исследования послужили, прежде всего, общие положения теории речевых актов, представленные в работах Дж. Остина (1986), Дж. Серля (1970), Д. Вандервекена (1986), П. Стросона (1986), В.В.Богданова (1989), Г.Г. Почепцова (1980), Д. Вундерлиха (1976); теоретические разработки Э. Бенвениста (1974), А. Вежбицкой, З. Вендлера, Ю.Д. Апресяна (1980, 1986), Е.В. Падучевой (1985) в области перформативных высказываний и перформативных глаголов; общие положения исследований Г.Г. Почепцова (1986), И.П. Сусова (1979), Н.И. Формановской (2002) по речевой интенции; теоретические разработки Л.П. Крысина (1996, 2004), А.П. Сковородникова (1997), О.Н. Быковой (1999), Е.Н. Шолоховой (2000), Л.В. Ениной и Н.А. Купиной (1997), Д. Ричардсона (1999), Ю.В. Щербининой (2008), В.И. Жельвиса (2001), Т.И. Барсуковой (2002) в области речевой агрессии.
Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые комплексному функционально-прагматическому и семантико-синтаксическому анализу подверглись высказывания со значением проклятия в составе речевых актов соответствующей функциональной спецификации, произведено описание и предложена классификация по их стандартным структурам, по семантико-синтаксическим характеристикам. В проблемном плане новизна исследования связана с обоснованием разделения различных типов речевых актов проклятия на основании коммуникативных целей, интенций адресата и адресанта, событийного содержания, моделей этих актов, позволивших определить универсальные характеристики каждого типа рассматриваемых речевых актов.
Теоретическая значимость проведенного исследования состоит в том, что его результаты вносят вклад в теорию диалогической коммуникации, в дальнейшее развитие теории речевых актов. Оно расширяет научные представления о специфике речевого взаимодействия коммуникантов в процессе «негармоничного» диалога и об особенностях его языковой организации. Многоаспектное исследование речевых актов проклятия позволяет расширить их внутреннюю типологию. Идеи исследования, определившие его новизну, намечают перспективу унифицированного описания речевых актов в рамках обыденной коммуникации, которая в настоящее время представляется еще недостаточно изученной с этой точки зрения.
Практическое значение работы заключается в том, что ее материалы, полученные результаты могут быть применены в практике преподавания курсов теории языка и спецсеминаров. Предложенная методика описания речевых актов в тексте художественного произведения может послужить основой для составления методического пособия по овладению навыками обыденной риторики, навыками диалогического общения в конфликтных коммуникативных ситуациях и при лингвистическом анализе художественного текста.
Апробация работы. Материалы, вошедшие в диссертацию, были представлены в докладах на международных научно-практических конференциях и отражены в 12 публикациях.
Структура диссертации. Диссертация состоит из Введения, трех глав, Заключения и Библиографического списка (241 источник).
Прагматика как подход к изучению языковых явлений
Термин «прагматика» вошел в лингвистику из семиотики — общей; теории знаков, где он обозначает раздел, изучающий отношение между знаком и его «использованием» или интерпретатором (Моррис 1983).
Термин был введен Ч. Моррисом, который продолжал развивать идеи Ч. Пирса. Пытаясь проследить истоки термина, некоторые исследователи полагают, что Ч. Пирс ввел его под , влиянием термина «прагматизм», используемого И. Кантом в «Критике чистого разума», где «прагматический» означает «соотносящийся с определенной целью человека» (Parret 1983, 45). Содержание предмета прагматики, таким образом, изначально определялось двумя базовыми понятиями; «человек» и его «цели».
Подобное толкование предмета прагматики ведет к конкретизации основного прагматического отношения семиотики «знак — интерпретатор». На первый план выдвигается «использователь» — отправитель и получатель знака. Будучл определяемой человеком и его целями; прагматика имеет глобальную антропологическую мотивацию. Человек со всеми присущими ему характеристиками - социальными как члена человеческого общества, психологическими и интеллектуальными как мыслящего существа, способностью к деятельности и коммуникации становится точкой отсчета при исследовании функционирования языковых знаков;
Методологической основой прагматики, вытекающей из динамического подхода к знаковым системам и процессу семиозиса, яшіяется понятие деятельности (Сусов 1983). В рамках данного основополагающего принципа прагматики рассматриваются различные аспекты деятельности. Это прежде всего продуктивная деятельность отправителя знаков — его мотив н деж, шгсШиришниЕт л ішеіщдуклдеїг оъ щеътюшжнЕг речевшчг да&твюг (Остин, 1986: Серль, 19S6; Grice, 1975 Стросон, 1986; Степанов, 1981;
Бергельсон, Кибрик, 1981; Арутюнова, 1981), а также интерпретирующая деятельность получателя знаков, направленная на понимание передаваемого сообщения (Демьянков 1981, 1983; Ален, Перро, 1986; Clark, 1978; Кларк, Карлсон, 1986).
И продуктивная деятельность субьекта речи, и интерпретирующая деятельность адресата неразрывно связаны с ненаблюдаемой деятельностью сознания, поэтому прагмалингвистика проявляет повышенный интерес к когнитивным аспектам языка и речемыслительным процессам (Сусов, 1983; Steinberg, 1982; Bower, 1985; Чахоян, 1988; Шахнарович, 1986).
В то же время, описывая и объясняя функционирование языка с позиции деятельности, лингвистическая прагматика акцентирует внимание па том факте, что речевое общение есть общественная деятельность человека, и оно во многом детерминировало социальными факторами (Labov, 1970; Hymes, 1964; Slubbs, 1983; Fillmore, 1977; Levmson, 1983; Звегинцев, 1962). Речі, как действие подчинена психологии межличностных отношений, в связи с чем прагматика включает рассмотрение структуры социального взаимодействия (общественной интеракции) и правил речевого поведения (Грайс, 1986; Leech, 1983; Brown, Levinson, 1978; Goirman, 1967, 1983; Comrie, 1976): .
Выделенный перечень основных проблем, разрабатываемых в прагм алингвистике, показывает, что область интересов прагматики чрезвычайно широка И собственно лингвистические исследования в русле данного подхода тесно смыкаются с другими человековедческими науками.— философией, логикой, социологией, социальной и когнитивной психологией, теорией информации, общей теорией деятельности. Пытаясь привлечь формальный аппарат к исследованию естественных языков, прагматика связана с логико-математическими и. с инженерно-кибернетическими дисциплинами. Объектом исследоншіия в современной прагмалингвистике служат разные по объему единицы, выступающие в качестве «звеньев коммуникативной деятельности» (Сусов 1984, 5), Это, во-первых, речевой акт, на основе которого исследуются характеристики речевого действия субъекта речи; это «коммуникативный акт» (Dirk 1972), включающий речевой акт говорящего и аудитивный акт слушающего; «интерактивный блок» или «микродиалог» (Сусов 1984), представляющий деятельность общения как «симбиоз действий говорящего и слушающего»; дискурс, или макродиалог, использующийся при изучении взаимообусловленного комплекса связанных речевых действий. В компетенцию прагматики входит также и текст, который, по определению В,В. Богданова, представляет собой деятельность в се непосредственном или запечатленном виде (Богданов 1984).
Разнообразие проблем, объектов и аспектов исследования приводит к тому, что лингвистическая прагматика в настоящее время предстает в виде различных течений, часто сливающихся и перекрещивающихся, объединенных необходимостью учитывать в лингвистическом исследовании человеческий фактор (Булыгина 1981).
Поскольку «человеческий фактор» в языке - явление много стройнее, то в соответствии с конкретньши целями и объектами исследования прагматические течения ведут разработку его различных аспектов,
Основные понятия и положения теории речевых актов
Начало систематизации в области речевых актов (далее РА) положил Дж, Остин. Полагая что для уяснения сущности иллокуции надо собрать и расклассифицировать глаголы, которые обозначают речевые действия, Дж. Остин свою классификацию речевых актов считает производной от классификации пер формативных глаголов, т.е. тех глаголов, которые при их употреб лении в 1 лице единственного числа настоящего времени изъявительного наклонения действительного залога выступают в качестве ядерных элементов эксплицитных пер формативных высказываний (высказываний-действий). Дж. Остин выделяет 5 классов глаголов «в соответствии с иллокутивной силой входящих в них высказываний» (Остин 1986, 119): L) вердикативы (выделяются по признаку вынесения приговора); 2) экзерситивы (являются осуществлением власти, прав или влияния); 3) комиссивы (обещания или другие обязательства);. 4) бехабитивы (группа глаголов, связанная с общественным поведением и взаимоотношениями людей: поздравление, извинение? ругань); 5) экспозитивы (показывают, какое место занимает наше высказывание в ходе спора или беседы). Соответственно выделяются 5 типов иллокутивных актов, Классообразующим признаком для множества вердиктивов служит дейстние типа вынесения приговора присяжными, арбитром или рефери; положительной или отрицательной оценки и т.п.:
Я считаю его виновным.
Отсутствие четких оснований а этой классификации дало повод Дж. Серлю выдвинуть типологию, построенную на категориях иллокутивной цели, направлении приспособления и условиях искренности (Серпь 1986). Как отмечает И.М. Кобозева, «он справедливо указал на неправомерность смешения иллокутивных актов, которые являются реальностью речевого общения и не зависят от конкретного языка, и иллокутивных глаголов, являющихся специфическим отражением этой реальности в системе лексики конкретного языка» (Кобозева 1986, IS).
Класс экзерситивов объединяет высказывания, посредством которых осуществляются властные функции, реализуются права и авторитет говорящего (назначение на должность, приказ, принуждение, предупреждение, совет, запрещение и тлт.) Я советую умеренно проявлять свои чувства.
Комиссивы выражают обещания и другие взятые на себя обязательства (ср, обязательство одной изг сторон при заключении договора, воинскую присягу, клятву Гиппократа и т.п.):
Я обещаю поставить этот вопрос на голосование.
В бехабитивах объединяются акты, связанные с взаимоотношениями людей и их общественным поведением (ср. англ. behaviour поведение ): Я поздравляю тебя с защитой диссертации.
В экспоэитивах говорящие характеризуют своё участие в дискуссии, споре или беседе.
Я признаю, что Ваш аргумент состоятелен.
Критические замечания Дж. Серля по поводу недостаточной строгости остиновской классификации речевых актов вполне справедливы. Не все глаголы в списке Остина выдерживают тест на перформативность.
Группировка их в классы в значительной мере произвольна. Поэтому сам Серль весьма сдержан в возможности опоры классификации речевых актов на классы глаголов, и предлагает альтернативную классификацию, которую он строит как классификацию актов, а не глаголов, создав ее на иной основе, стремясь свести всё многообразие к базисным категориям, или тилам.
По его мнению, имеется около двенадцати лингвистически существенных параметров для установления типов иллокутивных актов. Среди них наиболее важны три: 1) иллокутивная цель (illocudonary point), 2) направление приспособления (direction of fit), 3) выраженное психологическое состояние.
(1) Иллокутивная цель как наиболее важная часть иллокутивной силы представляє]- собой смысл (point), или цель (purpose), определённого типа иллокуции, У просьбы и приказа одна цель: побудить слушающего что-то сделать.
(2) Япляясь следствием иллокутивной цели, направление приспособления предполагает, что:
(2а) действие говорящего обеспечивает соответствие слон (а именно пропозиционального содержания высказывания) миру (реальности), как в утверждениях, констатациях, описаниях, объяснениях,
(26) либо зто действие влечёт за собой соответствие мира словам, как в обещаниях, клятвах, просьбах, требованиях, приказаниях.
Направленность приспособления слов к реальности обозначается стрелкой, направленной вниз Ц). Направленность приспособлю і ия мира к словам символизируется стрелкой, направленной вверх (),
(3) Производя какой-то иллокутивный акт с некоторым пропозициональным содержанием, говорящий Г выражает то или иное своё отношение к этому пропозициональному содержанию.
Общая классификация высказываний со значением проклятия
Инвектива, или оскорбление словом, может реализовываться по-разному и принимать различные формы. Те или иные формы инвективы характеризуются определенной степенью непристойности, неприличности или оскорбительности. Инвектива, сама по себе, эмоционально «заряжает» ситуацию общения. Сила подобной эмоциональной «заряженности» прямо пропорциональна значимости этой ситуации для участников общения, следовательно, эффект инвективы усиливается с ростом ее о скорбите t ьности для коммуникантов. Эта оскорбительность может быть достигнута разнообразными способами. и оущг из самых оаспространенпых — придание инвективе непристойного или неприличного характера.
С учетом выявленных существенных признаков инвективы можно дать следующее определение этому социокоммуникативному явлению: вербальная инвектива — это определенный культурно обусловленный- и национально-специфичный векторно-направленный континуум вербальной агрессии по отношению к участнику коммуникации, к ситуации, предмету и процессу социально-речевого общения. Инвеїстивная формула подразумевает моделирование ситуации нарушения культурных требований со стороны инвектума или же выхода его индивидуального поступка за границы очерчиваемой конкретно-национальной культурой поведенческой нормы, независимо от степени реальности и в целом реалистичности обвинения. Вербализация инвективной формулы осуществляется иногда посредством литераіурной лексики, однако, чаще всего, посредством просторечной лексики ц фразеологии, характеризующейся стилистической маркированностью, предельной спиженностыо и обладающей вульгарной коннотацией, реализующей интенцию говорящего или пишущего унизить, оскорбить, обесчестить, опозорить адресата своей речи или же -выразить, собственные эмоциипо отношению к ситуации.
В современной лингвистике различают два вида инвективы, отличающиеся друг от друга объектом направленности (инвектумом). Речь идет об эксшютивной и агрессивной инвективе. Данные виды инвективы представляют собой две основные группы, в рамках которых можно выделить отдельные частные формы.
Эксплетивная инвектива представляет собой использование табуироваїїной лексиїш для выражения собственного отношения не к человеку, а к описываемой ситуации, так например:
Черт возьми! Почему otce она не звонит? Сколько можно ждать і звонка?! Будь ты проклят - сучий телефон! Во рту пересыхает, ноги ватные, жить не хочется ... Что Dice это за пытка! Она должна быть сейчасрядом сомной, иначе я сдохну. (M. Казаков. Актерская книга) В рамках эксплетивной инвективы можно выделить: і) обіцую бранную лексику, которая, не имееі4 собственного адресата-и, помимо этого, не направлена, на-непосредственное оскорбление человека; Тем не менее, использование в речи бранной лексики может порождать косвенную обиду и чувство оскорбленности у коммуникантов; 2) религиозную эксплетиву, включающую богохульства, когда инвектор сознательно оскорбляет чувства верующих, «возводя хулу на Бога» (например: «Тогда Левин закричал: Проклинаю тебя, бог! Осипшим голосом, он кричал о том, что убедился в несправедливости бога и верить ему более не намерен»), профанизм, когда: йнвектор не «возводит хулу на Бога», а нарушает заповедь о «непроизпосении всуе имени Господа», снижая «возвышенность» сакрального понятия; 3) междометную эксплетиву,. которая, может быть, выражена в любой форме; даже прямого оскорбления, тем не менее, отличительная особенность в том, что она не имеет прямого инвектума, а служит, как правило выражению досады или обиды говорящего на. невозможность изменить сложившуюся ситуацию: При этом инвектива также может принимать форму автоинвективы, то есть приобретать «обратную направленность», адресуясь самому говорящему, В рамках междометной: инвективы выделяются группы инвектив - интенсификаторов; используемых длялридания речи «разговорной» экспрессивности
Данная классификация представляет собой лишь условное разделение пласта инвективной лексики на группы. Соотнесение той или- иной; вербальной формулы с определенной группой зависит от конкретных, параметров коммуникации и интенции инвектора.
Континуум вербальной инвективы прослеживается по нарастанию степени сниженнрсти лексических единиц на основе их стратификационных, функционально-стилистических и этико-стилистических помет и дефиниций в словарях просторечий.. Шкалу инвективпости можно представить следуюищм образом: шутливо-ироническая — фамильярно-насмешливая — отрицательно-оценочная — саркастическая — неодобр пчельная — осуждающая — снисходительно-пренебрежительная — презрительная — грубоватая — і рубая — эвфемистическая — дисфемистическая- — ругательно-бранная — оскорбительная — уничижительно-пейоративная — вульгарная- і абу (Коровушкин, 2005, 362).
Агрессивная инвектива, представляет собой непосредственно « культурно-обусловленный и национально-специфичный векторно направленный континуум вербальной агрессии по отношению к участнику коммуникации, осуществляемый, как правило? посредством просторечной лексики и фразеологии, характеризующейся стилистической маркирован! і остью и предельной сниженностыо и обладающей вульгарной коннотацией реализующей интенцию говорящего и пишущего унизить, оскорбить, обесчестить, опозорить адресата своей речи». Агрессивная инвектива имеет функции: 1) демонстрация идеи превосходства мужчины над женщиной, оскорбления женского начала; 2) оскорбление, в целом, причем, оскорбляется самое светлое и чистое для тон или иной культуры (Сигаев СЮ. //http://www.zelen.ruxonsuh/consufr75-mat.htm).
Синтаксическая конструкция и семантика высказывания
Все выражения со значением проклятий и злопоже ланий, встречающиеся как в речи, так и в художественной литературе, тто своей структуре являются высказываниями. Выявление особенностей синтаксических структур с семантикой анализируемых высказываний позволяет проследить соотнесенность семантики высказывания с его формой.
Для нашей дальнейшей работы важно то, что в высказывании структура и семантика взаимосвязаны. Особенности этой взаимосвязи и станут объектом исследования в третьей главе, а именно какие синтаксические конструкции используются для выражения проклятий и злопожеланий.
Согласно нашей классификации, приведенной во второй главе, проклятия можно разделить на три группы, а именно: 1) перформативные проклятия-декларации (высказывания типа Я проклинаю ...)ї 2) проклятия-пожелания (высказывания типа Пусть будет проклят, Будь проклят...); 3) злопожелания (высказывания типа Чтоб ты „.! Чтоб тебя ..,!).
Высказывания первого типа Л проклинаю, включающие в свою структуру пер формативный глагол проклинаю, представляют собой, как правило, полносоставные синтаксические структуры с замещенными позициями субъекта, предиката и прямого объекта. О субъекте следует сказать, что он может быть эксплицитно не выражен местоимением, но сама по себе форма перформативного глагола предполагает в качестве субъекта местоимение первого лица. Если говорить о контексте употребления перформативного проклятия, то следует особо отметить, что, как показал анализ лингвистического материала, этот контекст всегда содержит эксплицированную причину применения высказывания проклятия, причину, выраженную либо в отдельном высказывании, либо же посредством конструкции, входящей в структуру высказывания со значением проклятия, и эта структура представляет собой предложную конструкцию с предлогом за: я проклинаю тебя за...7 но более подробно об этом будет сказано в последующих разделах.
Для пер формативного выражения проклятия-декларации, согласно нашей классификации, существует один тип - высказываний с использованием пер формативного глагола проклинаю. Основной целью таких конструкций является информирование собеседника об изменении его статуса. Предикат в подобных конструкциях представлен в форме глагола в повелительном наклонении, 1 л., ед. ч., наст, пр., как требуег классическая форма перформативного глагола.
Типы синтаксических конструкций, используемых для выражения проклятия-пожелания и злопожелания, напрямую зависят от передаваемой ими семантики, что наиболее существенными семантическими признаками для анализируемых выражений являются цель высказывания и эмоциональная окрашенность, которые оказывают влияние, как на значение, так и на структуру рассматриваемых единиц.
Для выражения проклятия-пожелания существует определенный тип предложений, которые в лингвистике получили именование оптативных. Основной целью таких конструкций является выражение крайне отрицательного отношения к адресату посредством пожелания ему проклятия. Как праішло, предикат в побудительных конструкциях представлен формой глагола в повелительном наклонении, но говорить о реальном значении императива в данном случае не приходится, поскольку говоря кому-либо Будь ты проклят, мы менее всего предполагаем, что адресат окажется проклятым в лиг? жкакиуч ntffo1 ,гр птрш9 га.1У .wдсайглаи до ляфжданвд1 .млж льражакм;? и формами других наклонении, которые используются в переносном значении.
Примечательно, что нами не было зафиксировано случаев, когда в конструкции типа будь ты проклят содержался бы элемент, указывающий на того, кем должен быть проклят адресат, хотя сама по себе семантическая структура позволяет это сделать, например: будь ты проклят всеми богами.
Для выражения злопожеланий, типа Чтоб ты / Чтоб тебя также существует определенный тип высказываний - оптатив. Во всех высказываниях подобного типа присутствует частица чтоб.
Следовательно, синтаксические конструкции злопожеланий по цели высказывания должны являться побудительными и иметь побудительную модальность, так как общий для всех комнонеігг структуры, глагол-сказуемое традиционно квалифицируется как императив. Но употребление императива отнюдь не означает, что подобные конструкции реализуют побудительную модальность. Во-первых, в качестве предиката в подобных высказываниях выступает такое действие, которое адресат не может контролировать, осуществление названного процесса фактически находится под влиянием магических (третьих) сил, неподвластных человеку. Во-вторых, «форма императива утрачивает прототипичеокое значение шве штедыюсти и приобретает значение желательности действия но не конкретного, а предельно отвлеченного, в семантике которого можно обнаружить только негативный, оценочный компонент («Желаю, чтобы кому-либо стало плохо»)» (Алтабаева 2002,171).
В анализируемых конструкциях реализуется ситуация, которая желательна для говорящего (он желает, чтобы кому-либо стало плохо), она не предписывает обязательного, конкретного исполнения названного формами императива действия.