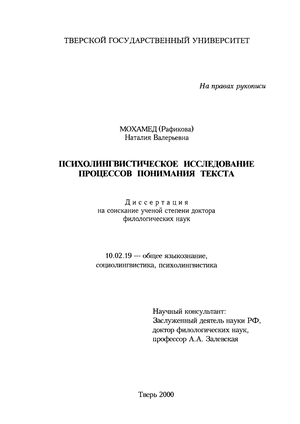Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Нахождение информации в памяти
1.1. Нахождение следов памяти с точки зрения теорий множественных систем памяти 24
1.2. Исследование процесса нахождения информации с позиций теорий единой памяти 31
1.3. Нахождение информации как процесс получения выводных знаний 39
1.4. Рабочая память с точки зрения теорий множественной и единой памяти 47
1.5. Выводы 64
Глава 2. Ментальная репрезентация слова
2.1. Основные свойства коннекционистской сети: аналогии с мозгом человека 67
2.2. Репрезентация локалистского типа и модели, построенные на ее основе 75
2.3. Репрезентация распределенного типа 77
2.4. Понятия активации и внутренней активности единиц информации 80
2.5. Аттракторные сети, или сети «притяжения» 84
2.6. Механизм распространяющейся активации и механизм сложного ключа 89
2.7. Выводы 96
Глава 3. Ментальная репрезентация текста
3.0. Вводные замечания 98
3.1. Модели распознавания слова 101
3.2. Репрезентация на уровне пропозиций и ментальных моделей 107
3.3. Механизм формирования пропозиций при помощи динамических связей 113
3.4. Формирование репрезентации текста: конструктивно-интегративно-восстановительный процесс 117
3.5. Выводы 120
Глава 4. Динамика ядра и периферии смыслового поля текста: экспериментальное исследование макроструктур текста
4.1. Цели, задачи, методика проведения эксперимента 124
4.2. Функциональная классификация макроструктур текста: ядро, периферия, зона потенциальных ядерных структур 130
4.3. Выводы 143
Глава 5. Понимание текста: процесс формирования смысловых опор
5.0. Вводные замечания 146
5.1. Ассоциативная структура значения слова как поле формирования опорных схем понимания текста: первый этап построения проекции текста 149
5.1.1. Модель ситуации как способ организации знаний 154
5.1.2. Идентификация значения слова через позицию мыслящего субъекта в модели ситуации 157
5.1.3. Экспериментальное исследование процесса формирования опорных элементов текста (процедура выделения ключевых слов) 166
5.1.4. Анализ ключевого слова СИДЕТЬ 170
5.1.5. Экспериментальное исследование механизма стабилизации смыслового поля ключевого слова (на примере пары СИДЕТЬ - молча) 179
5.1.6. Анализ ключевого слова УЧЕНИК 183
5.1.7. Выводы 187
Усложненные структуры знаний как опорные структуры понимания текста: второй этап построения проекции текста 189
5.2.1. Экспериментальное исследование формирования опорных комплексов понимания текста: процесс интеграции ассоциативных значений ключевых слов -189
5.2.2. Позиция читателя в смысловом поле текста как фактор сложности моделируемого метального пространства 198
5.2.3.Анализ взаимодействия стандартизированных знаний как минимальных операциональных единиц проекции текста 205
5.2.4. Механизм формирования опорной схемы понимания 211
5.3. Выводы 229
Глава 6. Экспериментальное исследование процесса формирования проекции текста: от ментальной репрезентации слова к ментальной репрезентации текста
6.1. Общая характеристика этапов создания проекции текста как комплекса репрезентаций 234
6.2. Комплекс репрезентаций как результат накопления следов эпизодной памяти 242
6.3. Формирование и функционирование стимульных комплексов проекции текста 245
6.4. Феномен прайминга: влияние прошлой информации на понимание текущего стимула 256
6.5. Ядро проекции текста: анализ его формирования 267
6.6. Ядро комплекса репрезентаций как паттерн активации: механизм ассоциирования 289
6.7. Влияние общей информации на процесс дифференциации репрезентаций 291
6.8. Выводы 297
Заключение 301
Литература 311
- Нахождение следов памяти с точки зрения теорий множественных систем памяти
- Основные свойства коннекционистской сети: аналогии с мозгом человека
- Репрезентация на уровне пропозиций и ментальных моделей
- Функциональная классификация макроструктур текста: ядро, периферия, зона потенциальных ядерных структур
Введение к работе
В центре нашего исследования находится читающий и понимающий текст человек, который строит в своем сознании образ содержания воспринимаемого текста. Движущей силой исследования явилось стремление найти ответы на следующие вопросы:
• Почему, читая один и тот же текст, читатели по-разному или похоже понимают его?
• Почему то, что очевидно для одного читателя, не замечается другим?
• Почему при чтении текста неизбежно появление одних смыслов, а других -- нет?
• Каковы критерии, по которым мы можем оценивать степень подобия/расхождения в понимании одного и того же текста разными читателями?
• Почему результат понимания текста может иметь противоречивый характер, что осознается или не осознается читателем?
• Что представляет собой результат понимания текста, каким образом он создается, какие факторы влияют на его формирование?
Таким образом, нашей целью является исследование универсального механизма формирования у читателя образа содержания прочитанного текста, или проекции текста.
Исследование проекции текста имеет в отечественной науке свою историю. Впервые идея проекции текста была выдвинута в 20-е гг. Н.А. Рубакиным [Рубакин 1987], что, как справедливо полагает А.А. Залевская [1999], предвосхитило популярную в современной науке идею «ментальных моделей» как средства репрезентации смысла воспринимаемого сообщения (подробно о работах Н.А. Рубакина говориться в [Залевская 1988; Сорокин 1985; 1993]). Термин «проекция текста» используется для обозначения психической сущности, отражающей результат понимания,
сформированный в индивидуальном сознании. В работе [Залевская 1999: 253] дается следующее определение: «Под проекцией текста понимается ментальное образование (концепт текста, смысл текста как цельность/целостность), продукт процесса смыслового восприятия текста реципиентом, в той или иной мере приближающийся к авторскому варианту проекции текста».
Исследование проекции текста с позиций психолингвистики было начато Ю.А. Сорокиным, который после долгого времени напомнил об уже забытых идеях Н.А. Рубакина и продолжил изучение текста с позиций теории речевой деятельности [Сорокин 1985; 1988; Сорокин, Пищальни-кова 1993], в основу которой положены идеи психологов Л.С. Выготского [1982; 1986], Н.И. Жинкина [1958; 1982], А.Н. Леонтьева Ц959; 1976; 1979], А.Р. Лурия [1975; 1979]. Дальнейшее развитие этих идей осуществляется в работах А.А. Леонтьева 11965; 1969; 1976; 1997], И.А. Зимней [1970; 1973; 1976; 1985], Т.М. Дридзе 11976; 1984], А.А. Залевской [1988; 1990; 1992; 1999], А.С. Штерн [Мурзин, Штерн 1991; Штерн 1992) и других ученых, трактующих смысловое понимание как сложный процесс, опирающийся на чувственный и рациональный, индивидуальный и социальный предшествующий опыт реципиента текста.
Психолингвистические исследования направлены на изучение взаимодействия продуцента/реципиента и текста [Залевская 1988; Сорокин 1985; 1993], т.е. на исследование жизни текста в индивидуальном сознании, что находит отражение в изучении читательской проекции текста ІБелянин 1992; Залевская 1988; 1992; Рубакин 1987; Сорокин 1988], ее мощности и глубины, которые зависят от особенностей тезауруса носителя языка [Залевская 1988; 1990; 1992]. Различные вопросы психолингвистического исследования текста и процессов его понимания реципиентами обсуждаются в книгах ІБелянин 1999; Горелов 1987а; 19876; Горелов, Седов 1997; Залевская 1999; Леонтьев А.А. 1997; Сахарный 1989; Супрун
1996], где специально выделены соответствующие главы. Новый подход к исследованию текста и его проекции реализован в работах А.А. Залевской, которая рассматривает текст с позиций разработанных ею концепций внутреннего лексикона человека и специфики индивидуального знания [Залевская 1983; 1988; 1991; 1992; 1998; 1999; Залевская и др. 1998].
В ходе чтения текста осуществляется взаимодействие между автором и читателем, поэтому важно, по мнению Ю.А. Сорокина, исследовать триаду «автор - реципиент - текст» [Сорокин 1988: 2]. В отличие от этого в работе [Залевская 1991] предлагается рассматривать систему из пяти составляющих: «автор - авторская проекция текста - тело текста - реципиент - проекция текста у реципиента». В названной работе указывается, что только одна из этих составляющих (тело текста) является константной, поскольку даже автор, физически оставаясь одним и тем же лицом, может тем не менее по-иному воспринимать и осмысливать свой собственный текст.
С этих позиций можно разграничить специфику лингвистического и психолингвистического подходов к тексту. Лингвистика интересуется текстом, который изучается как продукт деятельности автора. При этом до сих пор появляются работы, в которых исследователи пытаются отделить «чистый» текст от «мешающих» пониманию его сущности фигур автора и читателя (см., например, монографию [Мышкина 1998]). Для психолингвиста текст как таковой выступает в качестве взаимодействия между «телом текста» и человеком. Психолингвистика изучает проекции текста у автора и читателя, т.е. психическую форму текста («образ содержания текста» [Леонтьев А.А. 1997: 142]), что существует лишь в сознании человека. Для создания проекции текста используется все богатство индивидуального опыта человека в разнообразных формах и проявлениях (в том числе - в формах, описываемых как эмотдаотадьно-оценочные переживания, эстетические чувства, фреймы, схемы ©йтуа
ций, денотаты, образы разных модальностей, прагматические знания и т.д.). Хранящиеся в памяти человека образы сознания, при помощи которых формируется проекция текста, наполнены «живой чувственной тканью», которая находится в постоянном движении, проявляясь в проекции текста или слова то одной, то другой своей гранью (о специфике образов сознания см. [Василюк 1993]).
Текст-знак является стимулом, который, воздействуя на сознание человека, возбуждает поля знаний, ассоциируемых с данным материальным знаком и используемых человеком для создания проекции текста. Особенности текста-знака (его стиль, синтаксис, лексико-грамматические особенности), т.е. то, что обычно исследуется в лингвистике, во многом определяют процесс построения проекции текста, поскольку каждый языковой знак связан на уровне сознания и подсознания с определенными квантами знаний, существующих в памяти в форме ментальных репрезентаций. Текст-знак мы рассматриваем с позиций разработанной А.А. Залевской теории лексикона человека [1977; 1990], трактующей слово в качестве средства доступа к многообразным знаниям индивида, его информационному тезаурусу как сложному продукту перцептивных, когнитивных и аффективных процессов, протекающих по законам психической жизни индивида, но под контролем социально выработанных систем значений, норм и оценок.
Исследование специфики опор для доступа к знаниям индивида и для построения с их использованием проекции текста является одной из важных тем, на изучение которой направлены усилия многих ученых. Так, изучается опора на схемы знаний при понимании текста [Залевская 1983; 1988; Новиков 1983; 1989; Норман 1985; Найссер 1981], см. также [Барабанова 1990; Зеленов 1987; Роднянский 1986; Селиванова 1993; Смирнов А.А. 1966; Соколов 1968; Толстых 1988]; рассматриваются также: роль заголовка и ключевых слов в понимании художественного
текста ІКожина 1986], значимость заголовка, ключевых слов, авторской аннотации для понимания научного текста Балдова 1999; Детскина 1991], особенности функционирования параграфемных средств текста [Клюканов 1983], паралингвистические опоры [Бабайлова 1987], взаимодействие иконических и вербальных знаков ІГоловина 1986], структурные опоры поверхностного и глубинного уровней [Медведева 1992; 1996; Летягина, Солдатов 1992; Солдатов 1995 и др.], эмоциональные смыслы, влияющие на формирование угла зрения на воспринимаемый текст [Пищальникова 1993 и др.], ситуация как средство доступа к личностным знаниям человека при понимании эллипсиса [Михайлова 1997] и при разрешении неоднозначности в тексте шутки [Бревдо 1999] и т.д.
Интерес исследователей к проблемам взаимодействия слова и текста в русле идей А.А. Залевской проявляется в ряде интересных работ, посвященных различным аспектам этой проблемы. Так, Э.Е. Каминская исследует динамику смыслового взаимодействия слова и текста, прослеживая особенности проекции слова в системе расширяющихся контекстов (от нулевого до всего текста) [Каминская 1996; 1998]. М.Л. Корытная рассматривает роль заголовка и ключевых слов в понимании художественного текста, предлагая вихревую модель его понимания [Корытная 1992; 1996; 1997]. Влияние авторского предтекстового комплекса на формирование проекции специального текста исследуется В.А. Балдовой [1999]. Проблемы восприятия текста на неизвестном языке и характер опор, используемых читателем, интересует И.Л. Медведеву, которая исследует психолингвистические аспекты функционирования иноязычного слова [Медведева 1996; 1999а; 19996]. Вопросы соотношения слова и текста рассматриваются и в лингвистических исследованиях (см., например, [Панчук 1985; Токаревич 1987]), но, к сожалению, в исследованиях, направленных на изучение и описание языка и продуктов речевой
деятельности в виде устных и письменных текстов, нередко не хватает самого человека, того, кто создает эти тексты, кто их воспринимает и понимает.
Особый подход к изучению роли слова как опорного элемента понимания текста реализуется в исследованиях ключевого слова в рамках текста-примитива [Сахарный и др. 1988]. Текст-примитив представляет собой с внешней стороны набор ключевых слов (НКС). Доказывается, что такой текст, как и «сложный текст», состоящий из языковых и неязыковых элементов [Левинтон 1988J, обладает основными характеристиками развернутого текста - цельностью, эмотивностью, связностью [Бойкова 1988; Сахарный 1988; Сиротко-Сибирский 1988; Штерн 1992J. Исследуются просодические признаки ключевых слов (КСС), образующих текст-примитив [Дроздова 1988], их расположение в структуре развернутого текста [Сахарный 1988], роль текстов-примитивов при порождении развернутого текста [Дубровская 1991; Овчинникова 1986] и в связи с этим - влияние мощности тезауруса, выступающего как фактор понимания [Жукова 1989], когда КСС текста являются лексическим выражением смысловых связей текста [Кузичева 1988]. Попутно отметим возросший интерес исследователей к лексической структуре художественного текста [Болотнова 1992]. Ведется рассмотрение НКС как инвариантного ядра, за счет которого осуществляется взаимопонимание [Бойкова 1988; Сиротко-Сибирский 1988 и др.]. Исследуется связность текстов-примитивов через изучение образуемых ключевыми словами семантических связей, при этом признается, что последовательность ключевых слов характеризует «скрипт», а их совокупность - фрейм данного текста [Кузичева 1988].
Таким образом, даже краткий обзор исследований, направленных на изучение роли слова в понимании текста, свидетельствует об актуальности продолжения изучения проблемы в этом направлении, при формулировании новых целей и задач, о которых будет сказано ниже.
В современной науке существуют и многие другие направления исследования текста. Так, текст рассматривается с точки зрения его базовых признаков - связности, цельности, эмотивности [Гальперин 1981; Исакова 1989; Казарян 1989; Кардович 1990; Каримова 1991; Михалева 1989; Нишанов 1985; Пантелеев 1988; Панчук 1985; Проблемы связности ... 1982; Сорокин 1988; Якимчук 1986; Dahlback 1988; Johnson-Laird 1983; Tirkkonen-Condit 1990], при этом наибольший интерес вызывают вопросы цельности и эмотивности текста, а связность рассматривается не только с внешней, но и с внутренней стороны Вышегородская 1989 и др.]; учитывается динамика [Полонская 1989] и неоднородность этого явления [Кардович 1990]; связность трактуется как некоторая протяженность семантических линий текста Кузичева 1988]. Внимание исследователей привлекают различные вопросы семантики текста, его фоносе-мантические характеристики (см., например, [Балаш 1999; Кулешова 1985; Молчанова 1988; Шопов 1991; Шулепова 1991]). Исследуются эмоциональные, оценочные и прагматические аспекты текста, соотношение в нем известного и нового для реципиентов и т.д. Белянин 1988; 1992; Илиева 1983; Кронгауз 1989; Рогожникова 1991; Родионов 1985; Синипольская 1991; Сорокин 1985; 1988; Старцева 1989; Colley 1987].
Разрабатывается типология текстов, определяемая на разных основаниях - по эмоциональной доминанте, по параметру «художественности», по прагматической установке, по внешней форме и т.д. (см., например, [Белянин 1988; 1992; Богин 1986; Галеева 1999а; 19996; Муран 1992; Сорокин 1985]). Предлагаются классификации текстов [Барышников 1988; Дридзе 1976], рассматриваются отдельные типы текстов [Андреева 1993; Грохольская 1991]. Тематика исследований расширяется за счет обращения исследователей к изучению возможностей моделирования личности по тексту, выявления особенностей преодоления различного рода трудностей при понимании текста, в том числе - при встрече с метафорами, эллипсисами, лакунами [Балаш 1999; Богатырев1996; Бревдо
1999; Власенко 1996; Ермакова 1996; Ермолаев 1999; Кинцель 1998; Ко-лодина 1997; Крюкова 1999; Марковина 1982; Михайлова 1997; Перелы-гина 1998; Староселец 1997; Утробина 1997; Чижова 1995. Рассматриваются также особенностей понимания специфических видов текстов. Так, А.Я. Бушев 11999] исследует языковые особенности текстов, используемых в психотерапевтических целях. Э.Е. Саракаеву [1999] интересуют тексты религиозной тематики, а Э.Л. Лазареву [1994] — газета как текст, в то время как Б.А. Зильберт L1988J исследует тексты массовой информации и пропаганды. Особенности понимания нестандартных художественных текстов рассматривает О.Л. Гвоздева [1998; 1999]. Проблема роли прецедентных феноменов в понимании того или иного высказывания или текста волнует все большее число авторов, см., например, [Гудков 1999а; 19996; Каминская 1999; Красных 1998; 1999; Сорокин и др. 1998].
Исследуется уровневый характер понимания [Алова 1988; Бабайлова 1987; 1988; Бронская 1985; Доблаев 1982; Дридзе 1976; Жинкин 1964; Калентьева 1989; Клычникова 1974; Князева 1989; Пантелеев 1988; Покровская 1992; Чистякова 1975; Семенов 1992; Степанова 1984; Яковлева Е.В. 1984; Яковлева Л.Л. 1990J. Трактовка иерархии смысловых структур текста увязывается со структурой мыслительной деятельности и рассматривается в разных аспектах: лексико-семантическом, денотат-ном, синтаксическом, тема-рематическом, логико-коммуникативном, стилистическом и т.д. (см., например, [Князева 19891). Изучаются различные аспекты структуры текста [Апухтин 1977; Москальчук 1999; Новиков 1983; 1989; Ярославцева 1981] и связанные с ней вопросы смыслового преобразования текста и его адекватного восприятия [Данилевская 1990; Новиков, Нестерова 1992; Хацько 1999], смысловой близости текстов [Иншина 1989; Ярославцева 1981], распознавания смысла текста ІБотнару 1985; Гончаренко, Шингарева 1984], глубины смысловой переработки текста [Богин 1993; Зеленов 1987]. Разрабатывается новый кон
цептуальный аппарат исследования текста и процессов его понимания (см., например, [Клюканов 1998; 1999]); ведутся исследования понимания в рамках когнитивного подхода [Иванов 1991; Крашевская 1990; Муран 1992].
Рассмотрение понимания с учетом взаимодействия языковых и экстралингвистических факторов обусловило интерес к исследованию вопросов референции различных элементов текста и текста в целом [Иванова 1990; Кронгауз 1989].
Обсуждаются также вопросы, связанные с вариативностью понимания, его инвариантными характеристиками [Долинин 1985; Дридзе 1984; Жинкин 1964; Залевская 1988; Зварич 1991; Иншина 1989; Казакова 1989; Родионов 1985; Тарасов, Соснова 1985; Auscombre & Ducrot 1983; Gunnarsson 1990; Flottum 1990].
Рассмотрение вопросов вариативности в лингвистических исследованиях в большой мере ориентировано на изучение разнообразия внешних форм выражения, в соответствие которым с внутренней стороны ставится некоторая смысловая сущность (см., например, Абдуллаев 1988; Бру-тян 1992; Зеленин 1989]). Часто инвариант понимается как некоторая «норма», отклонением от которой являются варианты [Бродович 1991]. Иногда для обозначения этой сущности вводятся термины «вариант» и «варьирование» [ЛЭС 1990].
Наиболее продуктивный подход к проблемам вариативности/инвариантности обеспечивается: 1) ориентацией на смысловую сторону изучаемого объекта (слова, предложения, текста); 2) изучением вариативности в двух аспектах: как вариативности/инвариантности элементов [Барабанова 1990; Борисова 1991] и как вариативности/инвариантности структуры [Бронская 1985; Новиков 1983; Пешкова 1987], поскольку основной характеристикой любой смыслвввй единицы является признание ее структурного строения в форме иерархии. 8 Зависимости от объекта, целей и задач исследования понятия «инвари
ант/вариант» соотносятся с разными явлениями; например, инвариант -смысл, вариант - интерпретация смысла [Борисова 19911.
В зависимости от направления исследований прослеживаются различные подходы к трактовке сущности понимания. Понимание рассматривается и как процесс, и как результат этого процесса (например, [Гурьева 1984]). В русле филологической герменевтики разграничиваются «понимание» и «восприятие» текста [Богин 1993; Борухов 1989 и др.[, понимание трактуется как инобытие рефлексии [Богин, Романов 1993], делаются попытки разграничить репрезентативные и рефлексивные механизмы понимания [Зуев, Стокало 1993], а также развести понятия «понимание», «интерпретация», «объяснение» [Карасев 1993], проследить особенности различных средств пробуждения рефлексии [Нефедова 1999], разработать типологию герменевтических ситуаций в действиях реципиента текста [Соловьева И.В. 1999] и т.д. Вопросы такого рода обычно не ставятся в работах, где исследуется логическая структура научного текста и рассматриваются пути логико-аргументативных рассуждений при его понимании (см., например, [Васильев 1991; 1999; Дубинина 1998; Кожинова 1989) или обсуждаются различные аспекты филологической интерпретации литературно-художественного текста (см., например, [Гюббенет 1991; Кухаренко 1979]).
Большинство авторов (лингвистов, психологов, психолингвистов) исходят из того, что трудно отграничить восприятие от понимания ІАлова 1989; Баранов 1990; Волегов 1991; Залевская 1977; 1990; Зимняя 1970; Левченко 1984; Леонтьев А.Н. 1976; Найссер 1981; Пантелеев 1988; Степанов 1992; Яковлева Л.Л. 1990 и др.]. О.Д. Кузьменко-Наумова [1980] разграничивает понятия «объект восприятия» (текст), «субъект восприятия» (реципиент) и сам «процесс восприятия» (см. также: [Залевская 1988; Сорокин 1985 и др.]). Как указывает И.А. Зимняя І1970І, смысловое восприятие речевого сообщения представляет собой иравдос
приема (рецепции) и осмысления, имеющий своим результатом понимание/непонимание этого сообщения.
Актуальность исследований восприятия и понимания текста диктуется и задачами прикладного характера, такими как автоматический перевод, диалог «человек - компьютер», литературное редактирование, задачи обучения родному и иностранному языку, а также гуманитарным дисциплинам (литературе, истории и т.д.) в рамках среднего и высшего образования (см., например, [Бабайлова 1987; 1988; Барабанова 1990; Борисова 1991; Зеленов 1987; Иванченко 1989; Наролина 1985; Покровская 1992; Сомова 1992; Солонцева 1992; Яковлева 1990]). В методической литературе наблюдается усиление интереса к художественной литературе как средству обучения первому и второму иностранному языку [Мартынова 1992J в языковых и неязыковых вузах. Теоретическое осмысление проблем понимания текста и разработка методов исследования способствуют формированию новых подходов к художественному тексту (см., например, [Бальсевичуте 1987; Брауда 1992; Клюканов 1986; Селиванова 1993]). Особое место занимают работы, в которых проблемы понимания текста рассматриваются в связи с задачами перевода художественного текста (см., например, Галеева 1999а; 19996]).
Понимание текста можно рассматривать как творческий многоуровневый процесс [Богин 1986; 1993; Пономарь 1991; Семенов 1992], поскольку индивид формирует сложные обобщенные комплексы. Этот процесс может иметь неосознаваемый характер, а также сопровождаться контролем со стороны сознания субъекта. Контроль свидетельствует об отражении собственной деятельности, а рефлексия выступает в качестве средства понимания [Алексеева 1988]. Исследования динамики творческого процесса выявили, что на его начальных и конечных фазах преобладает содержательный (предметно-образный) план мышления, а в середине - смысловой [Степанов 1992: 29]. Результаты таких исследований подтверждают актуальность изучения предметного уровня понимания,
поскольку через него индивид получает доступ к смысловому миру другого человека, а также открывает свой собственный мир.
Динамика понимания текста увязывается с процессом получения нового знания [Данилевская 1990; Котюрова 1989; Крашевская 1990], переключением с одной ситуации на другую [Бревдо 1999], с ролью фоновых знаний при понимании текста [Дрозда 1989; Залевская 1990; 1992; Шматенко 1989], взаимодействием лингвистических и экстралингвистических факторов [Марковина 1982], влиянием психологической установки [Привалова 1995) и т.д.
Психолингвистических подход к проблеме понимания предполагает исследование как базового уровня, основополагающего для понимания, так и более продвинутых этапов, которые характеризуются формированием обобщенных смысловых единиц, интегрирующих текстовую информацию, личный эмоциональный и когнитивный опыт. Формирование таких единиц может происходить как спонтанно, так и в ходе направленных умственных усилий, при контроле со стороны сознания через поиск значимых смысловых единиц. В этом проявляется конструктивная функция рефлексии [Шишкина 1989]. Мотивы, определяющие этот поиск, могут быть разными ІСтежко 1984] в зависимости от того, осуществляется ли понимание «для себя», «для другого» (присутствующего или отсутствующего), от характера прагматических установок воспринимающего речевое сообщение, от условий протекания этого процесса. На понимание текста оказывает влияние ряд факторов (см., например, ІБиева 1984]). Значимость этих факторов меняется в зависимости от того, какой уровень понимания исследуется. Для продуктивного мышления важной оказывается способность смыслового восприятия текста [Степанов 1992], которая обеспечивает продуктивность понимания, запоминания, оценки текстовой информации.
Актуальным является изучение механизмов восприятия и понимания речевых сообщений ІАрутюнова 1988; Бревдо 1999; Жинкин 1958; 1982;
Залевская 1988; 1992; Зимняя 1976; Клычникова 1974; Кубрякова 1986; Кузьменко-Наумова 1980; Леонтьев А.А. 1971; Рафикова 1998а; 1999; Рогожникова 1988], выявление операциональных единиц речемыслитель-ной деятельности при понимании текста [Каменская 1988; 1990; Куликов 1985].
Проведенный краткий обзор направлений Исследования текста и их проблематики подтверждает актуальность изучения закономерностей построения индивидуальной проекции текста в ракурсе изучения роли слова как опорного элемента понимания, особенностей использования разнообразных опор понимания в ходе создания проекции текста, исследования механизмов формирования проекции текста в ходе его чтения, а также вопросов, связанных с вариативным/инвариантным характером понимания.
Обращает на себя внимание то, что в отечественной науке недостаточное внимание было уделено исследованию полного цикла формирования образа содержания текста, начиная от момента восприятия первого знака текста до момента окончания чтения текста, когда у читателя завершается процесс формирования проекции текста; именно это стало целью нашего исследования.
В диссертации используется понятийно-терминологический аппарат, обычно фигурирующий при описания структуры и специфических свойств ментальной репрезентации слова и текста, а также механизмов ее формирования. Разработанная в мировой науке (с опорой на компьютерную метафору и аналогии с мозгом человека) терминологическая система, к которой мы подходим с позиций теории лексикона человека и коТщепции специфики индивидуального знания [Залевская 1977; 1990; 1999], не всегда может предложить удачные термины, которые непротиворечиво соотносились бы с вкладываемым в содержанием. Речь прежде всего идет о термине «информация», который используется нами в самом широком смысле. Мы обозначаем этим термином следы предшествую
щего опыта, активизированные в рабочей памяти человека в момент чтения текста, а также сведения из содержания прочитанного текста, единицы эмоционально-оценочного содержания, абстрактные единицы, предметные образы, единицы знаний разной степени сложности, вербализуемое™ и осознания и т.д., т.е. все то, что обнаруживается в памяти и извлекается из нее под воздействием знаков тела текста, выступающих в роли внешних стимулов. Понимая, что термин «информация», возможно, не совсем удачен, не только в силу того, что требует специального уточнения вкладываемого в него содержания, но и в силу ассоциирования с теориями информационных систем, мы все же используем его в своей работе, поскольку еще не существует более подходящего термина. В современной науке разработаны различные теории, связанные с проблемой форм хранения знаний в памяти, которые описываются как фреймы [Минский 1979], схемы [Найссер 1981], денотатные структуры [Новиков 1983] и т.д. Использование термина «ментальная репрезентация» позволяет отвлечься от специфики подходов к описанию форм хранения знаний в памяти и акцентировать внимание на универсальных характеристиках единиц памяти. Исследуя закономерности построения у читателя проекции текста, мы используем для обозначения создаваемого образа содержания термин «комплекс репрезентаций», необходимость разработки которого вызвана поставленной исследовательской целью: изучить механизмы создания проекции текста, начиная от уровней репрезентаций формы слова, уровня ассоциативного значения слова, активизированного воспринятым (напечатанным) словом, до создания сложных комплексов репрезентаций как интегративных единств, соответствующих результату понимания более крупных отрезков текста (словосочетаний, предложений, абзацев и всего текста в целом). Использование термина «комплекс репрезентаций» позволяет сохранить единообразие описания исследуемых процессов, их универсального характера, общего для единиц любого уровня проекции текста.
Для достижения поставленных исследовательских целей необходимо было решить следующие задачи теоретического и прикладного характера.
1. Дать критический анализ современного состояния разработанности вопросов нахождения информации в памяти с позиций теорий памяти, фигурирующих в мировой науке, уделяя особое внимание процессу нахождения информации как получения выводных знаний, вопросам структуры рабочей памяти человека и специфики протекающих в ней процессов.
2. Рассмотреть читательскую проекцию текста как ментальную репрезентацию, акцентируя внимание на специфических механизмах ее построения, приводящих к инвариантному/вариативному пониманию текста читателем/читателями. Выявить источники расхождения путей понимания при построении проекции текста уже на ранних этапах понимания текста читателями; объяснить закономерности сохранения тождественности текста самому себе через сохранение инвариантных тенденций понимания.
3. Теоретически осмыслить основные свойства и закономерности ментальной репрезентации в ракурсе построения проекции текста; рассмотреть альтернативные модели ментальных репрезентаций, фигурирующие в мировой науке, а также механизмы их формирования. Провести теоретическое моделирование обнаруженных в экспериментальном исследовании фактов на уровне ментальной репрезентации текста.
4. Сопоставить подходы к указанным выше проблемам с позиций теории лексикона человека и концепции специфики индивидуального знания.
5." Рассмотреть текстообразующую функцию слова и роль внешних и
внутренних опор формирования проекции текста. 6. Выявить структурную организацию проекции текста, закономерности
ее формирования, уделяя особое внимание влиянию процессов обна
ружения реципиентом текста подобия воспринятых стимулов, что ведет к интеграции отдельных репрезентаций в целостный комплекс. 7. Определить методы экспериментального исследования и процедуры анализа полученного материала. Материалом исследования послужили:
- 180 проекций 12 художественных текстов, 16700 свободных и направленных ассоциативные реакции на 230 слов, полученных в ряде основных и вспомогательных экспериментов, которые проводились в 1991-1998 гг. с участием около 400 человек, лиц мужского и женского пола, в основном студентов уфимских вузов, а также Тверского государственного университета;
- материалы проводившихся в 1995-1998 гг. наблюдений над особенностями понимания художественного текста на занятиях по аналитическому чтению в группах студентов старших курсов факультета романо-германской филологии БашГУ и на занятиях по литературе в старших классах технического лицея г. Уфы.
Программа исследования реализована при помощи следующих методов: метода выделения наборов ключевых слов, методов свободного и направленного ассоциативного эксперимента, метода шкалирования, метода рассуждений вслух, который применялся в варианте «методика замедленного чтения» [Граник, Концевая 1996]. Для анализа полученных данных использовался метод денотатного анализа, разработанный А.И. Новиковым [1983] и адаптированный для целей нашего исследования, а также метод теоретического моделирования.
Структура диссертации обусловлена задачами исследования.
Главы 1-3 являются теоретическими. Выбор вопросов для обсуждения обусловлен тем, что механизмы формирования проекции тексты мы рассматриваем на уровне взаимодействия репрезентаций знаков текста. Для того, чтобы понять механизм их взаимодействия, необходимо знать
свойства ментальной репрезентации. Знаки текста, воспринятые индивидом, возбуждают в сознании человека определенные знания и переживания, отсюда следует, что невозможно выявить закономерности построения проекции текста без понимания того, каким образом происходит обнаружение/поиск знаний в памяти. Поскольку процессы понимания протекают в рабочей памяти человека, ее структура и специфика протекающих там процессов оказываются решающими факторами, влияющими на особенности функционирования механизмов создания репрезентации текста. Использование слов, структурных и параграфемных средств текста в качестве средств доступа к знаниям и переживаниям человека протекает как процесс нахождения информации в памяти.
Первая глава диссертации посвящена анализу имеющихся подходов к пониманию сущности процесса нахождения следов памяти с позиций теорий множественной и единой памяти. Рассматриваются также разные концепции рабочей памяти человека, важность понимания специфики которой обусловлена тем, что именно там происходит создание проекции читаемого текста. Психической формой существования знаний в памяти является ментальная репрезентация, структуру и закономерности функционирования которой мы рассматриваем во второй главе диссертации. Проекция текста формируется в результате взаимодействия ментальных репрезентаций слова и знаков препинания текста. В третьей главе мы анализируем структуру проекции текста, которая существует в форме комплекса репрезентаций, и содержание этапов ее развития (конструктивного, интегративного, восстановительного).
В главах 4-6 диссертации обсуждаются результаты обширной программы экспериментального исследования, проводившегося в течение 10 лет. В четвертой главе анализируется макроструктура проекции текста в ракурсе инвариантных/вариативных тенденций понимания текста. В пятой главе рассматриваются текстообразующие функции слова и роль слова в построении проекции предложения и текста. В шестой главе
обсуждаются результаты экспериментального исследования, направленного на изучение процессов формирования проекции текста на уровне ее микроструктуры, т.е. на уровне взаимодействия репрезентаций отдельных слов предложения, репрезентаций предложений текста, результи-рующихся в проекцию текста, которая отражает особенности понимания текста читателем. В заключении приводятся основные выводы по проведенной серии экспериментов.
Нахождение следов памяти с точки зрения теорий множественных систем памяти
Согласно рассматриваемой теории содержание памяти составляют качественно разные типы информации: специфические знания и обобщенные знания (см., например, деление на эпизодную и семантическую память [Tulving 1985]). Эти знания сохраняются в разных системах памяти независимо друг от друга. С точки зрения теорий множественной памяти приобретение эпизодных знаний представляет собой процесс обработки стимула в определенных условиях и в данном контексте; память регистрирует аспекты стимула и контекста, в котором он встречается; знания кодируются непосредственно из переживаемого опыта и данной ситуации [Whittlesea 1997].
С позиций обсуждаемого подхода запоминание есть процесс активации специфических репрезентаций независимо от других репрезентаций, включающих подобные элементы, а нахождение информации зависит от степени дистинктивности первоначального опыта, от доступности ключей, которые позволяют восстановить его различительные аспекты. На приобретение, содержание и нахождение знаний влияют свойства переживаемого опыта. Некоторые виды деятельности (классификация и идентификация стимульных сигналов) зависят от обобщенных свойств стимула, частотности стимула, его типичности и регулярности.
Абстрактные свойства стимула не могут быть закодированы непосредственно из переживаемого события, они выводятся на основе информации о совокупности в чем-то подобных событий, образуя единицы семантической памяти. Обобщение информации происходит при помощи специального механизма абстракции, который работает как автоматический и неосознаваемый процесс; его функционирование опирается на структурные свойства стимула. Знания, полученные в ходе работы механизма абстракции, хранятся как отдельные следы памяти, независимо от знаний о событии, которое или которые лежали в основе получения указанных абстрактных знаний [Whittlesea 1997]. Обобщенные единицы связываются в структуры, за которыми закреплены термины "схема" [Найссер 1981], "фрейм" [Минский 1979], "сценарий" [Schank & Abelson 1977]. Такие структуры оказывают затем влияние на протекание процессов обработки новых стимулов. Поскольку с позиций этого подхода постулируются несколько систем памяти, где хранятся разные типы знаний, приобретаемых и функционирующих независимо друг от друга, это означает, что в каждой системе действуют процессы, специфичные только для данной системы. При выполнении когнитивных задач они работают одновременно в параллельном режиме. Нахождение информации рассматривается, таким образом, как включающие два независимых процесса: процесс, который описывается как аффективный ответ в форме "чувства знакомости", и процесс нахождения информации в форме "вспоминания" [Atkinson & Joula 1974; Bartlett 1932; Horton et al. 1993; Jacoby & Dallas 1981; Jacoby 1990; Mandler 1980].
Чувство знакомости лежит в основе процесса нахождения информации, обозначаемого термином "распознавание". Распознавание затрагивает сенсорные и перцептивные признаки стимула. Это автоматический, неосознаваемый, неинтенциональный процесс, сопровождаемый минимальными затратами внимания; в ходе его не определяется источник найденной информации (контекст или контексты, в которых она была воспринята ранее). Ф. Бартлетт [Bartlett 1932: 195] указывает, что распознанная информация не может быть описана подробно во всех деталях, однако она может оказывать влияние на протекание последующих процессов при восприятии новых стимулов.
Вспоминание определяется Ф. Бартлеттом как немедленное "знание" того, что предъявленный стимул уже знаком или встречался ранее. Однако информация о том, что стимул "знаком" и является для воспринимающего "старой" информацией, не опирается на чувство знакомости. Источником возникновения знания является процесс вспоминания. Знания, обнаруженные в результате протекания процесса вспоминания, содержат информацию о связи данного стимула с другими стимулами, т.е. снабжены своеобразной меткой о контексте, в котором стимул встречался ранее (например, о времени, месте и т.д.). В случае вспоминания человек способен более или менее детально описать обнаруженную информацию. Вспоминание протекает как осознаваемый, интенциональный, относительно медленный процесс, требующий значительных затрат внимания; в ходе его определяется источник информации. Этот процесс связан прежде всего с кодированием концептуальной информации, одним из основных признаков которой является качество информации, определяемое силой или весом связей между единицами обнаруженного эпизода. Вспоминание и процессы, приводящие к появлению чувства знакомости, протекают параллельно и одновременно. Поскольку более быстрыми являются процессы чувства знакомости, воспоминанию информации предшествует возникновение чувства знакомости.
В основе экспериментов, направленных на выявление условий функционирования описанных выше процессов нахождения информации, лежит теоретическое допущение о раздельности процессов памяти. Были разработаны две экспериментальные процедуры. Первая из них обозначается как процедура диссоциаций субъективных оценок, основанных на суждениях „помню и знаю" [Gardiner 1988]; вторая получила название „процедура диссоциации процессов нахождения информации" [Jacoby 1991 J.
В основе процедуры диссоциации процессов нахождения информации через ответы "помню-знаю лежит допущение, высказанное в [Tulving 1985] о том, что раздельное функционирование двух процессов может быть обнаружено на основе субъективной оценки испытуемым (далее - и.) обнаруженной информации через постановку вопросов: помнит ли он, что данное слово-стимул встречалось ранее (вспоминание), или он знает, что эта информация встречалась ранее (чувство знакомости). Ответы „знаю" являются результатом действия чувства знакомости, а ответы „помню" связываются с работой процесса вспоминания информации. Данная процедура исследования процессов нахождения информации опирается на субъективную оценку испытуемыми (далее -- ии.) качества обнаруженных знаний.
Основные свойства коннекционистской сети: аналогии с мозгом человека
Понимание сущности ментальной репрезентации внешнего стимула складывалось на разных этапах развития психологической науки с опорой на метафоры, заимствованные из разных не связанных с психологией наук (см. подробнее историю вопроса и обзор используемых метафор в [Murre & Goeble 1996J). На современном этапе развития психолингвистики и когнитивной психологии в качестве основы для понимания и мо делирования ментальной репрезентации используются представления о структуре и работе человеческого мозга. Создаваемые модели ментальной репрезентации проходят, как правило, проверку при помощи компьютерных программ, которые моделируют условия функционирования ментальной репрезентации, имеющей определенные свойства и правила функционирования, при решении тех или иных когнитивных или ЯЗЫКОВЫХ задач1 (например, при выборе соответствующего контексту значения многозначного слова, установлении подобия между двумя предложениями и т.д.).
Работа исследователя в этом случае состоит из следующих этапов: а) выбор тех аспектов структуры и работы головного мозга человека, которые должны учитываться при создании модели ментальной репрезентации (например, активность нейронов и их возбуждение, группировка нейронов, активность разных частей головного мозга и т.д.); б) трактовка ментальной репрезентации на основе выбранных аспектов структуры и работы головного мозга (например, узел в структуре репрезентации соответствует нейрону; соединение узлов в сеть — группе активных нейронов и т.д.); в) выявление основных принципов функционирования ментальной репрезентации, которые приводят к ее формированию и преобразованию (в этом случае рассматриваются механизмы ее формирования, т.е. то, каким образом отдельные узлы и репрезентации взаимодействуют друг с другом). Поскольку ментальная репрезентация есть способ существования в сознании информации, исследователь определяет, какую информацию содержат узлы создаваемой ментальной репрезентации и какую информацию несет репрезентация в целом.
Цель создания моделей ментальных репрезентаций заключается в том, чтобы понять и объяснить, каким образом человек выполняет различные языковые и когнитивные задачи. При этом каждый исследователь ориентируется на те факты речевой деятельности человека, которые являются целью его исследования. Например, исследователи, занимающиеся изучением процессов понимания текста, располагают данными о том, что в ходе понимания текста его содержание делится на те или иные смысловые блоки, которые определенным образом соотносятся с поверхностной формой текста; в ходе чтения обнаруживается множество знаний, непосредственно не выраженных в форме текста; текст имеет глобальную и локальную связность и т.д. Другая группа ученых более углубленно занимается проблемами понимания отдельного слова (пониманием многозначных слов, синонимов, антонимов, неологизмов и т.д.). Третьих интересуют особенности понимания имен существительных, глаголов, прилагательных, фразеологизмов, метафор и т.д. Собранный в разных областях эмпирический материал служит ориентиром в процессе разработки модели ментальной репрезентации, поскольку последняя (модель) в ходе своего функционирования должна не только воспроизводить данные, полученные эмпирическим путем, но также объяснять, каким образом восприятие и обработка внешнего стимула приводят к таким результатам. Например, в ходе многочисленных экспериментов, направленных на исследование процесса понимания однозначных слов, обнаружено, что такое слово понимается быстрее в том случае, если оно является частотным Just & Carpenter 1980; Rubenstein et al. 1970; Seidenberg et al. 1984; Whaley 1978].
Теоретическая модель репрезентации проверяется затем через компьютерное моделирование процессов, протекающих в голове человека при выполнении указанных выше задач. Результаты, полученные в ходе работы программы, сравниваются затем с экспериментальными данными, которые разные исследователи описывают по результатам экспериментов с участием людей. Компьютерная программа, моделирующая когнитивные процессы и функционирование ментальной репрезентации, проверяет, насколько созданный вариант ментальной репрезентации способен реaшать указанные задачи. Результаты компьютерной программы могут как повторять эмпирические данные, так и отличаться от них.
По мере накопления экспериментальных данных в какой-либо области исследования возникает необходимость в создании модели ментальной репрезентации, которая учитывала бы все это разнообразие и решала все более широкий круг задач. Так, А. Кавамото iKawamoto 1993: 477-478] в ходе разработки модели ментальной репрезентации при исследовании процесса понимания слов неоднозначной семантики учитывал следующие результаты исследований: 1) с увеличением частотности слова уменьшается количество времени, затрачиваемое на понимание однозначного слова; 2) если однозначное слово находится в соответствующем его значению контексте, то слово понимается быстрее; 3) при ответах на вопрос, является ли предъявляемое слово реальным словом или просто похожей на слово последовательностью букв (lexical decision task), слова неоднозначной семантики понимаются быстрее, чем однозначные слова; 4) при чтении слов и при выполнении задания быстро называть некоторое слово при восприятии первых 3-4 букв (naming) слова неоднозначной семантики обрабатываются медленнее, чем однозначные слова (т.е. время, затрачиваемое на прочтение или произнесение слова неоднозначной семантики больше, чем время, в течение которого произносится или прочитывается однозначное слово); 5) если неоднозначное слово находится в нейтральном контексте, который не выделяет одно из его значений, то сначала осуществляется доступ к наиболее частотному значению слова;
Репрезентация на уровне пропозиций и ментальных моделей
В 70-е годы У. Кинч и Т. ван Дейк IKintsch 1974; 1977; Kintsch & van Dijk 1975; 1978] предложили репрезентацию пропозициональной структуры текста в форме графа. Пропозиция — это обладающая значением единица, которая имеет несколько аргументов; в роли последних выступают единицы, содержащие информацию о людях, объектах и т.д. Предикаты приписывают свойства аргументам или определяют отношения между ними. Лексическое значение, как считает У. Кинч, репрезентировано в памяти в форме ряда пропозиций, каждый элемент которых в свою очередь связан со своим набором пропозиций и т.д. [Kintsch 1974. В работах [Kintsch & van Dijk 1975; 1978) был предложен термин "микропропозиция" для обозначения сети пропозиций. Микроструктура текста — это совокупность пропозиций, соответствующих тому, что прямо выражено в поверхностной структуре текста, а повторение аргументов представляет собой важную черту такой микроструктуры [Kintsch 1977]. Если в поверхностной структуре текста не выражены аргументы, при помощи которых возможна связь, то необходимо их вывести. Информация, эксплицитно не выраженная в тексте (смысл текста), репрезентирована на уровне макропропозиций, составляющих наряду с микроструктурой текста его основу.
Т. ван Дейк [van Dijk 1980] выделяет типы макропропозиций в зависимости от природы операций, имеющих место при их создании, так называемых "правил создания макропропозиций". Первая группа правил — это правила сокращения количества микроструктур, а вторая группа представляет собой правила интеграции микропропозиций. Последние имеют конструктивный характер, так как на их основе создаются более сложные единицы. Группа правил сокращения информации образована двумя правилами: правилом сокращения информации и строгим правилом сокращения информации. При помощи первого происходит процесс подавления активности пропозиций, которые несут информацию частного характера или не требуются для интерпретации других пропозиций (т.е. это, в определенном смысле, "лишняя" для текста информация). Второе правило отражает процесс удаления пропозиций, необходимых для формирования микроструктуры, но лишних для макроструктуры текста. Вторая группа правил образована правилами обобщения (заменяет частные пропозиции на более обобщенные), конструктивными правилами (устанавливает причинно-следственные отношения) и правилом, согласно которому макро- и микроструктуры совпадают.
В репрезентации текста закодированы иерархические отношения частей текста; новые пропозиции подчинены пропозициям, которые уже существуют в графе и с которыми они имеют общие аргументы. Связь между пропозициями осуществляется следующим образом: на верхнем уровне иерархии находится главная пропозиция, на втором уровне — пропозиции, имеющие общий аргумент с пропозицией верхнего уровня; третий уровень иерархии составляют пропозиции, которые связаны общими аргументами с пропозициями предшествующего второго уровня и т.д. В зависимости от иерархического уровня качество запоминания пропозиций разное. Лучше всего запоминается информация верхних уровней иерархии. Создание репрезентации текста протекает циклически, за отрезок времени обрабатывается несколько пропозиций (А. Гарнхам отмечает, что одновременно в памяти могут содержаться до 10 пропозиций [Garnham 1996: 231]). Если в РП не обнаруживается общего аргумента, то идет обращение к репрезентации текста, сохраняемой в ДП. На наш взгляд, подобное последовательное понимание процесса создания репрезентации текста не вполне соответствует действительности, поскольку поиск оснований для связи осуществляется в равной мере как одновременный поиск в РП, в ДП и в репрезентации текста, сохраняемой в ДП. В конце каждого цикла создания репрезентации текста в РП сохраняются несколько пропозиций (примерно четыре), при этом допускается, что преимуществом обладает последняя пропозиция любого уровня репрезентации текста. Разрабатывая далее модель репрезентации текста, Т. ван Дейк и У. Кинч [van Dijk & Kintsch 1983; Kintsch 1986J приходят к выводу о необходимости включения в модель репрезентации текста уровня моделей ситуации. Таким образом, пропозициональный уровень становится средним уровнем репрезентации, находящимся между репрезентацией формы текста и уровнем моделей ситуаций, а модель репрезентации текста принимает гибридный характер.
В работе [Till, Mross & Kintsch 1988] приводится пример формирования пропозиционального уровня репрезентации текста, который отражает наиболее важные, на наш взгляд, этапы, хотя мы не разделяем мнение У. Кинча о пропозициональной природе значения слова. В описываемом в работе эксперименте ии. прочитали предложение "The townspeople were amazed to find that all the buildings had collapsed except the mint" ("Bee жители города были удивлены, узнав, что все здания разрушены за исключением монетного двора"). На конструктивной фазе создания репрезентации этого предложения его концепты и пропозиции комбинируются с концептами и пропозициями, имеющимися в ДП. Для каждого концепта, для каждой пропозиции из ДП выбирается небольшое число ассоциа-тов, которые включают разные значения одного и того же слова. Например словоформа mint связана с двумя ассоциатами "деньги" (mint по "монетный двор") и "конфета" (mint - "мята"). На этом этапе создания репрезентации текста еще не выбрано какое-либо значение неоднозначного слова mint. После того, как были активизированы разные значения слов, наступает этап связи активных концептов и пропозиций в их собственную сеть. Пропозиции связываются при помощи положительных и отрицательных связей. Пропозиции, извлеченные из текста, имеют положительную активацию, которая уменьшается с увеличением расстояния от единиц поверхностной структуры текста. После определения сил связей между пропозициями наступает этап их интеграции.
Функциональная классификация макроструктур текста: ядро, периферия, зона потенциальных ядерных структур
Понимание текста может рассматриваться и как некоторый процесс, и как результат этого процесса. В качестве инструментов, использующихся для объяснения понимания как процесса и понимания как результата, фигурируют понятия схемы, фрейма, скрипта и т.п. В нашем исследовании принят термин «схема», который представляется удачным в том отношении, что, во-первых, при его помощи можно обозначить динамический и статический аспекты понимания, что подчеркивает неразделимость этих явлений, а во-вторых, понятие схемы позволяет подчеркнуть идею однотипности организации понимания-результата на любом уровне развития понимания-процесса, а также общность организации обобщенных семантических единиц, участвующих в этом процессе.
Отражение понимания текста в индивидуальном сознании раскрывается через понятие «проекция». Можно предположить, что со своей внутренней стороны проекция представляет собой схему, поскольку в исследованиях понимания структура текста рассматривается как соответствующая структурам сознания.
Схема является совокупностью смысловых элементов, связанных друг с другом и образующих многомерное пространство. В схеме можно выделить ядерную часть, которая является совокупностью единиц с максимальным количеством входящих и исходящих связей. Схемы могут объединяться в более сложные сверхсхемные образования, формируя иерархические структуры [Минский 1979]. В ходе этого процесса отдельные схемы могут свертываться и занимать место элемента в схемах более высокого порядка (о том, что стоит за понятием «свернутая схема» см. главу 1, раздел 1.4, а также главу 6). Сверхсхемные образования также сохраняют ядерно-периферийную структуру.
Каждый читатель строит свою собственную проекцию текста, которая в чем-то отличается от проекций текста других читателей, а в чем-то походит на них. Совокупный учет всех возможных проекций текста у читателей данного языкового коллектива в определенное время отражает понятие «поле текста». С одной стороны, поле текста -- величина потенциальная, но с другой - оно обладает реальностью для индивидуального сознания, ибо воспринимающий текст может не только строить свою собственную проекцию, сформировавшуюся спонтанно, под действием определенной доминанты смысла, но также «воспроизводить» несколько возможных проекций одного и того же текста при выделении иных доминант, например, при корректировке содержания в ходе обсуждения с другими читателями. В этом случае в сознании формируется «совмещенный» вариант читательской проекции как отражение поля текста. Поле текста гораздо шире, чем поле индивидуальной проекции; их структурная организация соотносима, так как определяется строением лексикона человека. Однако поскольку поле текста является все же потенциальной единицей, ее структурные особенности должны объяснять вариативные возможности текста, когда разные проекции являются вариантами понимания одного и того же текста. На наш взгляд, вариативные возможности текста объяснимы при помощи структурной модели, наряду с ядром и периферией учитывающей промежуточную потенциальную зону ядерно-периферийных элементов, которые в конкретных читательских проекциях могут входить либо в ядро, либо в периферию ее поля. Для обозначения этой зоны мы используем термин «маргинальная зона». «Маргинальная зона» выделяется только по отношению к «совмещенной проекции» текста, поскольку индивидуальная проекция текста является реализацией проективных возможностей текста.
Для каждого экспериментального текста нами определялся его структурный тип (инвариантный центральный ядерный элемент; инвариантный периферийный элемент; элементы маргинальной зоны, которые в конкретных проекциях характеризуются структурной вариативностью, т.е. могут входить и в ядро, и в периферию поля разных проекций).
Рассмотрение элементов проекции текста на уровне ментальной репрезентации приводит к следующему пониманию ядерного, маргинального и периферийного элементов. Проекцию текста образуют репрезентации слов и предложений текста, соединенных в комплексы репрезентаций. В каждом комплексе репрезентаций выделяется некоторый общий паттерн активации, который отражает общий для соединяемых и интегрируемых репрезентаций смысл, который можно обозначить термином «доминанта». Доминанта формирует ядро данного комплекса репрезентаций, являясь для данного комплекса репрезентаций инвариантным паттерном активации. Если мы рассмотрим репрезентацию текста как совокупность связанных комплексов репрезентаций, то обнаружим, что все они также соединяются через некоторые общие смыслы, предстающие в данном случае как инвариантное ядро всей проекции текста. Инвариантное ядро проекции текста взаимодействует с частными доминантными смыслами (т.е. ядерными паттернами активации отдельных комплексов репрезентаций), образуя двойное ядро проекции текста. Доминантные смыслы используются читателем для создания условий интеграции и дифференциации уже созданных репрезентаций текста на новых основаниях. В ходе этого процесса увеличивается связный характер текста. Паттерны активации, соответствующие частным доминантным смыслам, представляют собой единицы маргинальной зоны.
Так, в ходе чтения экспериментального текста "Дедушка" [Бунин 1988] формируется понимание главного персонажа в плоскости, задаваемой смыслами жадный и старик . Те же самые смыслы могут рассматриваться в ракурсе новой доминанты одинокий, никому не нужный старик , при этом оценка качества жадный может иметь совершенно иной характер. Введение нового смысла позволяет иначе понять уже прочитанную часть текста; при этом созданные комплексы репрезентаций могут дезинтегрироваться для создания условий формирования нового интегративного комплекса, образованного из паттернов активации старик , жадный , одинокий . Создание комплекса репрезентаций с ядром игра , передающим содержание старик, приспосабливаясь к жизни, играет ту или иную роль , может привести к обращению к комплексам с доминантными смыслами жадный и одинокий , приводя к созданию нового "взгляда" на содержание текста, который выражается в формировании нового комплекса репрезентаций. Этот процесс может продолжаться до тех пор пока формируются новые доминантные смыслы в ходе чтения текста.