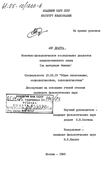Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. История изучения вопроса 12
1. Исследования М. Сводеша 19
2. Исследования И. Котяну 22
3. Исследования Н. Дориан 23
4. Исследования В. Дресслера 31
5. Отечественные исследования 36
ГЛАВА 2. Мертвые и отмирающие языки 4 8
1. Мертвые языки 4 8
2. Пути отмирания языков 55
3. Отмирающие языки 60
ГЛАВА 3. Носители отмирающего языка 65
ГЛАВА 4. Ижорцы и ижорский язык 71
1. История ижорского народа и его изучения 71
2. Социолингвистическая история ижорского народа 75
3. Социолингвистическая ситуация среди носителей ижорского языка по данным экспедиции 1999 года 8 3
4. Этнонимы и языковое мышление ижорцев 8 8
5. Влияние русского языка на языковую структуру ижорского языка 93
Заключение 113
Список использованной литературы
- Исследования И. Котяну
- Пути отмирания языков
- Социолингвистическая история ижорского народа
- Влияние русского языка на языковую структуру ижорского языка
Исследования И. Котяну
Первой работой, специально посвященной отмиранию языка, является статья М. Сводеша «Социологические заметки об исчезающих языках» (Swadesh 1948). Разнообразие языковой ситуации в США позволило исследователю наблюдать большое количество случаев, когда тот или иной язык американских индейцев был представлен небольшой и исчезающей группой носителей, а в некоторых случаях и единственным представителем, как, например, произошло с языком йахи в Калифорнии. М. Сводеш отмечает, что с точки зрения языковой истории исчезновение языков не представляет собой необычного явления. Он приводит примеры шумерского, египетского, эTOvссKoго пиктского языков исчезнувших в далекие времена. В недавней истории завоевание и колонизация новых земель европейцами привели к потере сотен языков, и процесс утраты языков по сей день продолжается в Америке. Поэтому «имеется возможность наблюдать сообщества, исконный язык которых в настоящее время претерпевает процесс исчезновения, и таким образом получить представление о подобных явлениях, происшедших в прошлом» (Swadesh 1948, 226). В своей работе М. Сводеш не делает попытки дать систематическое обоснование проблем, которые выявляются при наблюдении за отмирающими языками, однако он считает, что примеры, приведенные в статье, оправдывают его намерение обратить внимание научного сообщества на это явление. Далее следует девять описаний трагической истории народов и их языков Северной Америки, Англии и Океании: тасманийского, махи, корнского, могиканского, читимача, натчез, катавба, пенобскот, машпи. Некоторые из этих описаний теперь часто упоминаются в исследованиях по отмирающим языкам, как свидетельства предельно крайних ситуаций отмирания и даже уничтожения народностей и их языков.
В заключение М. Сводеш излагает доводы в пользу большой значимости исследований по социологии исчезающих языков. «Когда в широких масштабах перенимается новый язык, имеются определенные группы и индивидуумы, которые настойчиво сохраняют прежний язык. Такие различия в восприятии, как в начальных, так и в последних стадиях, характеризуют структуру сообщества и типы индивидуумов, которые при этом развиваются. Именно на этом основана значимость изучения социологии исчезающих языков» (Swadesh 1948, 234). Касаясь методики подобных исследований, М. Сводеш подчеркивает, что она не должна сводиться только к подсчету количества двуязычных и одноязычных носителей языков в половых и возрастных группах (чем до сих пор ограничиваются многие работы). Необходимо подробно освещать социальные тенденции, отношение различных индивидуумов и групп в сообществе к происходящим процессам, имеющиеся мнения о выборе языка, корреляцию с социальной и экономической позицией, с использованием языка в различном социальном окружении, особый символизм, приписываемый использованию языка, и многие другие аспекты.
Хотя М. Сводеш и не анализировал, как социальные факторы воздействуют на лингвистическую систему исчезающего языка, он отметил необходимость выяснения того, какие «характеристики словаря, морфологической структуры и фонетики пропадают в первую очередь, а какие сохраняются до конца». Он призывает «не заявлять, что то или иное явление вызвано состоянием отмирающего языка, а тщательно отмечать каждую частность, которая связана с непоследовательностью в использовании языка, особенно там, где имеется различие между поколениями или между консервативными или неконсервативными носителями».
Важный вывод М. Сводеша заключается в том, что «факторы, определяющие исчезновение языков, являются нелингвистическими. Не существует изначально слабых языков, которые по природе неспособны выжить в изменившихся социальных условиях» (Swadesh 1948, 234).
Пути отмирания языков
Таким образом, языки, приведенные как пример мертвых языков, не соответствуют данному определению: они не вышли из употребления и они живые. С другой стороны, нам известны мертвые языки, которые не только вышли из употребления, но на которых не существует ни письменных памятников, ни записей (они упоминаются в письменных памятниках на других языках). Например, индийский язык (северо-западная группа иранских языков) известен только по отдельным словам (большей частью ономастике) (ЛЭС 1990, 301), и это наиболее распространенная степень сохранности мертвых языков.
Нам кажется, что возникшее противоречие объясняется наличием, по крайней мере, двух неточностей: во-первых, употребление языка, видимо, не является основным критерием его жизненности; во-вторых, языки культов, «находящиеся в живом употреблении», некорректно называть мертвыми.
Касаясь критериев жизненности языка, отметим, что, безусловно, чтобы быть живым, язык должен употребляться хотя бы в одной сфере общения. Но можно ли считать живым язык эсперанто, который употребляется для общения, устного и письменного, среди тысяч любителей по всему миру? Или корнскии язык (бриттская ветвь кельтских языков), вымерший в прошлом столетии, который в наши дни пытаются возродить и на котором свободно общаются сотни человек?
По нашему мнению, необходим еще один фактор - язык должен быть родным, первым языком для определенной группы носителей. В этом смысле большей адекватностью обладает критерий Стюарта о жизненности языка (Белл 1980, 199) : «обладает или нет язык живым коллективом его исконных носителей». Наличие живого коллектива носителей подразумевает, что язык употребляется в какой-либо сфере общения, а наличие исконных носителей исключает упомянутые случаи с языком эсперанто и корнским языком.
Таким образом, если считать, что языки культов являются мертвыми, то общее определение мертвых языков можно сформулировать так: языки, вышедшие из употребления и не обладающие живым коллективом исконных носителей.
Рассмотрим теперь языки культов: их принято считать мертвыми языками, несмотря на то, что они «сохраняются в живом употреблении ... на протяжении тысячелетий после их вытеснения из других сфер общения». Поэтому, строго говоря, языки культа нельзя считать мертвыми. Как правило, они передаются из поколения в поколение в среде приверженцев религиозного учения, и в этом случае сложно оспорить, что они не обладают живым коллективом исконных носителей. В сложных ситуациях, подобных обсуждаемой, языковеды обычно прибегают к социальному параметру - языковому самосознанию носителей языка, а в нашем случае оно свидетельствует о том, что язык живой.
Имеется, однако, еще один вид мертвых языков: он встречается, когда происходит «одновременное использование мертвого языка в качестве сословного (кастового жреческого, что связано с его культовой ролью) и литературного, как использовался санскрит в древней и средневековой Индии, где в разговорном употреблении (не внутри жреческой брахманской касты) выступали пракриты (отражающие более позднюю стадию в развитии индоарийских языков по сравнению с древнеиндийским, литературной кодифицированной нормой которого был классический санскрит, являющийся одновременно мертвым языком и искусственно построенным языком с канонизированньми нормами). Отчасти сходным было употребление латинского языка (уже мертвого языка) в средневековой Европе в качестве языка церкви и литературы, а позднее в качестве основного языка высшего образования и науки (вплоть до 18 века). Различные изводы церковно-славянского языка, основанные на мертвом старославянском языке, использовались как литературные языки церковной (отчасти и светской) литературы в славянских странах, оставшихся в сфере воздействия православной церкви» (ЛЭС ,294).
В вышеприведенной цитате мы сталкиваемся с поразительным терминологическим парадоксом: языки литературы, высшего образования и науки, т. е. фактически основных сфер культуры называются мертвыми языками.
Нам видятся два пути выхода из этого положения. Первый - «строгий» вариант: называть мертвыми языки, полностью вышедшие из употребления. Тогда к собственно мертвым языкам будем относить: А) языки типа упоминавшегося индийско,о, практически не оставившие следа. Б) языки типа готского, от которых остались письменные памятники или записи (в том числе словари и тексты), В) языки типа древнеисландского, оставившие богатую литературу. В отдельную группу, которую можно назвать письмннные языки ккльтуры,
Социолингвистическая история ижорского народа
Заметим, что в ижорском, как и в прочих прибалтийско-финских языках, род, даже на уровне лексики, не различается. Однако носительница, говоря о себе, использует форму со значением именно женского пола. Противопоставление по полу для нее важно, вероятно, потому что мужчин-ижорцев осталось очень мало, и стала значимой половая принадлежность; это особенно характерно для одиноких ижорок, каких большинство и каковой является наша информантка. Таким образом, автоэтноним со значением женского рода противопоставлен другим формам нейтральным к половому различию. Форма izor не была зафиксирована в контексте, подчеркивающем род, что позволяет нам считать ее нейтральной, наряду с izori. Несколько раз форма izorka встречалась для обозначения ижорского языка, но объяснить ее происхождение затруднительно.
Отметим также, что, несмотря на возможность образовывать от формы izori множественное число - izori t/izoriD, в речи информантки форма множественного числа нам не встретилась. как и в речи других опрошенных носителей. Но часто встречается форма izorbi, имеющая очевидный русский облик, со значением собирательности.
Поэтому с точки зрения ижорского языкового мышления в первом ряду автоэтнонимов можно выделить четкое противопоставление по роду: О.Р .izori/ izor О Ж.P. izorka По числу противопоставление - единственное/множественное: Ед.ч. .izori/izor/izorka О Мн.ч. izorbi Во втором ряду представлены два варианта заимствования из финского языка - один ижорский, другой собственно финский. Они синонимичны, однако, интересно их употребление в речи информантки: Беседу ведет носитель ижорского языка, но он говорит на нижнелужском диалекте (который ближе к финским диалектам), а информантка на соикинском, поэтому она считает его «своим», но уточняет: 5) А ты кто: финн или ижорец? (suumalainen vai izori?) В примере (6), указывая на товарища беседующего (на исследователя с диктофоном), до сих пор молчавшего и, следовательно, не идентифицировавшего себя, она спрашивает 6) Он тоже ижорец? (onGaz tiimaGi inGerilaine?) Возникает вопрос: спрашивает ли она буквально, ижорец ли третий, или она спрашивает, «свой» ли он. Нам кажется, что ситуацию проясняет пример (7) в расширенном контексте 7 ) no kulla suumalaiset vopshe on gostepriimnoit vaGi da inGerilainen on paremp Gu venalaine. Ну да, финны - вообще гостеприимный народ. «Ижорцы» лучше, чем русские.
Вероятнее всего, носительница называет inGerilainen (ингерманландцами) и финнов, и ижорцев, что совпадает с тем, как финны называют жителей этих мест (ингерманландские финны, например). Однако это взгляд изнутри - для нее все «свои» -InGerilainen, а уже они могут быть финнами, у которых она была в плену во время войны, которые иногда приезжают записывать ижорские песни и присылают подарки. А могут быть izori, с которыми она живет бок о бок, но которых становится все меньше и меньше, среди которых она выделяет «ижорок» - группу одиноких женщин, переживших своих мужей, к ним она относит и себя - izorka.
Описанная нами система автоэтнонимов хорошо отражает самосознание отмирающей народности. Как правило, ижорцев меньшинство среди большинства русскоязычного окружения, но их самоназвание не меняется, как было в те времена, когда ижорцы обособились от карел и стали называть себя заимствованным из русского языка этнонимом. Их самоназвание дробится. Они вторично заимствуют русские названия, они употребляют финское название, которое сближает их с представителями родственной народности, но с которой они не могут слиться, так как оторваны территориально.
Для ижорцев, осознающих, что они исчезают, важно четко ориентироваться среди окружающих их языков и народов. Сложная структура идентификации посредством автоэтнонимов способствует самосохранению, по крайней мере, в рамках языкового мышления, указывающего, кто «свой», а кто «чужой», с кем ассимиляция допустима, а с кем нет.
Влияние русского языка на языковую структуру ижорского языка
Рассматривая односторонний характрр контактов доминирующего и рецессивного языка, тоже нельзя согласиться с тем, что этот критерий определяет жизнеспособность языка. Как правило, из доминирующего языка заимствуется большое количество политической, экономической, технической и даже культурной лексики, а из рецессивного в доминантный заимствуются только специфические реалии малого народа. Однако, если такие заимствования соответствующим образом «встраиваются» в фонетическую и грамматическую структуру малого языка, это ни в коей мере не влияет на его функционирование. Двусторонними контакты в области заимствований могут быть только между равнозначными языками но бывает это не всегда. В современный русский язык потоком вливаются заимствования из английского языка а в обратном направлении заимствования редки тем не менее это не влияет на жизнеспособность русского языка.
А вот два оставшихся критерия, пожалуй, являются необходимыми и, в определенной степени, достаточными. То, что носителями языка являются преимущественно представители старшего поколения, как одно из следствий того, что ррдители не передают язык детям, а дети его не перенимают, однозначно свидетельствует об опасности исчезновения, угрожающей языку.
Кроме того, эти критерии достаточно объективны, поддаются наблюдению и статистическому анализу. Распределение говорящих по возрастам встречается в некоторых работах в качестве основы для суждения о жизнеспособности языка. Критерий передачи языка от родителей к детям заявлен Крауссом как основной при определении того, находится ли язык на грани отмирания (Krauss 1992). Если дети не говорят на языке родителей, то шансов продолжить свое существование у такого языка мало, хотя, как мы видели, полностью исключить возможность возрождения языка нельзя.
Из лингвистических критериев первый - большое количество заимствований из доминантного языка в рецессивный - мы уже частично обсуждали, рассматривая социолингвистические критерии. Этот критерий, как мы выяснили, не может служить основанием для выводов о жизнеспособности языка.
Отсутствие или слабая степень фонологической и морфологической интеграции заимствованных слов (слова-цитаты) не всегда свидетельствуют об опасности отмирания языка. Во-первых, такие явления часто встречаются при диглоссии, когда многие слова одного языка «цитируются» в другом без какой-либо фонологической или морфологической адаптации. Например, вплоть до начала XX века в языке образованных слоев общества России часто использовались французские слова-цитаты. Во-вторых, с точки зрения переключения кодов слова-цитаты не всегда можно называть заимствованиями. Многие слова одного языка часто испольЗУЮТСЯ носителями окказионально и не входят в лексический фонд их родного языка. Этот сложный вопрос а также многие гто\/гие пгооблемы связанные с двл/язычием детально рассматриваются в работе С. Томасон и Т. Кауфман (Thomason & Kaufman 1988, Thomason 2001).
Замещение оригинальных морфологических показателей заимствованными - довольно распространенное явление во многих языках мира. Часто встречаются предельные случаи, как, например, в языке алеутов острова Медный, когда показатели лица, показатель прошедшего времени и показатель императива глаголов заимствованы из русского языка (Меновщиков 1968, 1969, Golovko 1994). Этот и некоторые другие случаи также обсуждают С. Томасон и Т. Кауфман (Thomason & Kaufman 1988, Thomason 2001). Само по себе это явление может говорить скорее о смешанном характере языка, нежели об его упадке, поскольку в функциональном плане язык мало что теряет.
Тот факт, что словообразовательные правиаа перетаают быть продуктивными, на наш взгляд, способен влиять на будущее языка. Образование новых слов необходимо для нормального функционирования языка. Если словообразовательная система полностью перестает работать, это свидетельствует о том, что язык прекращает развиваться, «застывает».
Что касается редукции фонологической системы и словоизменительной морфологии, то вряд ли это является основанием для того, чтобы говорить о редукции языка в целом. Изменения в фонологии и словоизменительной морфологии языка, даже в сторону упрощения, чаще всего представляют собой результат естественного внутреннего развития, примеры которого мы встречаем в истории любого языка. В наше время уже никто не говорит об упрощении грамматической системы языка как о свидетельстве его упадка. Еще Потебня писал: «Так называемое