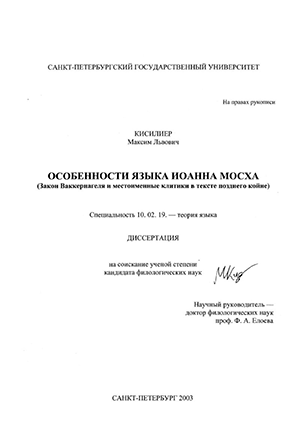Содержание к диссертации
Введение
1. Общая характеристика «Луга Духовного» 10
1.1. Текстология «Луга Духовного». Рукописи и издания 10
1.2. Некоторые литературные особенности «Луга Духовного» 21
1.3. «Луг Духовный» и диглоссия 30
1.3.1. Греческая диглоссия 30
1.3.2. Стилистические особенности «Луга Духовного» 36
1.4. Морфологические особенности «Луга Духовного» 60
1.4.1. Позднее койне и «Луг Духовный» 60
1.4.2. Имя существительное 64
1.4.2.1. Артикль 64
1.4.2.2. Род и число 68
1.4.2.3. Падеж 72
1.4.3. Глагол 79
1.4.3.1. Прошедшее время 80
1.4.3.2. Будущее время 85
2. Синтаксис «Луга Духовного » 96
2.1. Порядок слов в «Луге Духовном» 96
2.1.1. Подсчеты частотности употреблений 99
2.1.2. Рассмотрение порядка слов в рамках словосочетаний 101
2.1.3. Порядок слов в предложении и определяющие его факторы 109
2.1.3.1. Порядок слов, как один из элементов стратегии нарративности 111
2.1.3.2. Маркированность и средства ее выражения 116
2.1.3.3. Закон Ваккерналеля в «Луге Духовном» 122
2.2. Местоименные (объектные) клитики в «Луге Духовном» 137
2.2.1. Местоименные клитики. Сущность проблемы 137
2.2.2. Объектные местоимения 1-го и 2-го лица единственного числа 151
2.2.2.1. К вопросу о постпозиции местоименных клитик 155
2.2.2.2. К вопросу о препозиции местоименных клитик 160
2.2.2.2.1 Формальные причины препозиции местоименных клитик 160
2.2.2.2.2 Прагматически-обусловленные причины препозиции местоименных клитик 164
2.2.2.3. Правила постановки местоименных клитик в «Луге Духовном» 173
2.2.3. Двусложные объектные клитики 175
2.2.3.1. Двусложные местоименные формы и закон Ваккернагеля 178
2.2.3.2. Позиция двусложных местоимений относительно глагола-референта 180
Заключение 190
Приложения 194
- Некоторые литературные особенности «Луга Духовного»
- Позднее койне и «Луг Духовный»
- Порядок слов в предложении и определяющие его факторы
- Прагматически-обусловленные причины препозиции местоименных клитик
Некоторые литературные особенности «Луга Духовного»
Имя Иоанна Мосха часто появляется в работах, связанных с историей византийской литературы. «Лугу Духовному» 5 посвящен небольшой параграф у К. Крумбахера (К. Krumbacher), где приводятся отдельные сведения об авторе и рукописной традиции [Krumbacher 1897: 187-188] и отмечается, что основная ценность труда Мосха заключается для нас в описании жизни монастырей и указании их имен. Х.-Г. Бек (H.-G. Beck) также неоднократно упоминает это произведение, то говоря об аскетических идеалах, господствовавших в византийской церковной литературе [Beck 1959: 270], то подчеркивая антологический характер многих литературных памятников (Op. cit., 274); и только на с. 412 дается краткая информация о самом Мосхе, текстологии «Луга Духовного» и изданиях и латинских переводах. Рассмотрение литературных особенностей фактически сводится к замечанию о том, что перед нами типичный патерик (собрание рассказов о деяниях святых). Возникает естественный вопрос: возможен ли собственно литературоведческий анализ «Луга Духовного»? Возможен, но только в том случае, если считать произведение Мосха литературным памятником. Современники и близкие потомки, несомненно, именно так относились к «Лугу Духовному», о чем свидетельствует его «бешеная» популярность: дошло свыше 145 рукописей, содержащих текст полностью или частично [Pattenden 1989: 45]. Однако сегодня это не может быть доказательством того, что перед нами литературное произведение, тем более что сейчас «Луг Духовный», впрочем, как и большинство произведений, написанных византийскими авторами, читают только специалисты. Столкнувшись с проблемой художественной ценности византийской литературы, К. Крумбахер решает ее следующим образом: можно говорить о литературном произведении, если параметры исследуемого текста соответствуют определенному жанру. Поэтому он предлагает выделять богословскую, историческую (которая в свою очередь делится на «истории» и «хроники») и народную литературу, исходя из таких критериев, как происхождение и общественное положение автора и предполагаемый круг читателей. С одной стороны, такое деление позволило найти подход к изучению собственно византийской литературы, а, с другой, — привело к тому, что предметом исследования стали, скорее, литературные жанры, чем произведения, т. к. в первую очередь исследователи «обращали внимание на неизменные родовые признаки и, не сопрягая их с особенностями остального творчества писателей, приходили к неутешительным выводам о многовековой стабильности литературных канонов, обрекавшей на бесплодие византийских писателей» [Любарский 1978:126]. Х.-Г. Бек попытался переработать идеи К. Крумбахера и, в целом сохраняя существовавшее деление на жанры, выдвинул два новых критерия: отрыв от антикизирующейтрадиции [Beck 1971: VIII] и языковое своеобразие (Op. cit, 1, 9), которые, впрочем, по мнению А. П. Каждана [Каждая 1973: 283], также весьма условны. Исследование жанров должно считаться вспомогательным средством, но никак не основной целью литературного анализа. Мне кажется, и здесь я поддерживаю точку зрения Я. Н. Любарского [Ljubarskij 1998: 8], что в византинистике необходимо использовать новые методы литературоведческого анализа, позволяющие рассматривать текст, как набор повествовательных структур. В своей статье Я". Н. Любарский, в общем подчеркивая важность т. н. нарратопогш для литературоведческого анализа средневекового текета, указывает и на сопряженные с этим оиаеноєти, гдав-ная-из которых заключается в потере интереса к личности автора и его роли в создании произведения (Op. cit., 10-11), т. к. текст начинает рассматриваться не как литературный памятник, а как языковой.67 При этом, однако, по мнению одного из отцов нарратологии, Р. Барта, «текст содержится в языке: он существует только в виде дискурса»,68 что подразумевает факт авторства. Конечно, автор есть как у литературного текста, так и нелитературного, однако именно к первому случаю относится определение писателя; данное М. М. Бахтиным: «Писатель — это тот, кто умеет работать на языке, находясь вне языка, кто обладает даром непрямого общения» [Бахтин 1979: 305]. Следовательно, изучение роли автора в значительной степени позволяет решить вопрос о литературном характере анализируемого текста. Я полагаю, что важнейшее значение здесь играет изучение повествовательных структур, иначе говоря, принципа представления читателю переосмысленной автором действительности что, вероятно, и должно служить основным критерием жанровой характеристики литературного произведения, как это убедительно продемонстрировали К. А. Долинин и Я: Н. Любарский на примере византийской историографии [Долинин-Любарский 1999].
Рассмотрение роли автора, по моему мнению, может считаться одной из ключевых задач литературоведческого анализа «Луга Духовного». Кем был Мосх: просто собирателем отдельных историй из жизни святых и монахов, объединившим их в последствии в одну книгу69 согласно традиции жанра, или же автором, сумевшим переосмыслить и по-своему подать фактический материал, т. е., писателем в понимании М. М. Бахтина? Не подлежит сомнению тот факт, что Мосх не является автором сюжетов, многие из которых имеют аналоги в других патериках. Насколько творчески сумел Мосх подойти к своему материалу попытался определить Р. Майзано (R. Maisano), разделив все истории из «Луга Духовного» на четыре класса [Maisano 1984: 3-5]:
1. История заключается собственно в рассказе о святом или ярком эпизоде из его жизни (главы I, И, VII-IX и проч.).
2. Мосх и Софроний слушают рассказ от участника или очевидца (главы III—V, XIV, XXXVI и проч.).
3. Рассказчик истории не является очевидцем и пересказывает услышанное от кого-то другого (главы VI, XX, ХХХЕХ и проч.).
4. Мосх оказывается активным действующим лицом (главы XL, LXXVII, CL, CXXXIV, CLXXII и проч.).
Очевидно, что основным различием между выделенными классами является степень авторского присутствия (в роли персонажа) в описываемых событиях, что может рассматриваться, как одно из средств достижения наибольшей достоверности рассказа. Показательным примером может служить гл. XL, где повествуется об авве Косме. Сначала эта история, скорее, соответствует классу 2: пресвитер византийского монастыря, авва Василий, рассказывает Мосху и Софронию два эпизода, связанных с аввой Космой и свидетельствующих о последнем, как о необычайной личности, даже гробница которого обладала целительными свойствами. Кажется, на этом можно было бы и закончить, но совершенно неожиданно Мосх говорит, что он встретился с аввой Космой в лавре Фаран, и далее делится собственными воспоминаниями о нем. Благодаря неожиданному включению автора главный герой истории словно оживает в глазах читателя. Тем не менее, такой прием нехарактерен для «Луга Духовного». В основной части историй, отнесенных Р. Майзано к классу 4, автор активно выступает с самого начала. В главе CXXXIV мы узнаем о неком отшельнике Феодоре, жившем неподалеку от Иордана. Этот отшельник пришел однажды в келью к Мосху с просьбой помочь ему найти книгу, содержащую Новый Завет целиком. Так начинается история о нищем монахе, ни в коем случае не желавшем получить нужную книгу в подарок, а стремившемся заплатить за нее, отказывая себе во всем и нанявшись на тяжелую работу. Иногда в основе истории лежат не поучительные эпизоды из жизни монахов или святых, а душеспасительные изречения какого-либо старца, как в гл. СХ, где Моек и Софроний приходят в Александрии к одному египтянину за советом. На этом собственно и заканчивается сюжетная линия главы, а далее следуют наставления с цитатами из псалмов и Библии. Однако, оказываясь лишь косвенным слушателем наставлений, читатель, скорее всего, должен был испытывать некий трепет и радость от того, что ему так повезло, и до него благодаря усилиям автора «Луга Духовного» дошли слова египетского мудреца, которые начинали восприниматься не просто, как обычные поучения, а действительно нечто значительное — недаром такие уважаемые люди, как Мосх и Софроний, не пожалели времени и сил зайти за этими советами.
Позднее койне и «Луг Духовный»
Особенности языка «Луга Духовного», как я попытался продемонстрировать в разделе 1.3.2, часто стоят в прямой зависимости от стиля описания ситуации. Однако наиболее инте ресные лингвистические явления, определяемые стилистикой, не носят систематического ха рактера, например, (11).149 В то же время рассмотрение регулярных языковых особенностей «Луга Духовного» до сих пор оставалось вне нашего внимания. Раздел 1.4.будет посвящен анализу того, как (и насколько) в исследуемом литературном памятнике отражены основные процессы языкового изменения, характерные для койне. Эти изменения, настолько значи тельные, что иногда древнегреческий и новогреческий кажутся не разными диахронически ми этапами одного языка, а различными языками, затронули практически все языковые уровни. Утверждение о том, что наиболее быстрым и значительным изменениям подвергается лексика, справедливо с некоторыми оговорками и для греческого. В «Луге Духовном», при всем его явном тяготении к древнегреческой лексике, используются также и новые слова:
1. В гл. CLXXXV, христианском варианте истории о Поликратовом перстне, для обозначения рыбы используется не древнегреческое 1%тКх;, а диалектное bu/dcpiov (PG 3060D5), позднее перешедшее в новогреческое \/dpi.
2. Под влиянием христианской традиции термины KOLli]p отец , &5єА,ф6 ; брат , yepcov старец и прочие приобрели новые оттенки значения (см. сн. 75 и [Maisano 1982а]).
3. Мосх заимствует из ближневосточного койне термин dppdcQ авва (см. там же).
4. В языке «Луга Духовного» имеются широкие пласты лексики,150 заимствованной из латинского языка. X. Симону Палмеру удалось в своем исследовании [Simon Palmer 1993b]
продемонстрировать, что лексику латинского происхождения, представленную в произведении Иоанна Мосха можно разделить на следующие классы: Церковная терминология Администрация и управление Военное дело Единицы измерения и монеты Архитектура Мебель и домашняя утварь Одежда Род деятельности и проч. 5 Указанные классы слов соответствуют тем сферам жизни и деятельности, где влияние западной (римской) культуры было особенно сильным, и вписываются в общую схему латинских заимствований. Впрочем, несмотря на сравнительно большое количество классов, выделенных X. Симоном Палмером, число слов латинского происхождения невелико: в списке испанского исследователя их не более сотни.
Значительно больший интерес представляют процессы, затронувшие другие уровни
языка, тем более что койне может служить ярким примером того, как изменение одного языкового элемента оказывает влияние на развитие всей системы языка. Как известно, в фонетике греческого языка в эпоху койне, исчезает противопоставление между открытыми и закрытыми, а также — долгими и краткими гласными, что приводит к сужению ряда гласных (т. н. итацизму). Эти процессы, с одной стороны, оказались тесно связанными с исчезновением мелодического ударения в греческом, что, в свою очередь, повлекло за собой не только изменение просодики, но и синтаксиса, где, в отличие от прежних периодов развития языка, фонетические единства начинают совпадать с синтаксическими: по мнению Т. М. Николаевой, греческий этого периода представляет собой третий этап просодической эволюции — пост-словный, т. е., «когда фразово-просодической единицей оказывается фрагмент, больший, чем слово, а мелодические контуры становятся все более четко очерченными и гло 1 S7
бальными» [Николаева 1996: 15]. С другой стороны, вышеуказанные фонетические изменения оказывали значительное влияние и на морфологию, приводя к частичной, а иногда и полной омонимии парадигм. Это ярко демонстрирует в своей незаконченной диссертации
Из приведенных выше парадигм видно, что 2 и 3 л. ед. ч., наиболее частотные формы, полностью омонимичны (по произношению) во всех трех наклонениях. Не имеют омонимических пар только 1 л. ед. и мн. ч. желательного наклонения, 2 л. мн. ч. изъявительного наклонения и 3 л. мн. ч. во всех наклонениях. Вероятно, появление омонимии, могло оказать свое влияние на исчезновение желательного наклонения и возникновение новых форм сослагательного, тем более что подобная омонимия затрагивала не только настоящее время, как это продемонстрировано в [Ortiz Garcia 1976-77: 13]:
Все формы парадигм (за исключением 2 и 3 л. мн. ч.), имеют омонимические пары. Подобная омонимия появляется и в именной парадигме, где, прежде всего, связана с формами дательного падежа, которые в результате произошедших фонетических изменений постепен но совпадают с другими падежами
Вышеприведенные парадигмы отражают далеко не все типы склонения, однако они представляются одними из наиболее распространенных. Мы видим, фактически полную унификацию парадигмы, где единственными «исключениями» оказываются именительный падеж мужского рода и, частично, (из-за артикля) женского. Показательно, что эти «исключения» подчеркивают противопоставленность между субъектом и объектом, но никак не прямым и косвенным дополнением, что оказывается фонетической базой для исчезновения дательного падежа.155
Языковые изменения, происходившие в койне и последующие периоды нашли свое отражение в эпиграфических памятниках и дошедшей до нас переписке.156 Однако авторы литературных памятников позднего койне, в основном, демонстрируют блестящее владение древнегреческим. Во Введении были приведены высказывания Э. Михевч-Габровеч (сн. 13) и Р. Агуилар (сн. 14) о том, что язык Иоанна Мосха отражает многие языковые реалии своего времени. В то же время вспоминается мнение Дж. Хоррокса, приведенное в самом начале раздела 1.3.2 (см. также сн. 102), который отмечает, что морфология «Луга Духовного» практически не отражает изменения морфологической системы, произошедших еще в койне, и языковые процессы, современные Мосху. Так, почти на каждой странице можно встретить многочисленные факты употребления дательного падежа, который, скорее всего, в это время
уже давно не использовался в разговорном языке. Очевидно, что Дж. Хоррокс, говоря о морфологии, имеет в виду, скорее, «учение о форме», а не современное ее понимание, как анализ слова «во всех его релевантных аспектах» [Мельчук 1997: 30], когда предметом исследова-ния оказываются также частично вопросы, традиционно относимые к синтаксису. Об этом, в частности, свидетельствует пример, приведенный самим Дж. Хорроксом (k EOEV !Ог %t\l 6\/lV см. пример (11)), где местоимение в род. п. (!Ot ), традиционно выполнявшее функции притяжательного и формально служащее определением к прямому объекту (xf]V 0\/IV), неожиданно занимает несвойственное ему место перед артиклем определяемого слова (!01 xf]V 5v/iv) сразу после управляющего глагола, что позволяет считать это местоимение личным в функции косвенного объекта. Однако в древнегреческом падежом косвенного дополнения, за исключением случаев, связанных с особенностями управления у ряда глаголов, был дательный, и здесь следовало бы ожидать не ЦОи, а [ХОі. В то же время в «Луге Духовном» встречается немало «аномалий» и с точки зрения морфологии (в собственном смысле слова), на некоторых из которых мы сейчас и остановимся.
Порядок слов в предложении и определяющие его факторы
Описывая особенности синтаксических структур (вернее, поверхностно-синтаксических представлений), И. А. Мельчук в [Mel cuk (а): 24] говорит о четырех средствах, которые всегда используются для выражения значения предложения: лексемы, порядок лексем (порядок словоформ), просодия и формообразование. При этом отдельно подчеркивается, что:
1) не существует других типов лингвистических средств, при помощи которых можно было бы выразить значение предложения;
2) эти лингвистические средства используются во всех языках и функционируют во всех предложениях (за исключением, пожалуй, только формообразования, отсутствующего в ряде языков и встречающегося, в тех языках, где оно есть, не во всех предложениях);
277 Ср. с высказыванием У. Леманна (W. Lehmann), который указывает на «подрывную» (disruptive) роль под лежащего, отмечая, что, если бы мы имели дело только с VO/OV языками, было бы намного проще выработать формальные принципы, определяющие порядок слов [Lehmann 1976: 447].
278 Рисунок 4 можно представить и в обратном виде:
3) каждое из этих средств может использоваться как для выражения значения напрямую, т. е., в семантической функции, так и не имея непосредственного отношения к значению, а служа для указания связи между словоформами в рамках предложения, т. е., в синтаксической функции (Таблица 16): .
Таблица 16 демонстрирует, что основной задачей при изучении предложения является не столько рассмотрение отдельно семантических и синтаксических (или просодических) структур, сколько поиск соответствий между ними, т. е., того, как изменения, происходящие на одном уровне, отражаются на других. Вспоминает приведенное в разделе 2.1.2 замечание Ч. Ли и С. Томпсон о стремлении элемента, выражающего тему, занимать начальную позицию в высказывании, можно отметить, что даже в том случае, если данное утверждение на 100% соответствует истине, оно не облегчает дальнейшего исследования при отсутствии детального описания ограничений синтаксических позиций. В некоторых языках эти ограничения достаточно очевидны, например, т. н. явление Verb-second немецком. В греческом описать подобные ограничения намного сложнее. Дж. Довер (J. Dover), формулируя вопросы, связанные с изучением древнегреческого порядка слов, в качестве примера берет три слова jedvea все , dev модальная частица, в целом, соответствующая русской частице бы и eypoc\/(v) он написал (аорист) и пытается их по-разному комбинировать [Dover 1960: 2]. В результате, из шести возможных вариантов два оказываются вообще не возможны ( dv jrdvxa feypa\/ev и dv eypa\/ev jrdvxa), а один крайне маловероятен (&урсс\/є roxvxa dv). Комментируя «невозможные» варианты, Дж. Довер говорит, что так не может быть, потому что dv никогда не начинает предложение. И он, несомненно, прав: древнегреческий, будучи одним из ваккернагелевских языков, оставляет для клитик второе место в предложении. Однако в новогреческом многие клитики (например, слабые формы личных местоимений в косвенных падежах) могут быть как энклитиками, так и проклитиками, иначе говоря, оказываться в начале предложения. Поэтому описание синтаксических ограничений для среднегреческого, промежуточного звена между разными языковыми системами, представляется очень затруднительным.
По моему мнению, рассмотрение порядка слов в тексте Иоанна Мосха будет наиболее перспективно в рамках решения следующих задач:
a) Рассмотрение маркированных элементов и поиск закономерностей в их расположении в предложении (т. е., отражение маркированности на просодическом и собственно синтаксическом уровнях).
b) Влияние просодических особенностей высказывания на порядок его составляющих (т. е., наблюдение за функционированием закона Ваккернагеля в «Луге Духовном»).
Наравне с этими факторами, на порядок слов в «Луге Духовном» могли оказывать определенное влияние и стратегии, используемые автором для передачи информации, с краткого описания которых я начну рассмотрение факторов, влияющих на порядок слов в тексте Мосха.
Прагматически-обусловленные причины препозиции местоименных клитик
Говоря о прагматически-обусловленных факторах, влияющих на препозицию местоименного дополнения, я имею в виду маркированность, точнее одну из процедур эмфазы, связанную с перемещением синтаксических элементов в рамках структуры предложения, в результате чего местоименная клитика оказывается перед глаголом-референтом. Влияние процедур эмфазы на появление препозиции было уже отмечено в 2.2.2.2.1 при разборе примера (148), где действие эмфазы, вызывая общее изменение порядка слов, не обуславливает напрямую препозицию местоименной формы. Прежде всего, я хочу остановиться на рассмотрении тех примеров, где, как мне кажется, присутствие эмфазы оказывается, если не единственным, то основным фактором, приводящим к VOp: (157) Ті yap і5е ; ісп) KCCA,6V, бті ouxcot; [ie]0p [dya%aq]v;
Что же ты увидел во мне хорошего, что так меня любишь? (PG 2913 А15).
Объяснение препозиции местоименной клитики в терминах эмфазы может выглядеть следующим образом: почему же ты полюбил именно меня, а не кого-то другого? При подобном понимании в центре действия эмфазы оказывается именно местоименная форма, маркированность которой выражается в ее перемещении: VOp OpV. Похожим образом можно трактовать и порядок слов в примере (105): Sid ті oi)TCOQ [іє]ор [і!Ш.рі ;]у ...за что ты так {именно) меня мучаешь... , т. е., говорящая интересуется, почему из всего множества людей, которых можно было бы мучить, объектом мучения оказалась именно она. Повторю, что при подобной интерпретации маркированности порядка слов элементом, меняющим свою позицию в данном предложении, является именно местоименная клитика.
Рассмотрение местоименной клитики, находящейся в препозиции, как маркированного элемента, связано, по крайней мере, с одной очень серьезной трудностью: во всех языках, где имеются сильные и слабые местоименные формы (например, романские и балканские языки), маркированными являются именно ударные формы, но никогда не клитики.4 5 При рас смотрении сильных форм местоимений в «Луге Духовном» эта проблема кажется на первый взгляд легко преодолимой. Во-первых, ударные формы, как показывают подсчеты, употребляются в функции дополнения гораздо реже, чем клитические (57 : 564), и практически не бывают в постпозиции (см. Таблица 24):
Как видно из таблицы, основной сферой употребления сильных форм в «Луге Духовном» являются сочетания с предлогами:
Сочетание сильных форм местоимения с предлогами вполне объяснимо: те, как любые кли-тики, стремятся занять место рядом с ударными (а к тому же еще по определению маркированными) словоформами. Напротив, местоименные клитики, если и сочетаются, то с наречиями, т. е., словоформами, имеющими собственное ударение. В качестве примера, ниже приводятся два наиболее частых случая:
Казалось бы, сопоставление примеров под номерами (159) и (160) должно, несомненно, указывать на различия между сильными формами местоимений и клитиками. Однако один пример заставляет в этом усомниться: (161) np6 ;!J,eCPG3104B2)
Удивительное в этом примере даже не то, что здесь встречается сочетание Prep + Ор, вместо ожидаемого Prep + Ор , а то, что в «Луге Духовном» есть аналогичный пример Prep + Ор , только с местоимением не первого, а второго лица — см. (159).(j). Очевидно, что тсрбс; [ХЄ и тир6 ; сё на просодическом уровне ничем ничем не отличаются. Отсюда можно сделать один очень важный вывод: нельзя доверять графике «Луга Духовного», т. е., различия между сильными и слабыми формами не всегда отражаются на графике. Это заключение объясняет, во-первых, такое малое число местоименных форм, графически оформленных, как ударные, а, во-вторых, позволяет предположить, что при прагматически-обусловленном OpV в препозиции оказывается не клитическая, а ударная форма, что устанавливает следующую оппозицию: VOp -+Op V. Данное предположение, действительно, подтверждается некоторыми примерами, где имеется сильная местоименная форма, предшествующая глаголу-референту: