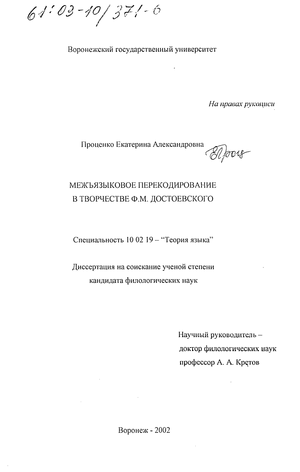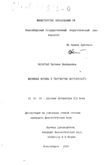Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Основные аспекты проблемы взаимодействия единиц различных языковых кодов -11-
1.1. Семиотический аспект -11-
1.1.1. Языковой код как система знаков -11-
1.1.2. Художественный текст -18-
1.2. Общелингвистический аспект -22-
1.2.1. Проблема типологии лексики иноязычного происхождения -23-
1.2.2. Причины и закономерности использования лексики иноязычного происхождения, основные функции в тексте -33-
1.2.3. Лексикографическое представление иноязычной лексики -38-
1.3. К характеристике языковой личности Ф.М. Достоевского -41-
1.3.1. Авторская "картина мира" т42-
1.3.2. Творческая лаборатория писателя -47-
1.4. Переводоведческий аспект -56-
Выводы -59-
Глава 2. Переключение языковых кодов в художественной прозе Ф.М.Достоевского -61-
2.1. Общая характеристика -61-
2.2. Синтактика -64-
2.3. Семантика -76-
2.4. Прагматика -90-
2.5. Перевод —113-
Выводы -118-
Глава 3. Переключение языковых кодов в нехудожественных произведениях Ф.М.Достоевского -120-
3.1. Публицистика Ф.М.Достоевского -120-
3.1.1. Общая характеристика -1,20-
3.1.2. Синтактика -121-
3.1.3. Семантика -126-
3.1.4. Прагматика -|32-
3.2. Письма Ф.М.Достоевского -Л 39-
3.2.1. Общая характеристика -139-
3.2.2. Синтактика -140-
3.2.3. Семантика -144-
3.2.4. Прагматика Ц47-
Выводы -1 5^5-
Глава 4. Межъязыковое перекодирование в творчестве Ф.М.Достоевского -157-
4.1. Общая характеристика -158-
4.2. Графико-фонетические особенности -458-
4.3. Синтактика -162-
4.4. Семантика -167-
4.5. Прагматика -179-
4.6.Перевод -Д89-
Выводы -194-
Заключение -196-
Библиографический список использованной литературы -203-
Приложения -216-
Введение к работе
Настоящая работа посвящена изучению особенностей межъязыкового перекодирования в творчестве Ф.М.Достоевского. Разработка данной темы предусматривается договором между факультетом РГФ ВГУ и Институтом русского языка им. В.В.Виноградова РАН по созданию совместного проекта «Нерусская речь в произведениях Ф.М.Достоевского», который, в свою очередь, является первой стадией мегапроекта «Нерусская речь на страницах русской литературы» (1800-1880 гг.).
Актуальность выбранной темы очевидна в современном контексте изучения межкультурной коммуникации и подтверждается появлением в последние десятилетия значительного количества публикаций, в которых так или иначе затрагиваются различные вопросы взаимодействия языковых систем. С другой стороны, интерес к проблеме использования лексики иноязычного происхождения возник еще в XVIII-XIX вв., правда, первоначально господствовал нормативный подход (запрет на «слова-паразитизмы» или «отбор с точки зрения "надобности"» [Шетэля 2000:88]).
Реальное двуязычие, характерное для данной исторической эпохи, в особенности, для определенной социальной среды, не могло не найти отражения в русской литературе, максимально испытывающей на себе результаты контактов с другими языками, иноэтнических культурных воздействий [Тарланов 1995:8]. Поэтому и в XX в. обилие иноязычных вкраплений в произведениях классиков русской литературы (Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоевского, И.С.Тургенева), вызывающее естественные трудности восприятия у современных читателей-монолингвов, необходимость в комментариях вызывают появление исследований функционирования иноязычной лексики в произведениях отдельных авторов.
Кроме того, во второй половине XX в. интерес исследователей концентрируется на определении природы и статуса иноязычной и заимствованной лексики, что связано с возрастающим стремлением приблизиться к выявлению всех сложных и многообразных связей и
отношений как в системе одного языка, так и в сфере межъязыковых взаимодействий.
Тем не менее, по свидетельству Ю.Т.Листровой-Правды, посвятившей свою монографию проблеме отбора и функционирования иноязычных вкраплений в русской литературной речи XIX в., «работы 60-70 г.г. не только не исчерпали всей проблематики, но, наоборот, поставили на повестку дня ряд новых вопросов, которые нуждаются в решении: 1) обнаружилась приблизительность самого определения иноязычных вкраплений <...> и неясность их положения среди всех языковых средств, находящихся вне системы русского литературного языка и использующихся в стилистических целях; 2) выяснилось, что вкрапления анализируются крайне несистемно; 3) выявилось также, что в результате проведенных исследований не сложилось сколько-нибудь полной картины использования вкраплений во всех типах русских текстов XIX века» [Листрова-Правда 1986: 9-10].
Действительно, несмотря на постоянный интерес исследователей к проблеме иноязычной и заимствованной лексики, она все еще остается «terra incognita в лингвистике» [Арапова 1989:16]. Ни одна из предложенных классификаций не получила общего признания и не закрепилась в современной науке о языке. Значительный объем и разнородный характер анализируемого материала затрудняет выработку критериев классификации. Широкий спектр используемых в различных публикациях терминов свидетельствует об отсутствии общепринятой терминологии.
Новый всплеск "популярности" проблемы использования иноязычной и заимствованной лексики в последние годы объясняется не только ее теоретической, но и практической значимостью. В связи с масштабами «нашествия "престижных" англо-американизмов», данная проблема приобрела особую актуальность во всемирном масштабе [Савельева 1995:25-26]. Растет интерес к универсальным стратегиям усвоения и использования иноязычной лексики [Медведева 1996]. Более того, становление национальных языков бывших союзных республик в качестве
6 государственных языков и характерное для современной языковой ситуации в СНГ русско-национальное двуязычие стимулируют рост исследований, посвященных изучению соотношения языков в сознании и речи билингва.
Таким образом, проблема иноязычной и заимствованной лексики
продолжает обсуждаться в рамках различных наук и научных дисциплин:
социолингвистики - в связи с проблемой языковых контактов
(В.Ю.Розенцвейг, О.А.Пылакина, Н.И.Голубева-Монаткина, В.Н.Базылев,
Е.Э.Биржакова, Л.А.Войнова, Л.Л.Кутина); психолингвистики - в связи с
проблемой билингвизма (А.А.Леонтьев, Р.К.Миньяр-Белоручев,
И.Р.Батищева, В.В.Куцова, В.В.Юртайкин, Ф.А.Ветлугина и др.); лингвистики- как в рамках стилистики и лингвистики текста (М.П.Петров, В.В.Шмелькова, Е.А.Маймескул, Д.К.Жане, З.Г.Османова и др.), так и в сфере лексикологии (Л.П.Крысин, Н.П.Тимофеева, А.И.Киндеревич, Я.К.Радевич-Винницкий, А.М.Бабкин); переводоведения (Л.Н.Наумова, Л.М.Макаров). Уже сам факт существования таких разнонаправленных исследований свидетельствует о том, что вышеназванная проблема является сложной и многоаспектной. Думается, что ее решение возможно только в результате интеграции знаний, накопленных в рамках разных подходов. Попытку сопоставления и систематизации различных аспектов проблемы и представляет настоящая работа.
Новизна данной работы заключается в применении к изучению проблемы межъязыкового перекодирования интегративного подхода, который предполагает комплексное изучение проблемы с позиций различных взаимосвязанных наук или научных дисциплин. Выработанный подход имеет, на наш взгляд, ряд преимуществ. Он позволяет рассматривать изучаемое явление (или процесс) в комплексе обнаруженных взаимосвязей и взаимозависимостей. Он обеспечивает получение "универсального" знания, не упрощенного в результате отвлечения от многообразия окружающих условий и действия разнонаправленных факторов, а, следовательно, наиболее адекватно отражающего объективную действительность. При этом, знания,
полученные в результате рассмотрения проблемы с позиций нескольких научных дисциплин, дополняют и уточняют друг друга. Тем не менее, не претендуя на всестороннее и исчерпывающее знание проблемы, мы выделили несколько ее аспектов.
Семиотический аспект предусматривает разработку общих закономерностей передачи информации посредством языка как канала связи. Общелингвистический подход обеспечивает разноплановое исследование языковых явлений: в отношении к обозначаемым предметам или явлениям (т.е. в плане семантики); в отношении к другим языковым единицам (т.е. в плане синтактики); в отношении к человеку (т.е. в плане прагматики). Исследование в плане стилистики предполагает изучение индивидуально-авторского стиля, особенностей словоупотребления писателя. Изучение основ и механизмов переключения кодов требует привлечения данных психолингвистики. Лексикография служит способом представления и систематизации материала. Литературоведческий подход предполагает выявление взаимосвязи между художественным кредо писателя, его "картиной мира" и используемыми языковыми средствами. Анализ переводов выявляет основные способы передачи лексики иноязычного происхождения.
В качестве объекта данного исследования рассматриваются все контексты произведений Ф.М.Достоевского, в которых используются иноязычные или перекодированные лексические единицы, являющиеся предметом исследования.
На защиту выносятся следующие положения:
В зависимости от жанра произведений Ф.М.Достоевского меняются характеристики иноязычных единиц, такие как количество и состав иностранных языков, их соотношение в общем объеме словоупотреблений, распределение иноязычных единиц по грамматическим категориям, разделам и рубрикам синоптической схемы, наиболее типичные функции в тексте.
Для разных иностранных языков, привлекаемых Ф.М.Достоевским, наиболее частотными оказываются разные виды вкраплений: если для
французского языка более 50% словоупотреблений приходится на предложение, то для других языков более распространены словосочетание и отдельная словоформа как виды вкраплений.
3. Ф.М.Достоевский не выходит за рамки общеязыковой нормы языка-
источника (ЯИ), однако вовлечение иноязычных единиц в контекст
произведения приводит к их «эмоционально-экспрессивной осложненное»
(по Б.А.Ларину).
4. Основной объем иноязычной и перекодированной лексики, выявленной в
творчестве Ф.М.Достоевского, сосредоточен в разделе «Человек». Раздел
«Человек и Вселенная» разработан недостаточно детально, раздел
«Вселенная» лишь контурно намечен.
5. Иноязычные и перекодированные языковые единицы используются
Ф.М.Достоевским с определенной прагматической установкой. К числу
наиболее распространенных функций относятся: экспрессивная,
эмоционально-оценочная, функционально-стилевая, афористико-
репродуктивная, иносказательная, а также характерологическая.
Перевод иноязычных единиц на ЯИ путем их сохранения и выделения в переводном тексте курсивом нивелирует одну из особенностей идиолекта Ф.М.Достоевского и оставляет непроницаемой прагматическую установку.
Существует зависимость между грамматической категорией вкрапления и его адаптацией на морфологическом и синтаксическом уровнях: словоформы и словосочетания (в отличие от предложений) изменяются в соответствии с синтаксическими и, реже, морфологическими моделями языка-приемника (ЯП), независимо от степени ассимиляции на других уровнях.
Теоретическая значимость настоящей работы заключается в попытке выйти за пределы узкоспециализированного исследования творчества Ф.М.Достоевского и создать на базе анализируемого конкретного материала более или менее обобщенную лингвистическую классификацию, вывести теорию из конкретного материала.
Практическую ценность представляет созданный в рамках исследования
словарь иностранных слов, используемых в произведениях Ф.М.Достоевского (образец см. Приложение 2). Лексикографическая интерпретация иноязычной лексики на страницах произведений писателя осуществлялась на тех же принципах, что и в «Словаре языка Достоевского», с тем, чтобы обеспечить совместимость и интегрируемость словарей русской и иноязычной лексики. Разработка словаря предусматривала предварительное создание лемматизированных конкордансов - отдельно по художественным и не художественным жанрам - которые имеют самостоятельную научную ценность, включая большой объем информации (образец см. Приложение 3).
Целью данного исследования является изучение особенностей сосуществования и взаимодействия различных языковых кодов в творчестве Ф.М.Достоевского, выявление зависимости выбора и функционирования иноязычных и перекодированных единиц от авторского замысла и жанра произведения.
Для достижения намеченной цели были поставлены следующие задачи:
- проанализировать современное состояние проблемы на основе системного
обзора литературы по теме исследования,
проследить закономерности функционирования лексики иноязычного происхождения в зависимости от жанрово-стилевой принадлежности текста,
последовательно разграничить проблемы использования иноязычной и перекодированной лексики, выявить особенности их употребления.
Поставленные задачи определяют структуру работы, которая состоит из четырех глав. В главе I представлен обзор литературы по теме исследования на основе изучения трудов как отечественных, так и ряда зарубежных исследователей. Исходя из современного состояния науки о языке, определяются основные понятия и формулируются принципы диссертационного исследования.
Семиотический аспект
С внедрением семиотических идей в лингвистику в научном обиходе последней прочно укрепились термины «код», «кодирование», «перекодирование». Причем, уже в 60-70 гг. не раз отмечалось, что вышеупомянутая терминология употребляется без соответствующих дефиниций, как нечто изначально данное и само собой разумеющееся и, как следствие, применяется подчас для обозначения абсолютно не идентичных явлений или процессов. В связи с вышесказанным, возникает необходимость первоочередного определения используемых терминов.
Под кодом в широком смысле понимается «система знаков и правил их соединения, позволяющая передать сообщение по заданному каналу» [Арнольд 1974:6]. Языковый код, взаимодействующий в процессе коммуникации с другими коммуникативными системами [Чанышева,
Хисамутдинова 1985], распадается на ряд субкодов - подъязыков или языковых уровней. Языковым кодом является, таким образом, язык, рассматриваемый, как знаковая система. С этой точки, зрения., «случаи сосуществования, в одном тексте элементов различных систем относятся к смешению систем» [Шрейдер 1974:15}.
Определение языка как системы знаков является общепризнанным и уже в какой-то степени традиционным в современной лингвистике. Однако, несмотря на постоянный интерес исследователей, многие вопросы, связанные с природой языкового знака, продолжают оставаться спорными. К ним относятся проблема определения специфики языкового знака (как среди других типов знаков, так и среди других социальных систем), проблема типологии знаков, структуры языкового знака и т. д.
В семиотике под. знаком понимается «материальный чувственно воспринимаемый объект (предмет, явление, действие), который выступает как представитель другого предмета, свойства» [Гринев 1997:67]. В литературе, посвященной рассмотрению природы и свойств знаков, предлагаются разные варианты их типологии. Различно как число единиц, рассматриваемых в качестве знаков, так и их состав (от 2 или 3 типов, например, у Ю.С.Степанова, до 66 типов знаков, объединенных в 10 групп у Ч.С.Пирса). Большинство исследователей признают своеобразие языкового знака, хотя в качестве, его специфических признаков выдвигаются различные основания (см. [Волков 1966:49-55]).
Абсолютное единство мнений не достигнуто и а вопросе, о том,, какие единицы языка следует считать знаками. Исторически сложилось признание слова основной единицей языка, а, следовательно, и знаком. В последнее время знаками признаются фонемы, морфемы, слова, словосочетания, предложения, однако при этом понятие знака не считается одинаковым на разных уровнях языка. Так, И.СЛемоданов утверждает, что разныеединицы языка в. разной степени, имеют знаковый, характер: «Различные, качественно отличные единицы системы языка располагаются между двумя полюсами: на одном из них мы находим фонемы как такие единицы языковой структуры, которые сами по себе лишены идеальной стороны и используются как ... форма существования более высших единиц языковой структуры, а на другом полюсе - слова и их сочетания, в которых материальная, т. е. звуковая сторона практически выпадает из поля зрения говорящего и слушающего и воспринимается им ... как естественное обозначение мысли» [Чемоданов 1981:80]. Иными словами, знаковая природа в наибольшей степени свойственна морфеме и уменьшается от морфемы к словосочетанию и предложению. Эту точку зрения разделяют большинство исследователей (например, [Волков 1966], [Ломтев I960]).
Действительно, трудно не согласиться с утверждением, что разным единицам языка в разной степени присущ знаковый характер. Думается, однако, что не следует недооценивать и роли формы слова в художественной литературе. Возможно, что в прозе звуковой образ слова менее важен, чем в поэзии, тем не менее, можно предположить возможность если це первостепенной, то особой значимости формы при выборе и использовании лексики иноязычного происхождения.
Для выяснения возможных причин выбора и использования лексики иноязычного происхождения, обратимся к рассмотрению структуры языкового знака, анализу его основных компонентов как возможных оснований привлечения иноязычных лексических средств. Проблема структуры языкового знака, соотношения знака и значения - одна из важнейших и потому широко обсуждается в науке. Выработано множество различных концепций значения (синтаксическая, функционалистическая, бихевиористическая, концептуалистская, реалистическая, синтетико генетическая и др. [Баженов, Бирюков 1967:168]), каждая из которых имеет свои достоинства и недостатки.
Синтактика
Общее число словоупотреблений иноязычных единиц, используемых в художественной прозе Ф.М.Достоевского, составляет около 6000. Иносистемные элементы, выявленные в произведениях Ф.М.Достоевского, представляют собой различные языковые единицы. Однако, количественный анализ выявляет явное превосходство именной группы (на долю существительных приходится около трети словоупотреблений), которое, впрочем, уже не раз отмечалось исследователями иноязычной и заимствованной лексики. Это лишь очередное подтверждение того, что существительные представляют наиболее «открытый» класс слов и составляют основу владения иностранным языком.
Традиционно лингвисты выделяют и подвергают анализу три грамматические категории - слово, словосочетание, предложение. Причем, ставшее привычным и общепринятым понимание слова как единицы морфологии, но не синтаксиса, во многом переосмыслено в современной лингвистике. Заметим, что понимание различий между словом в системе языка и его функционированием в речи привело лингвистов к осознанию необходимости выделения новой категории довольно давно. В этой связи можно вспомнить учение о форме слова Ф.Ф.Фортунатова; представителей американской лингвистики, которые по-своему пытались решить (или, скорее, устранить) эту проблему (например, метод непосредственно составляющих). В исследованиях последних лет все более укрепляется термин «словоформа» для обозначения синтаксической единицы, которой соответствует слово, реализованное в речи и вступающее во взаимодействие с другими единицами, т. е. «со стороны сочетательной» [Долгов 1991:94].
Если рассматривать в качестве основных категорий и единиц анализа словоформу, словосочетание и предложение, то окажется, что более половины (66%) выявленных иноязычных единиц употребляется в составе иноязычного предложения, около трети - в составе словосочетания и лишь 6% - как отдельная словоформа (см. Приложение 5, рис. 2). С другой стороны, если соотнести данные грамматические категории с видами вкраплений, то словоформа встречается почти в два раза реже, чем предложение и более, чем в полтора раза реже, чем словосочетание (см. Приложение 5, рис.3).
Изолированные вкрапления-словоформы в абсолютном большинстве случаев представлены именами существительными (в том числе и именами собственными). Например: "— Да, да, я вам сам про него говорил: больной, то есть это malheur... то есть я было хотел выразиться по-французски, но, извините, я по-французски не так свободно, то есть..." [Хз 312] "Оставаться долее в Петербурге было, разумеется, невозможно, тем более, что и Степана Трофимовича постигло окончательное fiasco." [Бс 23]
Однако с точки зрения частеречной принадлежности спектр вкраплений-словоформ достаточно широк и охватывает все знаменательные части речи и некоторые служебные. Ниже следуют примеры изолированного употребления различных частей речи, расположенные по убыванию частотности: - числительное, например: "Бабушка из себя выходила, на месте ей не сиделось, даже кулаком стукнула по столу, когда крупер провозгласил "trente six" вместо ожидаемого zero." [Иг 263] - глагол, например: "То есть distinguons. В нынешнем обществе оно [состояние женщины], конечно, не совсем нормально, потому что вынужденное, а в будущем совершенно нормально, потому что свободное." [ПН 283] "Губернатору Шульцу он прямо отрезал: credo, да не знаю во что."[БрК 124] - прилагательное, например: "Чаще же всего пусть читает premier-политик "С.-Петербургских известий", сверяя каждодневно с "Волосом". " [Кр 195] "Если сам я un outchitel кажусь чем-то subalterne, ну и, наконец, без защиты, то мистер Астлей — племянник лорда, настоящего лорда, это известно всем, лорда Пиброка, и лорд этот здесь. " [Иг 242] - наречие, например: "Наконец Аделаида не выдержала и, усмехнувшись, призналась, что они зашли incognito ... " [Ид 252] - междометие, например: "Счастливый путь, merci." [СА 10] - союз, например: "— Твоя мать — совершеннейшее и прелестнейшее существо, mais... Одним словом, я их, вероятно, не стою." [Пд 217] - местоимение, например: "— Се Тушар... действительно я припоминаю теперь, что он такой маленький и вертлявый, — процедил Версилов, — но мне его рекомендовали тогда с наилучшей стороны..." [Пд 97]
Словосочетания оказываются более чем в полтора раза употребительнее, чем словоформы. По структурному составу используемые Достоевским словосочетания весьма разнообразны. Тем не менее, как и следовало ожидать, учитывая количественные показатели распределения иноязычных единиц по частям речи, абсолютным и беспрецедентным лидером являются именные словосочетания. Последние представлены всего двумя основными типами, в которых, однако, можно выделить несколько подгрупп.
I. Наиболее многочисленную группу составляют словосочетания типа существительное с прилагательным (около 150 случаев), среди которых можно выделить следующие структурные типы:
a) Adj + N, причем среди прилагательных большей частотностью отличаются качественные и притяжательные например: "— Ну, да ведь она, братец, grande dame, генеральша! " [ССЮ] "— Ну да, да ... Только, знаете, она все-таки такая belle femme..." [Де 342] "— То есть о нашем деле, хотите вы сказать. Я вас понимаю с полуслова, топ ami, но вы и не подозреваете, как близко мы коснемся к делу, если заговорим теперь об вас и если, разумеется, вы меня не прервете." [У О 357] "— Жестокий сын! — кричит генеральша очнувшись, — ты растерзал мои внутренности... mes entrailles, mes entrailles!" [CC 10]
Публицистика Ф.М.Достоевского
В качестве основных категорий анализа мы выделили словоформу, словосочетание и предложение. Если распределить весь объем выявленных в публицистике иноязычных единиц по вышеназванным категориям, то окажется, что около половины из них используется в составе иноязычного предложения, тогда как в других грамматических категориях встречается значительно меньшее число иноязычных единиц (см. Приложение 6, рис.5).
С другой стороны, изолированные вкрапления-словоформы являются одним из самых частотных видов вкраплений. Только в этом виде вкраплений используются единицы всех выявленных иностранных языков. С точки зрения частеречной принадлежности, вкрапления-словоформы достаточно однотипны: они представлены почти исключительно существительными. Приведем несколько примеров:
"Он является везде en maitre; так подражать, значит творить самому, не подражать, а продолжать. Неужели такое явление кажется вам несамостоятельным, ничтожным, ничем?" [Пб 19:114]
"Но во имя чего он отрицает в нашей теперешней русской куче сору и хорошее и дурное?.." [Пб 20:11] "Этого недоставало еще несчастной Франции! Это, однако же, в порядке вещей: военный деспотизм непременно должен вести за собою начало pronunciamiento." [Пб 21: 222] "С ожесточением нападают на тронную речь польские журналы, а в чешском "Pokrok" заявлено прямо, что тронная речь императора к цислейтанскому рейхсрату "до чешской нации не относится". [Пб 21: 228] "В Англии, в грубых клисгах городских roughs нередки, как я уже заметил, случаи жестокости с детьми." [ДП 26: 59] Среди других частей речи изолированно употребляются: - сочетание предлога с артиклем, например: "Итак, почему же вы думаете, что даже убийство а 1а Нечаев остановило бы если не всех, конечно, то по крайней мере некоторых из нас в то горячее время, среди захватывающих душу учений и потрясающих тогдашних европейских событий, за которыми мы, совершенно забыв отечество, следили с лихорадочным напряжением?" [ДП 21:131] - наречия, например: "Наконец, Великанов опять возвращается, и они опять живут в Петербурге (maritalement, разумеется), — и вот вдруг важнейщий эпизод романа — приезжает жена Великанова, и Каирова "встрепенулась, «ак львица, у которой отнимают детеныша". Тут действительно начинаетсятггного красноречия." [ДП 23: 14] - междометия, например: "Крики справа. Yes, yes, браво, урре! урре! Это чувства настоящего британца." [Пб 20: 48] Словосочетания как вид вкраплений столь же частотны, "как и отдельные словоформы (см. Приложение 6, рис. 6). По своему структурному составу наиболее распространенными оказываются именные словосочетания следующих типов: 1. N + Prep + N, например: "Петровские реформы создали у нас своего рода statum in statu." [Пб 20:7] Но все эти professions de foi, я думаю, очень скучно читать, а потому расскажу один- анекдот, впрочем", даже я не анекдот; так, одни лишь датгекре воспоминание, которое мне почему-то очень хочется рассказать именно здесь и теперь, в заключение нашего трактата о народе." [ДП 22:46] 2. N+Adj, например: "Наши esprits forts, наши прогрессисты, герои тших кружков, борзописцы наших журналов не представляют никаких іадатков будущего; все это одна гниль разложения. Пусть начнется жизнь, и -ниль исчезнет сама собой". [Пб 19:172] Этот злодеи, этот tirano ingrato, так и рождался злодеем, совсем готовый по сакому-то тайному и совершенно непонятному предопределенью судьбы." Пб 18:14] \dj + N, например: "И вот раз, в июле месяце, в моей квартире, которую я шнимал от хозяев, случился переполох, — ко мне вдруг ворвались, с криками, нзе служанки, с хозяйкой во главе: видели, как сейчас только в мою комнату збежала из коридора piccola bestia, и ее надо было сыскать и истребить во что 5ы то ни стало." [ДП 23:106] эгёр + Adj + N, например: "Может быть, я, печатая ядовитую аллегорию, надеялся выиграть где-нибудь en haut lieu?" [Пб" Г8:30] Словосочетания других типов встречаются значительно реже, причем іаиболее частотными среди них оказываются распространенные словосочетания. Приведем лишь некоторые из них: Adj + Adj + Conj + Art + N: "В этом случае вы были, так сказать, plus royahste :me le roi." [Пб 20:91] M + Adj + Conj+ N + Prep + N: "Герцен был совсем другое: то был продукт нашего барства, gentilhomme russe et citoyen du monde прежде всего, тип, явившийся только в России и который нигде, кроме России, не мог явиться." [ДП2}:8]
Графико-фонетические особенности
Межъязыковое перекодирование предполагает изменение алфавитной основы. Образованные в результате лексические единицы вводятся в графике ЯП, например, пуант от франц. pointe, контенанс от франц. contenance, вундерфрау от нем. wunderfrau или la baboulinka от рус. бабуленька, outchitel от рус. учитель.
Наиболее распространенным способом перекодирования означающего является транскрибирование соответствующего прототипа ЯИ . Одна ;, в некоторых случаях графически воспроизводится финальный согласныц, который не произносится во французском языке: собрикет от франц. sobriquet, афронт от франц. affront, куверт от франц. couvert и т. д. В силу подобных несоответствий следует признать образование нескольких, как минимум, двух, гранссистемных единиц путем транслитерации: ауне от франц. аипё, интрус, от франц. intrus. Иными словами, транскрипция, являясь наиболее распространенным способом межъязыкового перекодирования, в ряде случаев дополняется транслитерацией.
Как известно, транскрипция предполагает замену звука ЯИ і на соответствующий звук ЯП. Наиболее сложный случай представляет транскрибирование сочетания гласных, не характерных для русского языка. На материале интерсистемных единиц, используемых Достоевским, выявлены следующие закономерности. Носовые an, en, in, on передаются сочетанием гласного (соответствующего произношению) с согласным н: an—»ан бланманже от франц. blanc-manger, танта от франц. tante en— ан антрепренер от франц. entrepreneur, жантилом от франц. gentilhomme on—-юн бонмо от франц. bon mot, контенанс от франц. contenance in—»ин интрус от франц. intrus ain—»ень вилень от франц. vilain и, наоборот, ень—»in baboulinka от рус. бабуленька
Дифтонги и трифтонги передаются одним гласным, соответствующим произношению иноязычных слов: ей [ое]— ё вивер от франц. viveur, фланер от франц. flaneur, но и [о]—» о монструозно от франц. monstrueux і —» є пале от франц. palais, шен от франц. chame и — у амбушюра от франц. embouchure, пантуфли от франц. pantoufle і, наоборот, chouba от рус. шуба аи — о шато от франц. chateau и — о комильфо от франц. comme il faut Сочетание oi передается как русское -уа-: і — уа куафюра от франц. coiffure, пуасардка от франц. poissarde Особо отметим сочетания с йод, которые также претерпевают вменения при межъязыковом перекодировании. На русском языке им оответртвует И или сочетание с мягким знаком: lie [je] — илье дезабилье от франц. deshabille ille [ej] — ель вьельфильки от франц. vieille fjlle ег [Іе1 " йе фойе от франц. foyer і, наоборот, после гласного, русский И передается на французский язык как Ї: ;арої от рус. запой.
Что же касается согласных, их передача на русский язык в большинстве лучаев не представляет затруднений. Согласные передается оответствующими русскими эквивалентами, но с ориентацией на собенности произношения. Так, русский Л в большинстве случаев імягчается, как в конце, так и в середине слова, например: — ль outchitel от рус. учитель, журналь от франц. journal, вольтфас от [зранц. volte-face а— ля алярмирующий от езранц. аіаптіег, глясе от франц. glace, фуляр от )ранц. foulard