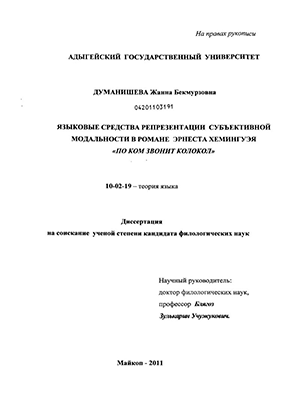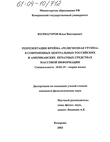Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Теоретические предпосылки исследования категории «модальность» в лингвистике
1.1. О «модальности» в языкознании 11
1.2.Модальность как текстовая категория на разных уровнях языковой системы 34
Выводы по главе 1 52
Глава 2. Сферы и специфика оформления субъективной модальности в русском и английском языках.
2.1. Сферы субъективной модальности в русском языке 56
2.2. Средства выражения субъективной модальности в английском языке и специфика их функционирования в художественном тексте 72
Выводы по главе 2 91
Глава 3. Языковые средства выражения модальности в романе Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол».
3.1. Средства репрезентации модальности в романе Э.Хемингуэя «По ком звонит колокол» 95
3.2. Семантические способы выражения модальности в романе Э.Хемингуэя «По ком звонит колокол» 110
Выводы по главе 3 143
Заключение 148
Библиографический список 157
- О «модальности» в языкознании
- Сферы субъективной модальности в русском языке
- Средства выражения субъективной модальности в английском языке и специфика их функционирования в художественном тексте
- Семантические способы выражения модальности в романе Э.Хемингуэя «По ком звонит колокол»
Введение к работе
Настоящая диссертация посвящена исследованию категории модальности в художественном тексте романа Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол». Данная работа лежит в русле таких дисциплин как лингвистика текста, стилистика текста, функциональная стилистика, анализ текста.
Категория модальности находится в центре лингвистических поисков с середины ХХ века. На сегодняшний день масштабы ее теоретического освещения весьма впечатляющи. Вопросы модальности освещены в работах Н.Д. Арутюновой 1976, О.С.Ахмановой 1990, Ш. Балли 2001, Е.И.Беляевой 1985, В.В.Виноградова 1975, Е.А.Зверевой 1983, Г.А.Золотовой 1962, 1969, 1973, 1982, Close R.A.1979, Дж. Лайонза 2003, В.Н.Мещерякова 2001, Г.П.Немца 1999, Swan M. 1984, R.Fowler 1977, Н.Ю.Шведовой 1970 и др.), в Грамматике русского языка 1960, Русской грамматике 1980. Однако, что вполне закономерно, накопленный лингвистический материал порождает у современных исследователей множество споров, вызывает массу вопросов относительно трактовки модальности, ее природы, границ, семантического объема, а также ее функциональной роли на материале отдельных языков.
Феномен модальности, несмотря на свою распространенность и долгую историю, до сих пор остается малоизученным. Еще менее исследованным представляется этот феномен на материале художественных текстов. Функциональные возможности проявления модальности в языковом материале романа способствуют глубокому осмыслению исследуемых дефиниций в художественных текстах и рассмотрению лингвистических механизмов формирования модальности.
При всем разнообразии существующих подходов к описанию модальности наиболее существенной для нашего исследования является идея разграничения данной категории по типам: на объективную, субъективную и текстовую модальность.
В ходе эволюции учения о данной категории обозначилось три подхода к ее описанию: синтаксический, логико-синтаксический и текстовый. Таким образом, модальность приобрела функционально-семантический статус. Она находит выражение в отношении сообщаемого к действительности (с точки зрения его реальности/нереальности), а также в различных способах субъективной квалификации сообщения. В первом случае речь идет об объективной модальности, во втором - о субъективной.
В теории и практике лингвистических исследований проблема модальности сохраняет актуальность как в постановке вопроса, так и в его решении. Обращение к теории модальности всегда требует изучения вербальных средств для выражения отношений субъекта к сообщаемому, сообщаемого к действительности, объективной или субъективной реализации средств (языковых и внеязыковых) для выражения модальных отношений. Трактовка семантической сущности языкового состояния развития человеческого общества нереальна вне модальных отношений.
Категория модальности занимает особое место в языке художественного текста. Существенно то, что текст нельзя рассматривать как простую последовательность предложений, т.к. текст – это образование иного, более высокого уровня, не сводимое только к сумме составляющих. Учет своеобразия такого явления как текст позволяет ответить на вопрос о том, является ли текстовая модальность суммой модальностей предложений, входящих в его состав. По всей вероятности, нет. Но это не значит, что понятие модальности текста сразу же становится четким и недвусмысленным. Существующие в лингвистике подходы к изучению модальности текста отличаются огромным разнообразием, ничуть не меньшим, чем то, которое существует в сфере исследования модальности предложения.
В лингвистической литературе понимание модальности неоднозначно: оно объединяет различные определения и толкования. Параллельно сосуществуют самые разнообразные исследования - от традиционного изучения модального значения различных единиц языка до содержательной разработки модальности текста. На многообразие воззрений и важность изучения модальности указывают многие отечественные лингвисты.
В данной работе модальность рассматривается как текстовая категория. Для текстоцентрического подхода актуально значение отношения говорящего к сообщаемому (субъективная модальность). Как отмечает Л.М.Наер, «именно субъективная модальность релевантна целям и задачам интерпретации текста» [Наер 2001:61].
Адекватный семантический анализ модальности возможен только при учете ее функционирования в речи, в коммуникации, высшей единицей которой является текст. Именно в тексте актуализируются значения всех модальных единиц, в результате синтеза и взаимодействия которых возникает модальный смысл текста, представляющий собой сложное явление, не равное простой сумме модальных значений единиц, составляющих текст.
Актуальность работы обусловлена повышенным интересом к проблеме метаязыковой субстанциональности художественного текста и, в частности, к проблеме выражения модальности, а также к проблеме функциональности образных средств, которыми, как правило, насыщен текст художественного произведения. Рассмотрение данных аспектов проводится в русле новейших лингвистических тенденций: с учетом принципов антропоцентризма (автор как языковая личность) и функционализма (семантическая адекватность при переводе). Актуальность данного исследования обусловлена также необходимостью определения статуса текстовой модальности в ряду других характеристик текста, в первую очередь семантических, определения ее объема на примере художественных произведений в целом, и некоторых составляющих романа Э.Хемингуэя «По ком звонит колокол», в частности. Актуальность исследования обусловлена также и растущим объемом научной литературы, посвященной стилистике текста, лингвистическим средствам создания экспрессии и эмоциональных образов. В этой связи возникает потребность в определении лексико-семантических и сверхфразовых средств выражения модальности и тенденций развития данного феномена в художественных текстах.
Рациональное осмысление способов выражения модальности возможно только при умелом использовании автором языковых средств, позволяющих анализировать художественные или иные тексты. Имея в виду, что модальность неразрывно связана с психолингвистикой, следует отметить, что как языковое явление она становится неотъемлемой частью, формой отражения людьми того, что их окружает. Таким образом, изучение лингвистического механизма и специфики функционирования модальности в художественном тексте требует тщательного исследования.
Объектом настоящего исследования является языковое пространство писателя Эрнеста Хемингуэя, репрезентирующее вербальные средства выражения субъективной модальности в художественном тексте романа «По ком звонит колокол».
Предметом исследования являются типы и средства репрезентации функционально-семантической категории субъективной модальности, а также закономерности ее функционирования в художественных текстах. В ходе лингвистического анализа выделены сферы оформления и репрезентации субъективной модальности.
Основной целью работы является раскрытие механизмов создания модальности текста и классификация языковых средств ее выражения в исследуемых текстах, выявление и описание специфики художественного текста романа Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол», обусловленного использованием модальных средств, а также анализ текстообразующего и переводческого аспектов.
Для достижения поставленной цели в работе необходимо было решить следующие задачи:
- определить сущность, специфику и основные признаки категории модальности;
- установить статус субъективной модальности в свете традиционных и современных научных исследований;
- выявить средства выражения субъективной модальности, а также ее особенности как составляющей категории текста;
- определить контекстуальные условия репрезентации модальности;
- выявить средства репрезентации субъективной модальности на материале языка романа Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол».
Материалом исследования послужили языковые единицы художественного текста Эрнеста Хемингуэя в романе «По ком звонит колокол». Анализу также подвергается издательский художественный перевод с английского языка на русский с общим объемом проанализированных текстов 3.000страниц.
Практическим языковым материалом работы послужили контексты, отражающие исследуемый лингвистический феномен модальности, извлеченные из художественного текста романа «По ком звонит колокол».
Методологическую базу исследования категории модальности составили работы отечественных лингвистов О.С. Ахмановой, Е.И. Беляевой, З.У. Блягоза, А.В.Бондарко, В.В.Виноградова, И.Р.Гальперина, В.Н. Жигадло, И.П. Ивановой, Л.Л. Иофик, В.В. Казмина, Б.Т. Кашарокова, Г.В. Колшанского, А.Г.Кривоносова, И.И.Мещанинова, Г.П.Немца, В.З.Панфилова, М.В. Пляскиной, А.Н.Тихонова, А.А.Шахматова, Н.Ю.Шведовой и др., зарубежных ученых Есперсена О., Балли Ш., Бринкмана Х., Лайонза Дж., Кверка Р., Палмера Ф., Хэмпа Э. и др.
Научная новизна состоит в том, что впервые анализ субъективной модальности проводится с учетом семантико- синтаксического и стилистического факторов в жанре художественного текста; раскрывается механизм создания модальности текста; классифицируются языковые средства выражения модальности, выявляется специфика художественного текста романа Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол».
Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в расширении знания о семантическом объеме категории субъективной модальности и средствах её языкового выражения в английском языке, углубленной разработке проблем функциональной стилистики на базе широкого контекста.
На защиту выносятся следующие положения:
1.В узусе феномена модальности становится очевидным, что для отражения всех оттенков модальности используется как слово, так и словосочетание и предложение, но только на основе антропоцентрического подхода точно и последовательно расшифровывается смысл авторской интенции.
2.Основополагающим фактором интерпретации модальности в художественных текстах Эрнеста Хемингуэя является знание реалий из жизни, истории, культуры народа. Именно на опыте знаний языкового коллектива, являющегося результатом совместной общественной жизни и общности культуры, основана модальность в языке Эрнеста Хемингуэя.
3. Квалификация сообщений в плане достоверности/ недостоверности/кажущейся достоверности зависит от характера их связей с другими сообщениями в структуре текста и нередко - от их стилистической характеристики (внутренний монолог, диалог, отступления).
4. В тексте романа Э.Хемингуэя «По ком звонит колокол» субъективная модальность выражается следующими языковыми средствами: вводными словами и сочетаниями слов, модальными частицами и глаголами, повторами, которые поддерживаются такими художественными средствами как метафора, метонимия, эпитет, сравнение, олицетворение, анафора, ирония. Субъективная модальность есть способ выражения авторского отношения/оценивания явлений реальной действительности.
Методы и приемы исследования выбраны с учетом специфики объекта, целей и задач работы. В работе проводится прагмалингвистический и контекстуальный анализ по проблеме; выбраны общепринятые совокупности теоретических установок, приемов исследования, связанные с теорией модальности.
При отборе случаев языковой реализации модальности и установлении ее признаков, а также при описании наблюдаемых модально маркированных единиц в вербальной и символической форме используются метод семантической интерпретации результатов наблюдения; метод трансформации при переводе и толковании контекста; дистрибутивный метод при изучении контекста; метод компонентного анализа при выделении модальных значений; элементы статистического анализа. Все виды анализа художественного текста применялись комплексно.
Практическая значимость проведенного исследования заключается в том, что его материалы и результаты могут быть использованы в процессе преподавания ряда таких лингвистических дисциплин как теоретическая грамматика, интерпретация текста и функциональная стилистика, а также для проведения практических занятий и семинаров по данным дисциплинам.
Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на совместных заседаниях кафедры иностранных языков и кафедры русского языка Республиканского государственного учреждения «Карачаево-Черкесский институт повышения квалификации работников образования», на заседаниях кафедры английского языка Северо-Кавказской государственной гуманитарно-технологической академии, на заседании кафедры общего языкознания Адыгейского государственного университета. Результаты исследования отражены в семи научных публикациях, включая издание, рекомендованное ВАК РФ и зарубежный научный журнал для опубликования результатов кандидатских диссертаций. Ряд статей опубликован в научно-методическом журнале «Известия Северо-Кавказской государственной гуманитарно-технологической академии» (г. Черкесск) в 2011г.
Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечиваются достаточным объемом проанализированного материала (свыше 3.000 страниц текстов английских и русских авторов), комплексной методикой исследования, тщательной проработкой теоретических источников информации (свыше 260 трудов).
Структура работы. Диссертация состоит из Введения, трех глав, Заключения, Библиографического списка, списка словарей и справочных изданий.
О «модальности» в языкознании
Особую значимость на современном этапе развития лингвистики приобретает проблема эволюции модальности в различных языках, так как модальность является центральной языковой категорией и носит универсальный характер.
О языковой природе категории модальности высказывается много противоречивых точек зрения. Большинство авторов включают в ее состав самые разнородные по своей сущности, функциональному назначению и принадлежности к уровням языковой структуры значения, так что при этом категория модальности лишается какой-либо определенности. Между тем эта проблема имеет существенное значение не только для лингвистики, но и для логики, так как категория модальности принадлежит к той области языковых явлений, где их связь с логическим строем и мышлением оказывается наиболее непосредственной. Таким образом, следует констатировать, что модальность в равной мере является предметом исследования и языкознания, и логики. И если в первом случае модальность включается в число наиболее существенных характеристик предложения как языковой единицы, то во второй она рассматривается в качестве существенного признака суждения как формы мышления, поэтому анализ языковой категории «модальность» может производиться лишь в тесной связи с анализом логической категории модальности.
Категория- модальности находится в центре лингвистических поисков с середины XX века. На сегодняшний день масштабы ее теоретического освещения весьма впечатляющи (О.С.Ахманова 1990, В.В.Виноградов 1975, Г.А.Золотова 1962, 1969, 1973, 1982, Грамматика русского языка 1960, Русская грамматика 1980, Е.И.Беляева 1985, Г.П.Немец 1999, Е.А.Зверева 1983, Ш. Балли 2001, В.Н.Мещеряков 2001, Н.Д. Арутюнова 1976, Н.Ю.Шведова 1970, Дж. Лайонз 2003, RJFowler 1977, Close R.A.1979, Swan M. 1984 и др.). Однако, что вполне закономерно, накопленный лингвистический материал порождает множество споров и вызывает массу вопросов у современных исследователей относительно трактовки модальности, ее природы, границ, семантического объема, а также функциональной роли на материале отдельных языков.
Модальность, без сомнения, принадлежит к числу основных категорий естественного языка. Обратившись к определениям модальности в языкознании, существующим в авторитетных лингвистических изданиях, отметим, что в дефиниции «модальности» имеются существенные разночтения. Рассмотрим некоторые из них.
В 1960-х годах 20 века в грамматике русского языка были сформулированы и приведены в систему все лингвистические факты, касающиеся всех словосочетаний, вводных слов, вставных конструкций, но определения модальности еще не было.
Русская грамматика отмечает, что, во-первых, модальность выражается разноуровневыми средствами языка, во-вторых, указывается, что категория объективной модальности соотносится с категорией предикативности, в-третьих, очерчивается круг явлений, относящихся к явлениям модальности: -значение реальности-ирреальности: реальность обозначается синтаксическим индикативом (настоящее, прошедшее, будущее время); ирреальность -ирреальными наклонениями (сослагательное, условное, желательное, побудительное); -субъективно-модальное значение- отношение говорящего к сообщаемому; -в сферу модальности включаются слова (глаголы, краткие прилагательные), которые своими лексическими значениями выражают возможность, желание, долженствование.[36, с.68]
Русский словарь иностранных слов дает следующее определение: «модальность - (фр.МосІаІіїе, лат. Modus наклонение) - модальность суждения- различие между логическими суждениями в зависимости от характера устанавливаемой ими достоверности- от того, выражают ли они необходимую или только вероятную связь между логическим подлежащим и сказуемым. По модальности различают суждения: аподиктические, ассерторические и проблематические [155, с. 124].
Перейдем к рассмотрению определения, данного в «Толковом словаре» Ушакова Д.Н.: модальность - (англ.тосіаііїу) понятийная категория со значением отношения говорящего к содержанию высказывания и отношения содержания высказывания к действительности (отношение сообщаемого к его реальному осуществлению), выражаемая разными грамматическими и лексическими средствами, такими как формы наклонения, модальные глаголы, интонация и т.д. [ 163, с. 178].
Бесспорно то, что основоположником теории модальности по праву считается В.В.Виноградов. Его работы, посвященные данной проблеме («О категории модальности и модальных словах в русском языке» и др.) до сих пор очень важны для лингвистов.
В данном исследовании мы отталкиваемся от широкого понимания категории модальности, принимая за основу именно грамматическую концепцию В.В.Виноградова, в которой представлен путь от семантического содержания к различным грамматическим и лексическим средствам его выражения.
В.В.Виноградов считал модальность субъективно - объективной категорией и называл ее неотъемлемой частью предложения, его конструктивным признаком. «Любое целостное выражение мысли, чувства, побуждения, отражая действительность в той или иной форме высказывания, облекается в одну из существующих в данной системе языка интонационных схем предложения и выражает одно из тех синтаксических значений, которые в своей совокупности образуют категорию модальности» [26, с.55].
Согласно данной концепции, языковая модальность является объемной семантико-синтаксической категорией, образованной совокупностью значений, содержащих указания на субъективное отношение к действительности и имеющих внутренние различия в самих ее синтактико-семантических функциях.
В.В.Виноградов в своей работе «Русский язык» также дал и более широкое определение модальности. Из него следует, что «модальность - не только характеристика реальности и нереальности, но и отношение говорящего к высказываемому». Из определения видно, что выделяются два типа модальности: объективная и субъективная, но в тексте сложно выделить четкую границу между ними. Многие же исследователи считают, что модальность в тексте является субъективной [28, с.43].
Следует заметить, что указанный принцип описания языков возник из учения О. Есперсена о понятийных категориях. Он считал, что установление функционально-семантических категорий «фактически определяется языковыми грамматическими категориями и другими языковыми средствами». [46, с.57-61].
В своих трудах ученый дал характеристику наклонения глагола как синтаксической категории, выражающей известное отношение говорящего ко всему содержанию предложения.
В энциклопедии «Русский язык» «модальность (от лат. modus-мера, способ) означает название круга явлений, неоднородных по смысловому объему, грамматическим свойствам и по степени оформленности на разных уровнях структуры языка» [159, с. 145].
Нам представляется, что данное определение не дает ясного понимания явления, о котором идет речь.
В отличие от «Русского языка» в «Русской грамматике» (1982) представлено следующее определение модальности: «Термин «модальность» в языкознании многозначен: им называются разные явления, объединенные тем признаком, что все они так или иначе - грамматически, лексически, интонационно - выражают отношение говорящего к сообщаемому или сообщаемого к действительности» [101, с.214]. В настоящей дефиниции достаточно четко и ясно очерчивается сущность термина «модальность», которая заключается в выражении отношения говорящего к сообщаемому или сообщаемого к действительности.
Н.Ю. Шведова разграничивает, по меньшей мере, четыре круга явлений, которые относятся к сфере модальности: значение реальности/ ирреальности, субъективно-модальные значения, т.е. отношение говорящего к сообщаемому. Реальность обозначается синтаксическим индикативом — настоящим, прошедшим и будущим временами, а ирреальность - ирреальными наклонениями (сослагательным, условным, желательным, побудительным, долженствовательным). В сферу модальности включаются глаголы, краткие прилагательные и предикативы, которые своими лексическими значениями выражают возможность, желание, долженствование, необходимость, готовность; значения, относящиеся к сфере утверждения, отрицания, вопроса»[101, с.215].
В Лингвистическом энциклопедическом словаре (ЛЭС) [4] модальность определяется как «функционально- семантическая категория, выражающая разные виды отношения высказывания к действительности, а также разные виды квалификации сообщаемого»[156, с.ЗОЗ].
Сферы субъективной модальности в русском языке
Функция модальности, по мнению Г.П.Немца, - это способность выразить образ мысли, отношение носителя языка к отражаемой действительности. «Семантика модальных отношений градуируется особенностями культуры и общественной жизни данного человеческого коллектива, с учетом его психического своеобразия, отражающегося в специфике русского языка. На основании этого возникает еще одна проблема: насколько сознание абсолютизирует возможности использования модальных средств в процессе языкового общения. Модальное отношение не всегда реализуется специальными словами, частицами или словосочетаниями. Оно может внешне не обозначаться ни интонацией, ни логическим ударением, а выражаться подсознательно» [85, с.24]. В данной главе мы опираемся на исследования-Г.П.Немца, чьи работы в области модальности могут служить теоретической базой для нашего исследования.
Иначе говоря, бессознательное модальное отношение (как и вообще языковая модальность) возникает в плане анализа динамики и характера отношений (позитивных или негативных), определяющих то или иное отношение к объекту речевого (языкового) отрезка, факту, событию и вообще к реальной действительности» [85, с.24]. Как считает Г.П.Немец, четкую границу между сознательным и бессознательным в реализации модальных отношений на первый взгляд установить трудно, поскольку глубинные возможности деятельности человеческого мозга гипотетичны для определения, однако такие факты в языковом общении наблюдаются (напр.:, оговорки, пробалтывание, многословие, возбужденность и др.) довольно часто. Вместе с тем необходимо отметить значительную роль социальной обусловленности как сознательного, так и бессознательного в реализации модальных отношений. А.К.Федоров дает следующую трактовку модальности: «Довольно широкое толкование модальности в лингвистической литературе значительно превалирует над описанием средств выражения модальных отношений. В то же время категориальное значение модальности, по мнению некоторых последователей этой категории языка, заключено в сфере, ограниченной утверждением или предположением (реальностью или ирреальностью)... В пределах этой сферы размещаются и укладываются различного рода промежуточные оттенки, выражающие лишь большую или меньшую достоверность (недостоверность) реального или ирреального (предполагаемого) факта, о котором сообщается» [120,с.24]. Такое понимание объективной модальности определяется в «Русской грамматике» как объективно- модальное.
Не оспаривая и не отвергая этих и подобных утверждений, мы в то же время полностью согласны с мнением Г.П.Немца, что лингвистическая модальность, прежде всего, должна рассматриваться как модальность функциональная, то есть сама, своими средствами, участвующая в процессе выражения отношений.
К средствам выражения модальных отношений, наряду с уже описанными в трудах академика В.В.Виноградова, в «Русской грамматике» и др. относят также интонацию, категорию отрицания, паралингвистические варианты отношений (интуицию), в определенных ситуациях общения экстралингвистические аспекты, обусловливающие возникновение определенных отношений в процессе общения. Вместе с тем, если модальные слова, модальные частицы, модальные словосочетания, фразеологизмы и идентификаторы выражения значений модальности составляют группу языковых средств с очерченным диапазоном значения (уверенность — неуверенность, достаточность — недостаточность и т.д.), то такие средства выражения модальности как интонация, отрицание, интуиция, художественные средства языка, а также средства, выражающие истинное и ложное в языке, могут быть объединены в особую группу выразителей модальных отношений, которая функционально классифицируется с иных качественных и количественных позиций.
Своеобразна модальная функция категории отрицания в языке. «Во-первых, речь идет о существовании в языке отрицательной модальности; во-вторых, о возникновении новых отрицательных модальных отношений применительно к линейному контексту и ситуации; в-третьих, о констатации отрицательного высказывания как существующего в результате общения; в-четвертых, об отношении к высказыванию в целом в условиях вертикального контекста, то есть в пространстве языкового общения [1, с.47].
Мы уже говорили о дифференциации модальности на объективную и субъективную. Объективная модальность является обязательным признаком любого высказывания и выражает отношение сообщаемого к действительности в плане реальности и ирреальности. Такая модальность получает свое выражение на уровне синтаксического членения предложения и выражается такими грамматическими и лексическими средствами как формы наклонений, модальные слова и частицы, интонация.
Субъективная модальность, то есть отношение говорящего к сообщаемому, не является обязательным признаком высказывания, а выступает как формально-грамматическое значение. Смысловой основой субъективной модальности является оценка говорящим описываемых фактов (уверенность или неуверенность, согласие или несогласие, положительная или отрицательная оценка).
Сравнивая семантический объем объективной и субъективной модальности, следует отметить, что объем последней, безусловно, значительно шире. Субъективная модальность охватывает всю гамму реально существующих в естественном языке разноаспектных и разнохарактерных способов классификации сообщаемого и может быть реализована различными средствами: оценочной лексикой; модальными словами и частицами; специальным лексико-грамматическим классом слов, а также функционально близкими к ним словосочетаниями и предложениями (в составе предложения эти средства обычно занимают синтагматически автономную позицию и функционируют в качестве вводных единиц); при помощи порядка слов; при помощи междометий; специальными интонационными средствами для акцентирования удивления, сомнения, уверенности, недоверия, протеста, иронии и других эмоционально-экспрессивных оттенков субъективного отношения к сообщаемому; композиционными приемами.
Между субъективной и способами языкового выражения объективной модальности не существует резкой грани. Для выражения того и другого вида модальности нередко могут использоваться одни и те же языковые средства, напр., модальное слово «может» в зависимости от контекста может выражать объективную модальность возможности (может = в состоянии, имеет возможность) и субъективную модальность проблематичности (может = может быть).
Важно отметить, что исследователи Е.И.Беляева, А.В.Бондарко, В.В.Виноградов, Г.В.Колшанский, И.И.Мещанинов, В.З.Панфилов, М.В.Пляскина и др. считают, что основными средствами субъективной модальности являются вводно — модальные, все остальные средства — вспомогательные и находятся на периферии. Другие ученые, в частности Г.Я Солганик, выдвигают несколько иную точку зрения: субъективная модальность в предложении появляется с личным местоимением «я», остальные средства (интонация, словопорядок, специальные конструкции, повторы, частицы, междометия, вводные слова и др.) являются вспомогательными. Основная задача данной главы заключается в выявлении средств выражения субъективной модальности в русском и английском языке и специфики их функционирования в художественном тексте и публицистике.
Мы попытаемся проследить иерархию средств выражения субъективной модальности в соответствии со значимостью тех или иных уровней текста для реализации субъективной модальности и проследить её роль в воплощении авторского отношения-к изображаемому субъекту.
В данной главе мы представим типологию средств- выражения субъективной модальности в русском и английском языке на грамматическом уровне, а лексический и синтаксический уровень будет представлен в следующей главе.
Средства выражения субъективной модальности: личные местоимения, вводно — модальные слова, частицы, вводные сочетания слов, вставные предложения, повторы, междометия; тропы, интонация, словопорядок, специальные синтаксический конструкции - функционируют на всех уровнях текста и являются маркерами, способствующими манифестации личности автора, его мировоззрения, эмоционального настроя. Вместе с тем они выполняют коммуникативную функцию воздействия на сознание адресата посредством перевода фактов, стоящих за текстом, в авторское суждение.
Представим средства выражения субъективной модальности на морфологическом уровне по степени интенсивности представления автора в тексте. Следует подчеркнуть, что личные местоимения «я», «мы»- часто используются писателями для создания особого типа повествования, которое необходимо для объяснения читателю того, чем определен выбор той или иной проблемы, дать свое понимание последней, представить возможные способы ее решения и, наконец, для установления диалога с читателем, превращения его в соавтора, напр.: 1). Вы, любезные читатели, верно, думаете, что я прикидываюсь только стариком....Так вот вам опять книжка! Не бранитесь только! В этой книжке вы услышите рассказчиков всех почти для вас незнакомых, выключая только разве Фомы Григорьевича. ...Да, я вам не рассказывал этого случая? Послушайте, тут трагикомедия была!... Я, помнится, обещал вам, что в этой книжке будет и моя- сказка. И точно, хотел было это сделать, но увидел, что для сказки моей нужно, по крайней мере, три таких книжки...но передумал. Ведь я знаю вас: станете смеяться над стариком»[П1, с. 149].
Средства выражения субъективной модальности в английском языке и специфика их функционирования в художественном тексте
Как мы уже отмечали выше, вопрос о модальных словах в английской лингвистической литературе разработан довольно слабо. Специальные работы по этому вопросу практически отсутствуют. В научных же грамматиках модальные слова рассматриваются обычно в составе наречия неполно и недостаточно глубоко. Мы можем говорить о том, что модальные слова были отмечены, но не выделены в особый разряд.
Причины такого положения вещей в отечественной и зарубежной лингвистике различны, но две из них, безусловно, заслуживают особого внимания.
В английских научных грамматиках отмечается стремление истолковать только лежащие на поверхности языка и вполне доступные факты, без попытки подойти ближе к сущности тех разнообразных явлений, которые лежат в их основе. Это поверхностное обозрение всех трудных проблем объясняет, в частности, отсутствие работ по теории модальных слов, этого весьма характерного, и вместе с тем весьма сложного, явления современного английского языка.
Модальные слова выступают в научных и школьных грамматиках под термином «наречие к предложению» (sentence adverb), в противопоставлении словоопределяющему наречию (verb/adverb). Иногда грамматисты пользуются термином «модальное наречие» (modal adverb), или же «союзное наречие» (conjunctive adverb). В грамматиках последних лет при обозначении модальных слов терминами:" absolute element", "independent element" особенно подчеркивается их синтаксическая изоляция. Необходимо отметить, что большинство зарубежных грамматистов признают наличие в современном английском языке особых слов, характеризующих высказывание в целом и придающих ему модальный оттенок. Ряд авторов выдвигает важную для решения вопроса модальных слов способность выступать в качестве слова- предложения и в союзной функции. Наконец, имеется указание на то, что в составе модальных слов имеется много устойчивых сочетаний и фразеологизмов, что характерно для образования этой лексической группы.
Однако, все эти разрозненные сведения, разбросанные по отдельным грамматикам, никак не обобщены; модальные слова причисляются к категории наречия, хотя уже несут, по признанию английских грамматистов, иную функцию в языке. Если эти слова иногда и называются «модальными наречиями», то у зарубежных ученых это никак не связано с системой модальных форм английского языка.
Основная задача данного раздела главы заключается в выявлении средств выражения субъективной модальности и специфики их функционирования, в художественном тексте и публицистике. Мы попытаемся проследить иерархию средств выражения субъективной модальности в соответствии со значимостью тех или иных уровней текста для реализации субъективной модальности и проследить ее роль в воплощении авторского отношения к изображаемому субъекту.
Как и в предыдущем параграфе, мы вновь попытаемся представить типологию средств выражения субъективной модальности1 в английском языкознании на морфологическом уровне, по степени интенсивности представления автора в тексте, опираясь на работы И.Р. Гальперина, В.Н.Жигадло, И.П.Иванова, Л.Л.Иофика, В.В .Бур лакова: модальные слова; модальные глаголы.
В современном английском языке существуют грамматические и лексические средства выражения модальности. Грамматическими средствами являются такие модальные глаголы как must, should, ought, will/would, can/could, may/might, need. При этом данные глаголы ослабляют свое первоначальное значение желательности, долженствования, необходимости и т.д. и передают только отношение говорящего к содержанию предположения в целом. Модальные глаголы передают различные оттенки модальности, начиная с предположения, граничащего с уверенностью и заканчивая предположением, в котором говорящий не уверен.
Лексическими средствами являются такие модальные слова, как perhaps, maybe, probably, possibly. О модальных словах можно говорить как, о самостоятельной части речи. Их синтаксическая функция — функция вводного члена предложения.
Модальное слово в «Словаре лингвистических терминов» трактуется как «слово, утратившее свое конкретное лексическое значение и функционирующее как средство описательного выражения модальности» [152, с.248].
Грамматика английского языка Беляевой М.А. дает следующее определение: «модальные слова - это слова, выражающие субъективное отношение говорящего к высказываемой в предложении мысли» [12, с.93].
Следует отметить, что модальные слова — разряд неизменяемых слов, служащих для выражения отношения говорящего к содержанию высказывания. Модальные слова не являются членом предложения и употребляются как интонационно выделенные компоненты. Не will come, of course. (Он придет, конечно).
Модальные слова как по своему лексическому составу и семантическому содержанию, так и по способу функционирования в предложении,представляют собой своеобразный класс слов, не имеющий прямого отношения ни к одной из других частей речи: В отношении формы у модальных слов не выработалось какого - либо единого внешнего признака. Однако два другие признака -семантический и синтаксический — представлены достаточно четко, что и заставляет многих лингвистов говорить о модальных словах, как о самостоятельной части речи. Семантическим признаком, модальных слов является их значение субъективного отношения к высказыванию с точки зрения его достоверности, предположительности или желательности. В отношении значения модальные слова значительно отличаются от других знаменательных частей речи, выполняющих номинативную функцию; однако по самостоятельности значения они, несомненно, принадлежат к знаменательным, а не к служебным частям речи.
Благодаря своему ярко выраженному лексическому значению модальные слова тоньше, чем модальные глаголы, передают всю гамму оттенков предположения. Кроме того, они могут относить предположение в план будущего, в то время как модальные глаголы этой способностью не обладают.
Синтаксическая функция модальных слов - функция вводного члена предложения или, значительно реже, слова — предложения[45, с. 182]. Выполняя функцию вводного члена предложения, модальное слово может занимать место в начале предложения, в середине и иногда в конце предложения. The train will evidently be late due to bad weather forecast. Поезд, очевидно, опоздает из-за плохого прогноза погоды. Evidently when there are no forces acting on a body, that body is in equilibrium. Очевидно, когда нет сил, действующих на тело, это тело находится в равновесии.
Модальные слова стоят в особом отношении к предложению. Они не являются членами предложения, так как, давая оценку всей ситуации, изложенной в предложении, они оказываются как бы вне предложения. Так, в предложении Perhaps, dimly, she saw the picture of a man walking up a road (Возможно, смутно, она видела картину человека, идущего по дороге), модальное слово perhaps не является членом предложения; однако, если изъять это модальное слово, весь смысл высказывания изменится: это будет констатацией факта [58, с.89].
Некоторые модальные слова в диалогической речи (например, of course, certainly, no doubt, perhaps и.т.п.) могут выполнять функцию слова -предложения. Will he come? — Of course. (Он придет? —Конечно.) Модальные слова могут функционировать как слова - предложения, сходно со словами - предложениями утверждения и отрицания Yes и No-Однако, слова - предложения Yes и No никогда не изменяют своего статуса, тогда как модальные слова могут быть словами — предложениями (в диалоге) или быть вводными словами в предложении [58, с.89].
Профессор Л.С. Бархударов говорит, что в предложении модальные слова всегда играют роль вводных членов предложения. Л.С.Бархударов также дает определение модальным словам, как словам, имеющим значение характеристики всего сообщаемого факта с точки зрения его вероятности, возможности, связи с другими фактами, событиями и т.д. Кроме того, профессор Бархударов отмечает, что не всякое слово, выступающее в роли вводного члена предложения, относится к классу модальных слов [9, с.274].
Модальные слова - особая часть речи, а в роли вводных членов могут выступать и другие части речи и сочетания слов: наречия, предложные обороты, инфинитивные конструкции и т.д. К модальным словам как части речи относятся только слова, которые всегда, во всех случаях употребляются в роли вводного члена предложения. Эти слова характеризуются своей неизменяемостью и ограниченной сочетаемостью с другими словами [9, с.274]. В современном английском языке к модальным словам относят следующие слова certainly, of course, по doubt, surely, apparently, assuredly, undoubtedly, indeed, evidently, naturally, obviously, really, actually, perhaps, maybe, probably, possibly, happily — unhappily, luckily — unluckily, fortunately, unfortunately (конечно, без сомнения, наверняка, несомненно, действительно, естественно, очевидно, на самом деле, фактически, возможно, может быть, вероятно, к счастью - к несчастью, к сожалению).
Семантические способы выражения модальности в романе Э.Хемингуэя «По ком звонит колокол»
«По ком звонит колокол»- роман эпический в самом точном значении понятия. Главное место здесь занимают не частные судьбы героев, а судьба народа и революции [104, с.З]. У Хемингуэя философский характер повествования подчеркнут уже эпиграфом из английского поэта 17 века Джона Дона: "No man is an Hand, intire of it selfe; every man is a peece of the Continent, a part of the maine; if Clod bee washed away by the Sea, Europe is the lesse, as well as if a Promontorie were, as well as if a- Mannor of the friends or of thine owne were; any mans death diminishes me, because I am involved in Mankinde; And therefore never send to know for whom the bell tolls; It tolls for thee" {«Hem человека, который был бы как Остров, сам по себе: каждый человек есть часть Материка, часть Суши; и если Волной снесет в море береговой Утес, меньше станет Европа, и также, если смоет край Мыса или разрушит Замок твой или Друга твоего; смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол: он звонит по Тебе).
Все, что происходит на страницах романа, будет подтверждать важнейшую мысль, которая метафорически выражена в этих поэтических строках: человек неотделим от человечества, он отвечает за всех, и все в ответе за трагедию, переживаемую каждым из людей. Ежедневно работая над собой, борясь с сомнениями и противоречивостью взглядов на военные действия, Роберт Джордан пытается оправдать нравственное право на произнесение слов Джона Донна.
Надо сказать, что формально в данном романе нет рельефных признаков эпичности: действие охватывает всего три дня, сюжет исчерпывается описанием обыкновенной операции в тылу фалангистов - взрывом моста, который поручено произвести бойцу Интербригады, молодому филологу и писателю Роберту Джордану. Крупный план событий намечается лишь время от времени и главным образом в воспоминаниях или внутренних монологах героя. Но это небольшое хронологическое пространство до такой степени насыщено конфликтами, что вмещает эпическое содержание.
Г.П.Злобин в предисловии к роману «По ком звонит колокол» пишет: «Композицию «Колокола» сравнивали с серией концентрических кругов, с ветвистым стволом дерева, с системой орбит, в разных временных плоскостях располагающихся вокруг ядра- происходящего сейчас. Трудность уподобления объяснима: в узко формальном смысле структура романа, пожалуй, что и не совершенна, в ней нет изящной законченности, гармоничности. Зато как целостно спаялись в единый монолит разные пласты повествования: непосредственно данное здесь и сейчас, происходящее одновременно в других местах и ретроспекции, наплывы из прошлого» [51, с.18].
Следует отметить, что эти пласты повествования - одного объективированного типа, все они располагаются вокруг точки зрения «от автора». Их прорезает совершенно иной, субъективный пласт- самовыражение действующих лиц в их внутренней речи. Чрезвычайные обстоятельства, в которые поставлены люди в романе, обусловливают отчетливую диалогичность этой речи - важнейшего средства передачи умственных и психических состояний. А последние, так или иначе, отражают состояние мира. Безусловно, мы можем обозначить их и как внутренние монологи. Сами с собой говорят, сами себя убеждают, спорят Ансельмо, Андрее, Эль Сордо, Гольц, даже франкистский лейтенант Беррендо и больше других, конечно же, Роберт Джордан.
Следует отметить, что существует раздвоение во взглядах критиков, исследовавших роман «По ком звонит колокол», кого назвать главным героем романа: американского подрывника Роберта Джордана или символ — мост, на. котором сходятся все концентрические круги построения романа. А.Зверев считал, что «мост, от которого расходятся и к которому в финале вновь стягиваются все нити повествования, становится центральным образом произведения» [49, с.222], и даже самому Джордану кажется, что мост — это «стержень, вокруг которого повернется судьба человечества».
Мы согласны с мнением, что мост — достаточно яркий образ романа, но он, прежде всего, является символом, а основную философскую «нагрузку» сюжетных перипетий несет на себе главный герой романа Роберт Джордан.
Фигура Роберта Джордана во многом похожа на хемингуэевских «героев кодекса»: он тоже человек гуманитарного склада ума, демократ по убеждениям; он привык надеяться только на собственные силы, не любит выставлять свои чувства напоказ, как они, тщательно оберегает свою внутреннюю независимость. Это человек мыслящий и интеллектуальный, что выражается в его многочисленных монологах, размышлениях о жизни людей. Американец, человек другой ментальносте, он становится вожаком испанского партизанского отряда, которого уважают и к которому прислушиваются. Роберт Джордан «дрался за всех обездоленных мира, против всех угнетателей .. .за новый мир». «Сепаратного мира» быть не может». «Из класса арифметики антифашистской борьбы он переходит в следующую ступень - к постижению алгебры народной революции. Если угодно, судьба героя «Колокола» воплощает крошечную часть эпохального процесса превращения личности из объекта истории в ее субъект» [51, с.20].
Мы можем утверждать, что в серии внутренних монологов его характер раскрывается не меньше, а, может быть, и больше, чем в физических действиях или открытой речи, напр.:
"Well, so that is what happens and what has happened and you might as well admit it and now you will never have two whole nights with her. Not a lifetime, not to live together, not to have what people were always supposed to have, not at all. One night that is past, once one afternoon, one night to come; maybe. No, sir.
Not time, not happiness, not fun, not children, not a house, not a bathroom, not a clean pair of pyjamas, not the morning paper, not to wake up together, not to wake and know she s there and that you re not alone. No. None of that. But why, when this is all you are going to get in life of what you want; when you have found it; why not just one night in abed with sheets? You ask for the impossible. You ask for the ruddy impossible. So if you love this girl as much as you say you do, you had better love her very hard and make up in intensity what the relation will lack in duration and in continuity. Do you hear that? In the old days people devoted a lifetime to it. And now when you have found it if you get two nights you wonder where all the luck came from. Two nights. Two nights to love, honor and cherish. For better and for worse. In sickness and in death. No that wasn t it. In sickness and in health. Till death do us part. In two nights. Much more than likely. Much more than likely and now lay off that sort of thinking. You can stop that now. That s not good for you. Do nothing that is not good for you. Sure that s it" [143, c.200].
- "Но, так или иначе, это случилось, и это есть, и можно смело признаться в этом, а теперь тебе не осталось и двух ночей с Марией. Ни коротать век, ни жить вместе, ни иметь то, что положено иметь людям,— ничего. Одна ночь, которая у Dice миновала, один час сегодня днем, одна ночь впереди — может быть. Так-то.
Ни жизни, ни счастья, ни легких радостей бытия, ни детей", ни дома, ни ванной, ни чистой пижамы, ни утренней газеты, ни просыпаться вместе, чувствуя, что она рядом и ты не один. Нет. Ничего этого не будет. Но если это все, что еще может сбыться в жизни из твоих желаний, если ты, наконец, нашел это, так неужели нельзя провести хоть одну ночь в настоящей постели?
Ты просишь невозможного. Ты просишь совершенно невозможного. И если ты, в самом деле, любишь эту девушку так, как говоришь, постарайся любить ее очень крепко, и пусть будет хотя бы сильным то, что не может быть ни долгим, ни прочным. Слышишь? В старину у людей уходила на это вся жизнь. А ты, если тебе выпадет две ночи, будешь считать, что тебе необыкновенно повезло. Две ночи. Целых две ночи на то, чтобы любить, лелеять и чтить. В горе и в счастье. В болезни и в смерти. Нет, не так. В болезни и в здравии. Покуда не разлучит нас смерть. Две ночи. Более чем вероятно. Более чем вероятно, а теперь довольно думать об этом. Хватит. Это тебе может повредить. Не делай того, что тебе может повредить. Вот-вот" [177, с. 164].