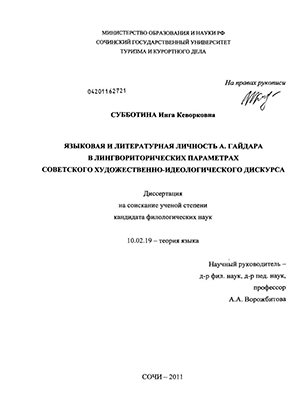Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Теоретико-методологические основы лингвориторического исследования языковой и литературной личности продуцента советского художественно-идеологического дискурса 11
1.1. Лингвориторическая концепция языковой и литературной личности как способ расширения представлений об идиостиле продуцента художественного дискурса советской эпохи 11
1.2. Художественно-идеологический дискурс как продукт речемыслительно-го процесса советской языковой и литературной личности 37
1.3. Филологический дискурс-интерпретанта художественно-идеологического дискурса А. Гайдара в советский и постсоветский периоды: миф и его деконструкция в свете лингвориторического подхода 61
Выводы по первой главе 101
Глава 2. Лингвориторический инструментарий А. Гайдара в аспекте своеобразия идиостиля советской языковой и литературной личности ... 104
2.1. Этосно-мотивационно-диспозитивные параметры идиодискурса А. Гайдара 104
2.2. Логосно-тезаурусно-инвентивные параметры гайдаровского идиодискурса 136
2.3. Пафосно-вербально-элокутивные параметры идиодискурса А. Гайдара 169
Выводы по второй главе - 201
Заключение 205
Библиография
- Художественно-идеологический дискурс как продукт речемыслительно-го процесса советской языковой и литературной личности
- Филологический дискурс-интерпретанта художественно-идеологического дискурса А. Гайдара в советский и постсоветский периоды: миф и его деконструкция в свете лингвориторического подхода
- Логосно-тезаурусно-инвентивные параметры гайдаровского идиодискурса
- Пафосно-вербально-элокутивные параметры идиодискурса А. Гайдара
Введение к работе
Актуальность проблемы исследования обусловлена тем, что на современном этапе развития российского общества, в постсоветском социокультурно-образовательном пространстве происходит- на новом витке исторической спирали - всестороннее гуманитарное, филологическое и лингвистическое осмысление феномена советского дискурса и специфики языковой личности его продуцента и реципиента. При этом актуальной исследовательской призмой правомерно считать лингвориторическую парадигму, рассматривающую, во-первых, идеологические аспекты речемыслительного процесса (этос, логос и пафос), во-вторых, уровни структуры языковой личности продуцента и реципиента дискурса (мотивационный, лингвокогнитивный, вербально-семантиче-ский), в-третьих, - этапы универсального идеоречевого цикла «от мысли к слову» в речемыслительном процессе (инвенцию, диспозицию, элокуцию). Особым типом языковой личности советской эпохи является литературная личность - продуцент текстового массива советской литературы, в том числе детской. В связи с этим представляется важным комплексный лингвориторический анализ гайдаровского идиодискурса, художественно воплотившего официальную идеологию и язык ушедшей советской эпохи, однако продолжающего оставаться актуальным предметом изучения для филологической науки.
Объектом исследования является художественный дискурс Аркадия Гайдара, выдающегося детского писателя советской эпохи. Предмет исследования -лингвориторические параметры идиостиля советской языковой и литературной личности - продуцента художественно-идеологического дискурса.
Цель работы - исследовать особенности идиодискурса А. Гайдара как советской языковой и литературной личности в лингвориторической парадигме.
Задачи исследования:
-
определить теоретико-методологические основы лингвориторического исследования идиодискурса советской языковой и литературной личности, обосновать введение терминов «художественно-идеологический дискурс (ХИД)», «советский ХИД», осуществить категориальную разработку данных понятий, охарактеризовать лингвориторические параметры советского ХИД (20-е - начало 40-х гг. XX в.);
-
установить особенности интерпретационной вариативности ХИД на материале исследований личности и творчества А. Гайдара в советский и постсоветский периоды, выявить с позиций лингвориторического подхода закономерности смысловой динамики филологического дискурса-интерпретанты в его социополитической обусловленности;
-
выявить на материале гайдаровского идиодискурса специфику реализации трех групп лингвориторических параметров: этосно-мотивационно-диспозитивных, ло-госно-тезаурусно-инвентивных, пафосно-вербально-элокутивных, - определяющую особенности идиостиля советской литературной личности, продуцента ХИД;
Гипотеза исследования. Идиодискурс советской литературной личности -разновидность ХИД как продукта творческого речемыслительного процесса в условиях жесткой идеологической регламентированности, в период смены политической доктрины демонстрирует полярную интерпретационную вариатнв-
ность. Идиостилевая специфика советской языковой и литературной личности А. Гайдара, продуцента ХИД для детей и юношества, может быть установлена в результате комплексного анализа в рамках лингвориторической парадигмы.
Материалом исследования послужили тексты А. Гайдара, адресованные детям: рассказы «РВС» (1926), «Четвертый блиндаж» (1931) «Пусть светит» (1933), «Голубая чашка» (1936), «Дым в лесу» (1939), «Чук и Гек» (1939), повести «На графских развалинах» (1929), «Обыкновенная биография» (1929) / «Школа» (1930), «Дальние страны» (1932), «Военная тайна» (1935), «Судьба барабанщика» (1939), «Тимур и его команда» (1940), сказка «Горячий камень» (1941); короткие рассказы «Василий Крюков» (1939), «Маруся» (1940), «Советская площадь» (1940), «Поход» (1940), «Совесть» (1940), незавершенная повесть «Бумбараш» (1936-1937); корпус литературно-критических работ советского и постсоветского периодов об идиодискурсе А. Гайдара.
Теоретико-методологическую основу исследования составили достижения антропоцентрической лингвистики (Г.И. Богин, Ю.Н. Караулов и др.), теории дискурса (Н.Д. Арутюнова, А.Н. Баранов, Ю.С. Степанов и др.), психолингвистики (В.П. Белянин, Л.С. Выготский, В.В. Красных, А.Р. Лурия и др.), лингво-культурологии и когнитивной лингвистики (С.Г. Воркачев, Е.С. Кубрякова, В.А. Маслова, С.Г. Тер-Минасова и др.), концепция лингвориторической парадигмы (А.А. Ворожбитова); работы, посвященные советскому дискурсу (Г.Ч. Гусейнов, Е. Добренко, К. Келли, М.А. Кронгауз, Н.А. Купина, О. Ронен, Г.Г. Хазагеров, МО. Чудакова, В.Н. Шалагинов и др.), исследования специалистов по детской литературе и ученых-гайдароведов (Т.В. Доронина, М.В. Казачок, И. Мотяшов, К.И. Чуковский, С. Чуянов и др.).
В процессе исследования применялись методы системного, контекстного, описательного, концептуального анализа, дистрибутивный, интерпретации текста, интертекстуального сопоставления, лингвориторический; методики наблюдения, описания, языкового и внеязыкового соотнесения, «вторичной реконструкции».
Научная новизна исследования обусловлена введением категории художественно-идеологического дискурса (ХИД) как продукта речемыслительного процесса литературной личности в условиях тоталитарного государства; разработкой категории «советский ХИД» с выявлением лингвориторических особенностей советского ХИД 20-х - начала 40-х гг. XX в., типологических черт советского ХИД для детей и юношества; лингвориторическим анализом филологических интерпретаций гайдароведов советского и постсоветского периодов в рамках процессов создания и деконструкции идеологического мифа; выявлением системообразующих для идиостиля А. Гайдара как советской языковой и литературной личности характеристик в рамках трех групп лингвориторических параметров анализа его текстового массива.
Теоретическая значимость диссертации определяется тем, что постулированы, обоснованы и понятийно разработаны термины «художественно-идеологический дискурс (ХИД)» и «советский ХИД»; филологический дискурс-интерпретанта ХИД А. Гайдара в его социополитической временной динамике рассмотрен в аспектах мифологизации, демифологизации, рекультивирования;
выявлена идиостилевая специфика лингвориторического инструментария А. Гайдара в рамках параметров: этосно-мотивационно-диспозитивных (нравственно-этические постулаты, ценности и устремления, техника риторического выдвижения концептуально значимой художественной информации), логосно-тезаурусно-инвентивных (система базовых идеологем, оппозиции базовых концептов авторской картине мира, многоуровневая «инвентивная сетка»); пафос-но-вербально-элокутивных (эмоционально-экспрессивная компонента идиости-ля А. Гайдара как маркер его текстов).
Практическая значимость исследования заключается в возможности использовать его результаты в процессе преподавания курсов теории языка, риторики, стилистики, литературы XX века, спецкурсов и спецсеминаров, повышающих исследовательскую направленность образовательного процесса в вузе; в преподавании литературы в профильных классах школ; на курсах повышения квалификации учителей-словесников.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Художественно-идеологический дискурс (ХИД) - литературно-
художественный текстовой массив в совокупности с экстралингвистическими
факторами, процесс и результат творческой речемыслительной деятельности
языковой личности писателя, выражающего в условиях политической диктату
ры заданную идеологическую доктрину в системе художественных образов.
Советский ХИД - официально разрешенная в большевистской России разно
видность ХИД, ведущие сущностные признаки которой - наличие жестко рег
ламентированного идейным спектром марксизма-ленинизма лингвориториче
ского канона, обеспечивающего социально-педагогический, воспитывающий
характер ХИД, реализуемый путем массированного воздействия на коллектив
ную языковую личность реципиента в целях ее идеологической трансформации
на всех уровнях: вербально-семантическом, лингвокогнитивном, мотивацион-
ном. Советский ХИД, адресованный детям и юношеству, базирующийся на
лингвориторическом каноне советского ХИД для взрослого реципиента, сфор
мировавшемся в 20—40-е гг. XX в., реализует идейно-тематическую заданность
в интригующем содержании, динамичном сюжете и системе языковых средств,
адекватных интерпретативной способности реципиента.
2. Категориальным свойством ХИД как проводника государственной поли
тики в общественное языковое сознание является его полярная интерпретаци
онная вариативность, т.е. наличие альтернативных трактовок ХИД, обуслов
ленных не просто объективной вариативностью интерпретаций действительно
сти, а ниспровержением политической доктрины, влекущей за собой деконст
рукцию ее исходного мифа. Смысловая динамика филологического дискурса-
интерпретанты гайдароведов отражена в процессах мифологизации (советский
период), демифологизации (эпоха перестройки 1985 г.) и частичного рекульти
вирования (постсоветский период). Мифологизация формирует идеализирован
ное представление о литературной личности и ее творчестве в контексте рево
люционной идеологии; демифологизация включает контрарный и комплемен
тарный типы интерпретаций. Анализ дискурса-интерпретанты в системе трех
групп лингвориторических параметров демонстрирует кардинальную смену
идеологического вектора: от героизации литературной личности А. Гайдара к полному или частичному переосмыслению советского мифа.
3. Гайдаровский этос базируется на неразрывном взаимопроникновении
ценностей классовых (честь большевика, идейная стойкость борца за комму
низм, преданность общему делу, смелость, ненависть к врагам революции) и
общечеловеческих (гуманизмом, сострадание, жалость, наивно-образное вос
приятие мира), которым обусловлена определенная парадоксальность феномена
советской литературной личности. Мотивационные установки продуцента
ХИД, имплицитно представленные в текстовом массиве, подчинены деятельно-
стно-коммуникативной потребности социально-педагогического характера:
воспитать в подрастающем поколении искреннюю преданность делу большеви
ков. Диспозитивний каркас гайдаровского текстового массива характеризуют
дедуктивный способ повествования (интрига и постепенное ее разгадывание
путем индуктивных обобщений), динамика прагматических коммуникативных
стратегий, четкое структурирование уровней как текстов отдельных произведе
ний, так и дискурса в целом. Свойственное советскому ХИД отсутствие в каче
стве сильных текстовых позиций ярко выраженных прецедентных феноменов
компенсируется оригинальными композиционными решениями и ключевыми
знаками: заглавие, абсолютные начало и конец текста, вставные фрагменты как
реализация приема «текст в тексте», в том числе песенные вкрапления; пейзаж,
внутренняя речь героев, авторское обращение к читателю и др.
-
Логосный аспект идиостиля А. Гайдара представлен базовыми идеологе-мами «Светлое будущее», «Советское - значит лучшее», «Красная Армия всех сильней», «Счастливое детство», «Пионер - всем ребятам пример», «Нет победы без потерь». Идеологическая антитеза двух ментальных миров: революционного («красные», герои, освободители от угнетения и рабства) и контрреволюционного («проклятые буржуины», порабощающие народ) — реализуется в системе концептуальных оппозиций, репрезентирующих доминаты лингвоког-нитивного уровня языковой личности писателя: «Жизнь / Смерть», «Добро / Зло», «Свой / Чужой», «Коллективизм / Индивидуализм» - объективируемых в индивидуализированной системе художественных образов. Строго регламентированные советским ХИД темы гражданской войны, социалистического строительства, детства, семьи — узловые в инвентивной сетке дискурса А. Гайдара -на идиостилевом уровне отличаются новыми подходами к их репрезентации; текстовая многослойность переводит гайдаровские тексты для юного читателя в разряд универсальных, обнажающих для разных возрастных групп и эпох свои смысловые пласты.
-
Эмоциональная экспрессия пафоса А. Гайдара имеет идиостилевую специфику риторических и лингвистических способов выражения. Идеи сплочения, твердости, крепости, силы фокусируются в концентрированный заряд психологического воздействия на реципиента благодаря ярко выраженному герои-ко-романтическому пафосу. При этом трагический пафос, обычно не свойственный текстам для детей, подчеркивает глубинный мировоззренческий конфликт между ценностями классовыми и общечеловеческими: на вербалыю-семантическом уровне языковой личности продуцента доминирует лексико-
семантическая группа «война» с разветвленной системой номинаций. Гайдаровский идиостиль определяют: синтаксический строй народной речи; стилистическое разнообразие (сочетание лексики книжной - официальной, политической и др. - и разговорной); высокая частотность глагольных лексем, адекватная специфике детского восприятия; окказиональное словообразование в различных лексических и грамматических группах слов (антропонимы; междометия; звукоподражания, характерные для детской речи). Элокуция представлена разнообразием тропов и фигур (эпитеты, сравнения, метафоры, лексические повторы, синтаксический параллелизм и др.); их дозированное использование (принцип доступности) способствовало, помимо идеологического, эстетическому воспитанию юного советского гражданина.
Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационного исследования и полученные результаты обсуждались на заседаниях и научных семинарах кафедры русской филологии Социально-педагогического факультета СГУТиКД; на ряде Международных, Всероссийских, межвузовских научных, научно-практических конференций: «Проблемы, инновационные подходы и перспективы развития индустрии туризма» (Сочи, 2003, 2004); «Проектирование инновационных процессов в социокультурной и образовательной сферах» (Сочи, 2003-2005); «Дни науки Социально-педагогического института СГУТиКД» (Сочи, 2004, 2006, 2007); «Актуальные проблемы лингвистики и межкультурной коммуникации» (Архангельск, 2005); «Язык, литература и межкультурная коммуникация» (Чебоксары, 2007); «Х-е Виноградовские чтения. Текст и контекст: лингвистический, литературоведческий и методический аспекты» (Москва, 2007); «Актуальные вопросы языковой динамики и межкультурной коммуникации» (Чебоксары, 2009); «Гуманитарные науки: исследования и методика преподавания в высшей школе» (Сочи, 2005-2007, 2010); «Когнитивная лингвистика и вопросы языкового сознания» (Краснодар, 2010); «Риторика как предмет и средство обучения» (Москва, 2011); отражены в статьях в межвузовских сборниках научных трудов.
Художественно-идеологический дискурс как продукт речемыслительно-го процесса советской языковой и литературной личности
В связи с задачей, обозначенной во введении, - определить теоретико-методологические основы лингвориторического анализа идиодискурса советской языковой и литературной личности — в данном параграфе необходимо: — рассмотреть лингвориторическую теорию языковой личности писателя как «литературной личности» в качестве концептуальной платформы исследования идиостиля А. Гайдара; — проанализировать понятие «идиостиль», объективирующее особенности идиодискурса как результата речемыслительной деятельности литературной личности; — охарактеризовать специфику «советской языковой личности» как ядра литературной личности, детерминированной соответствующим государственно-политического периодом отечественной истории.
В последнее время в философии, культурологии, лингвистике, лингво-культурологии наметилась тенденция к более полному изучению человека: его природы, внешности, внутреннего мира, менталитета и т.д. [Маслова 2001: 113]. Проблема антропоцентризма в филологической науке XXI в. решается путем осмысления категорий «человек» и «язык». При этом учеными подчеркивается, что предметом исследования должна стать целостная и конкретная человеческая личность (М. Бубер) [Цит. по: Маслова 2001: 115], что современная наука «сосредоточила фокус внимания на человеческом факторе в языке, т.к. в языке находит отражение культура народа, его духовные ценности» [Эммер 1998: 9]. Также отмечается, что «есть язык народа, как показатель его культуры, и язык отдельного человека, показатель его личных качеств, качеств человека, который пользуется языком народа» [Лихачев 1989: 410].
Как указывает С.Г. Воркачев, макролингвистическая проблематика взаимодействия личности / культуры / общества, заявившая о себе в трудах В. фон Гумбольдта, Г. Штейнталя, К. Фосслера и А.А. Потебни, но временно утратившая свои позиции под влиянием структурализма, в конце XX века вновь обрела актуальность, положив антропоцентризм в основу исследовательских разработок и породив периферийные области в виде направлений: психолингвистики, когнитивной психологии, социолингвистики, когнитивной лингвистики, этнолингвистики, на стыке которых продолжают создаваться новые исследовательские области. В настоящее время «антропоцентрическая, функциональная, когнитивная и динамическая, возвратившая человеку статус «меры всех вещей» [Воркачев 2001: 64], и вернувшая его в центр мироздания» продолжает оставаться ведущей в лингвистических исследованиях.
В описанной ситуации «филологической раздробленности» лингворито-рический подход, синтезируя различные направления, выполняет интегратив-ную функцию.
Как известно, изучение «языка писателя» входит в сферу интересов как лингвистики, так и литературоведения [Егорова 2001], однако рассмотрение данного феномена с тех или иных позиций существенно ограничивает исследовательские возможности. Если традиционное лингвистическое исследование «языка писателя», как правило, изолировано от общего контекста мыслерече-вой деятельности, то литературоведческое оказывается погруженным в нее полностью. Лингвориторический подход позволяет синтезировать собственно лингвистический и литературоведческий подходы благодаря генетическому родству последнего с риторикой. Во-первых, литературное творчество как особый тип риторической аргументации осуществляется в рамках той же иерархии топосов, на базе которой осуществляется духовная и социальная жизнь данного общества (этос, логос, пафос). Во-вторых, категория «языковая личность» через категорию «образ ритора» [Волков 1996, Михальская 1988] соотносится с центральным для литературоведения понятием «образ автора». В-третьих, этапы универсального идеоречевого цикла - инвенция, диспозиция, элокуция — соответствуют воплощению авторской интенции, идейного замысла в содержательных структурах, композиционных блоках и речевом стиле произведения. Таким образом, лингвориторический подход позволяет ассимилировать аспекты изучения текста, традиционно рассматриваемые лингвистикой, стилистикой, поэтикой, литературоведением и т.д. [См.: Лихачев 1969; Лосева 1973; Бахтин 1976; Одинцов 1980; Гальперин 1981; Реферовская 1983; Белянин 1988; Хазаге-ров 1997 и др.].
Языковая личность в сфере литературно-художественной коммуникации приобретает статус литературной личности, что требует специального филологического осмысления с целью определения места данного явления в ряду других смежных явлений.
Согласно антропоцентрическому направлению, автор текста выступает как языковая личность. Данный термин, впервые прозвучавший в работе В.В. Виноградова «О художественной прозе» в 1930 г., приобрел популярность в. конце 80-х годов в связи с работой Ю.Н. Караулова «Русский язык и языковая личность». Следует отметить, что Ю.Н. Караулов языковой личностью называет «совокупность (и результат реализации) способностей к созданию и восприятию речевых произведений (текстов), различающихся а) степенью структурно-языковой сложности, б) глубиной и точностью отражения действительности и в) определенной целевой направленностью ... » [Караулов 2002: 245]. По мнению Ю.Н. Караулова, «появление понятия-«языковая личность» в теории изучения поэтического языка не случайно, так как в художественной литературе существует индивидуальное авторство, и автор индивидуализирован в сознании читателя, поскольку он создает индивидуальный стиль. Наконец, важно, что автор как языковая индивидуальность отличается от языковой индивидуальности того же лица вне художественного творчества. Соотношение таких терминов описания, как «идиостиль / идиолект» — «образ автора» - «образ лирического героя» — «языковая личность», находится сегодня в центре внимания специалистов» [Караулов, Красильникова 1989: 8].
Как указывает Т.Г. Винокур, «компоненты словосочетания «языковая личность», квалифицируемого как терминологическое, указывают, во-первых, на коммуникативно-деятельностную, а, во-вторых, — на индивидуально-дифференцирующую характеристики» [Винокур 1989: 11]. Коммуникативно-деятельностный аспект подчеркнут В.И. Шаховским- в работе «Языковая личность в эмоциональной и коммуникативной ситуации»: «индивидуальность, личность .. . проявляется в деятельности, в делах, в том числе и в своей речевой деятельности, ибо слово - тоже дело» [Шаховский 1998: 60]. Индивидуально-дифференцирующий — зафиксирован С.А. Сейфулиной в статье «Социальная коннотация как фактор дифференциации языковых картин мира»: «Изучение языка в его социальном контексте — направление в языкознании (особенно отечественном) чрезвычайно актуальное, ибо оно снова (после почти полувекового скепсиса) выдвигает на первый план языковую личность, столь, как оказалось, многоплановую, что трудно не заметить ее отличий от былой монотонности представителей абстрактного народа» [Сейфулина 1998: 14]. О.Н. Мальцева, ссылаясь на работы западных психологов А. Бандуры и Дж. Ростера, указывает на то, что личность неотделима от своего социального окружения. Она формируется в нем, подвержена его воздействию и может, в свою очередь, влиять на него [Мальцева 2000: 6], в том числе и посредством создаваемых ею текстов. В свою очередь, психолингвистические представления помогают «понять природу текста как такового, определить некоторые закономерности его порождения и восприятия» [Красных 1998: 53].
Филологический дискурс-интерпретанта художественно-идеологического дискурса А. Гайдара в советский и постсоветский периоды: миф и его деконструкция в свете лингвориторического подхода
К. Леви-Строс, говоря о языковой природе мифа, утверждал, что «миф есть явление языкового порядка» [Леви-Строс 2001: 218]. Вместе с тем, по его мнению, язык в том виде, в каком он используется мифом, обнаруживает специфические свойства, которые можно определить как расположенные «на более высоком уровне, чем обычный уровень языковых выражений» [Там же]. Иными словами, миф одновременно выступает и как лингвистический, и как металингвистический объект. Во втором случае он детерминируется в качестве метаязыка, своеобразного ключа-интерпретатора к пониманию и объяснению различных языков-объектов.
Выводы К. Леви-Строса лежат на стыке антропологии и лингвистики: «1) как и всякий лингвистический объект, миф образован составляющими единицами; 2) эти составляющие единицы предполагают и наличие таких единиц, которые обычно входят в языковые структуры, а именно фонемы, морфемы и семантемы, но по отношению к этим последним они являются тем, чем сами семантемы являются по отношению к морфемам, а морфемы — по отношению к фонемам. Каждая последующая форма стоит на более высокой ступени сложности, чем предыдущая. По этой причине составляющие элементы, характерные для. мифов (наиболее сложные из всех), мы назовем большими структурными единицами» [Там же].
Мифологическая символика способна проникать в текст даже помимо воли создателя, на что указывали исследователи языка поэзии, начиная с А.Н. Ве-селовского и А.А. Потебни. Так, А.А. Потебня полагал, что миф есть словесное выражение такого объяснения, при котором объясняющему образу, имеющему только субъективное значение, приписывается объективно действительное бытие в объясняемом [Потебня 1989: 259].
По замечанию Г.Б. Бедненко, «миф буквален; в нем самом нет метафоры. Метафора рождается в переходе из мира символов в мир буквального» [Бедненко 2008: 37-44]. Как утверждает СЮ. Неклюдов, «мифологические сообщения передаются и путем поддержания вокруг какого-либо вещественного объекта (как природного, так и рукотворного) относительно устойчивого ассо 65 циативного поля мифологических значений, причем в конечном счете содержание подобного «сообщения» может оказаться довольно далеким от «прототи-пического текста» (хотя каждое новое поколение, как правило, считает «свою версию» вполне - или даже наиболее — адекватной «исходному тексту»)». Что касается текстовой реализации мифа, то она «является многоаспектной, мифологические сообщения передаются на разных уровнях традиции — вплоть до стилистики входящих в нее текстов, также содержащей немалое количество мифологической информации» [Неклюдов 2000: 17—38].
Э.А. Рахматуллина говорит о мифе как о дискурсивном образовании, выделяя следующие лингвистические свойства мифологического дискурса: 1) миф — это метаязык, который надстраивается над уровнем языковым, поэтому мифу присущи основные параметры языковой системы: структура, функциональная связь всех элементов, принцип аналогии в построении моделей, принцип бинарных оппозиций; 2) естественный язык является ядром мифа, служит основой смыслопорождения; 3) мифу присуща трехкомпонентная структура: означающее, означаемое, значение; 4) посредством мифа автор репрезентирует и объективирует мифологическую модель мира, которая служит экспликатором субъективных установок писателя; 5) форму мифа, актуализирует порождающее ядро (символ) [Рахматуллина 2006: 139].
С. Любичанковский отмечает связь мифа с идеологией, «которая и позволяет использовать заблуждение как объективную основу для создания ангажированного взгляда на вещи. Иными словами, миф опирается не только на незнание или искажённое знание реальной ситуации, но и на прямую заинтересованность в существовании мифа определённой группы людей. Такова, в принципе, структура мифа: объективное основание в виде заблуждения и субъективная надстройка в виде идеологически окрашенной оценки» [Любичанковский 2007: Интернет-ресурс]. Мифологемы вневременны, как миф, а идеологе-мы возникают, развиваются и отмирают с исчезновением обозначающих их концептов в пределах определенных пространственно-временных рамок. В связи с этим их можно считать вариантами мифологем, актуализирующимися в конкретных историко-социальных условиях. Так, идеология выражает политику государства, поэтому политический миф должен нести установки создателя политических псевдомифов, тенденции, усилия и ожидания народа, при этом он может выглядеть фантастично в деталях и существенно отклоняться от реальности.
Для мифологем характерны два процесса: «мифологизация как создание наиболее семантически богатых, энергетичных и имеющих силу примера образов (первичная номинация мифологемы) и демифологизация (вторичная номинация) как разрушение стереотипов мифопоэтического мышления, утративших свою подъемную силу» [Питина 2002: 19].
На основе проведенного анализа научной литературы нами был сформулирован ряд рабочих определений.
Мифологизация средствами филологических интерпретаций есть создание устойчивого представления о литературной личности, ееидиодискурсе и идиостиле, вписывающегося в существующую идеологическую парадигму.
Демифологизация является противоположным процессом, возникающим как реакция на смену политического вектора (особенно яркая в ситуации демонтажа тоталитарного государства) и разрушающим прежний.идеологический-миф. Демифологизация, основанная на деконструкции исходного советского мифа, героизирующего литературную личность, предполагает изменение статуса существующих ценностей в двух направлениях: контрарном — дегероизи-рующем литературную личность, и комплементарном - переосмысляющем исходный миф, исходя из современных представлений, и новых историко-архивных данных о литературной личности. (Отметим, что аналогиченпроцесс полярного изменения трактовок учеными и критиками текстов так называемой «возвращенной» русской литературы XX в., т.е. принадлежащей к антисоветскому ХИД по критериям эпохи большевизма).
Логосно-тезаурусно-инвентивные параметры гайдаровского идиодискурса
Сан Лайт утверждает, что «предметы, взаимодействуя с сознанием человека, образуют вокруг себя как бы психическое поле; воздействующее на мотивы и поступки человека. Система таких предметов, будучи организована во времени и пространстве, способна формировать и направлять поведение и мышление человека» [Цит. по: Писаренкова 2005: 47]. И Гайдар, преодолевая назидательные ноты советского ХИД, организует в идиодискурсе предметный мир таким образом, что голубая чашка, барабан, горячий камень, красная звезда на воротах дома красноармейцев обрастают символическими значениями и активно воздействуют на «небывалого по численности и по своему социальному облику читателя детской книги» [Маршак 1971: 263], создавая представление о широком и сложном мире, в котором он будет со временем жить и действовать.
Следующий аспект лингвориторического анализа - диспозитивные параметры идиодискурса А. Гайдара. Диспозиция — членение тематического материала, полученного в результате инвенции [См. п. 2.2. - И.С], и определение порядка следования частей. Огромное внимание, с которым античные ораторы относились к данному этапу работы над речью, нагляднее всего демонстрируют следующие слова Платона: «Всякая речь должна быть составлена, словно живое существо, - у нее должно быть тело с головой и ногами, причем туловище и конечности должны подходить друг к другу и соответствовать целому» [Цит. по: Филиппов 2003: 24-25].
Как утверждает М.М. Гиршман, «возникновение .. . произведения как художественной целостности - это не только появление замысла и «сознательной цели», но и их первоначальная объективация» [Гиршман 1991: 67]. «Ведь процесс его создания — это напряженные поиски творца, и результаты этих поисков могут оказаться не теми, которые предвиделись вначале. Конечно, и процесс создания, и процесс восприятия литературного произведения — это постоянное развитие, но развитие не от части к целому, а становление развертывающегося в каждой детали целого» [Там же: 68].
Непременное свойство любой человеческой деятельности — первоначальное ее осмысление. Известно, что «... самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из, воска, он уже построил ее в своей голове. В конце процесса труда получается результат, который уже в начале этого процесса имелся в представлении человека ... » (К. Маркс). Предварительное проговаривание А. Гайдаром текстов с последующей их письменной фиксацией, что представляет собой определенное смещение риторического «канона»: «Написанное» в памяти там же и обрабатывалось; одни слова и абзацы заменялись другими, менялись местами, оказавшееся ненужным «стиралось», окончательный текст перезапоминался и уже в этом, почти законченном виде переносился на бумагу» [Мотяшов 2004: 54]. А. Гайдар тщательно продумывал последовательность эпизодов, компоновку отдельных глав, заносил в тетрадь психологические характеристики действующих лиц, прослеживал мотивы их поступков. Одна-две строчки в дневнике перерастали затем в полные драматизма эпизоды повести [Клименова 2004: 43]. Так, план к повести «Дальние страны» выглядит следующим образом: Петька — Стог сена - Усталость (сказать или не сказать) - Иван Михайлович - Песня Ермолая - А ведь это Ермолай убил Егора - Похороны.
Рассмотрим языковые сигналы, маркирующие композиционные части произведения. Наиболее важными позициями в любом тексте, по утверждению специалистов по риторике, являются начало и конец текста, а также его заголовок (хотя он в целом представляет собой особую форму начала речи) [Хазаге-ров, Лобанов 2004: 190].
Заголовок является своеобразной квинтэссенцией текста: с одной стороны, он его неотъемлемый композиционный элемент, с другой — мощный ключ к постижению мотивационной установки литературной личности. Заглавие в силу тесной связи с инвенцией зачастую претерпевает трансформацию в процессе создания текста. В этом смысле изменение в ходе работы заглавия текста связано с корректировкой авторского намерения. А. Гайдар в процессе работы неоднократно менял названия своих произведений. Первоначально повесть «Школа» называлась «Обыкновенная биография» [В черновиках встречается и другой вариант - «Маузер» - И.С.], «Тимур и его команда» - «Дункан и его команда», рассказ «Голубая чашка» — «Хорошая жизнь», повесть «Военная тайна» -«Такой человек», «Мальчиш-Кибальчиш», «Верный вариант». О последней названной нами повести А. Гайдар писал: «Сегодня я неожиданно, но совершенно ясно понял, что повесть моя должна называться не «Мальчиш-Кибальчиш», а «Военная тайна». Мальчиш остается мальчишем — но упор надо делать не на него, а на «Военную тайну» — которая вовсе не тайна» [Цит. по: Мотяшов 2004: 60].
Заглавия текстов, в том числе и художественных, «воплощают те тенденции, которые характеризуют современную языковую ситуацию в целом и речевой портрет носителя языка, в частности». Автор дает «своеобразный сигнал, сразу определяя то языковое и ментальное пространство, в которое он приглашает своего читателя» [Черняк 2002: Интернет-ресурс]. В некоторых произведениях А. Гайдара ключевые слова заглавий четко соотносятся «с актуальными для соответствующего жанра концептуальными полями» [Там же]: «Школа», «На графских развалинах», «Военная тайна», «Судьба барабанщика», «Тимур и его команда». В названия художественных произведений ключевые слова выносятся потому, что «проясняют их смысл и являются сходными с сильной позицией текста, что подчеркивает их концептуальную значимость. Ключевые слова могут являться также «смысловым лейтмотивом», т.е. повторяющимся в тексте словом, играющим большую роль в формировании концептов» [Торосян 2005: 9]. Название таких произведений А. Гайдара, как «Военная.тайна», «Дым в лесу», «Четвертый блиндаж» подчеркивает ведущую тему текстов — тему войны. По мнению Б.В. Томашевского, тема — это «единство значений отдельных элементов произведения. Она объединяет компоненты художественной конструкции, обладает актуальностью и вызывает интерес у читателей» [Тома-шевский 1996: 176-178].
Пафосно-вербально-элокутивные параметры идиодискурса А. Гайдара
Нежелание действовать во имя светлой жизни для всех, противопоставление «я — другие», осуждается: « — Мне ничего этого не надо, - упрямо ответил Бумбараш. —Я жить хочу... /— Он жить хочет! — хлопнув руками о свои колени, воскликнул Яшка. — Видали умника! Он жить хочет! Ему жена, изба, курятина, поросятина. А нам, видите ли, помирать охота. Прямо хоть сейчас копай могилы — сами с песнями прыгать будем... Жить всем охота. Гаврилке Полувалову тоже! Да еще как жить! Чтобы нам вершки, а ему корешки. А ты давай, чтобы жить было всем весело! / — Не будет этого никогда, — хмуро ответил Бумбараш,. — Как это — чтобы всем? Не было этого и не будет» («Бумбараш»).
Способность объединиться вокруг одной идеи чрезвычайно важна для литературной личности, так как она является показателем жизнеспособности всего общества. Герои «дружно пели революционные песни» («Горячий камень») (в данном примере наречие «дружно» указывает на сплоченность, а прилагательное «революционные» подчеркивает идеологичность высказывания), «дружно подпевали» («Четвертый блиндаж»), «дружно загалдели» («Военная тайна»).
Многие гайдаровские герои действуют вместе. Побуждают их к этому разные причины, но прежде всего понимание того, что один в поле не воин: «Васька с Петькой шли на урок. Вредный Сережка выскочил из-за калитки и заорал: / — Эй, Васька! А ну-ка, сосчитай. Сначала я тебя три раза по шее стукну, а потом еще пять, сколько это всего будет? /— Пойдем, Петька, поколотим его, — предложил обидевшийся Васька. — Ты один раз стукнешь да я один раз. Вдвоем мы справимся. Стукнем по разу да и пойдем. / — А потом он нас поодиночке поймает да вздует, — ответил более осторожный Петька. / -А мы не будем поодиночке, мы будем всегда вместе. Ты вместе, и я вместе» («Дальние страны»),
Как великую добрую силу, объединяющую людей, А. Гайдар в своем творчестве утверждает дружбу и взаимопомощь, стремится показать ребенку, что совместные действия должны быть направлены на общее благо, а не быть демонстрацией силы.
М.В. Осорина определяет команду Тимура « как идеальную модель, воплощающую высшую, четвертую стадию жизни детской группы и соответствующее этой стадии устройство ее «штаба». Это не ватага, не компания, а команда, тайное общество единомышленников, у которого есть общая система ценностей, принципов и норм поведения, постоянный состав участников, спаянных как личной дружбой, так и взаимными товарищескими обязательствами, собственное секретное обиталище, тайные системы коммуникаций и самое главное — облеченная в игровую форму благотворительная деятельность. Правда, команда Тимура — утопия, идеал, до которого не дотягивает ни одна спонтанно сложившаяся детская группа, имеющая свой «штаб». Но этого идеала в принципе может достичь детская группа под руководством хорошего взрослого-педагога, что удавалось у нас таким людям, как А.С. Макаренко, В.А. Сухо-млинский и др. [Осорина 1999: Интернет-ресурс].
Инвенцию составляют круг тем, которые вышли на первый план в идио-стиле литературной личности. Инвенция, тесно связанная с диспозицией, затрагивает тематические пласты, актуальные для советского ХИД. Диспозитивные параметры рассмотрены в параграфе 2.1.
Творчество А. Гайдара разнообразно благодаря широкому тематическому охвату произведений. С именем А. Гайдара, как отмечают исследователи, связаны «новые темы, новые идеи, новые формы в детской литературе» [Нагаев 2004: 12]. А. Гайдар «обладал большим даром «видения»: умел находить интересные темы и интересных людей» [Завьялов 1984: 62]. Как показывают наблюдения, основными темами творчества А. Гайдара являются: 1) гражданская война; 2) социалистическое строительство; 3) детство; 4) семья.
Тема гражданской войны занимала едва ли не центральное положение не только во «взрослой», но и в детской литературе 20-40-х гг. XX века. А. Берзер, считая, что слово, определяющее содержание всех гайдаровских книг, - революция, именно здесь видит основу мастерства писателя: «Влюбленность в революцию — это не отвлеченно декларированная идея, это стиль, язык, — вся совокупность художественных средств, которые пронизаны светом идеи, служат ей» [Цит. по: Казачок 2005: 56].
Проведенный анализ позволил установить, что в творчестве писателя одной из крупнейших является тематическая группа «война». В ней легко выделяются следующие наименования: военное снаряжение (боеприпасы, техника, оружие, снаряды), участники вооруженных восстаний, средства передвижения, смерть, атрибуты советского времени, начальство, обмундирование, фронт, вооруженные силы, воинские формирования, армейские команды, военные песни, плен, конные войска, члены партии, друзья, революция, дезертирство, враг, звания (чины), артиллерийское подразделение. Военная тема, с которой ассоциируется «разрушение, истребление, уничтожение», передается с помощью лексем: «порубать», «громить», «грабили», «ограбили», «бросили», «жгут», «завоюет», «свергли», «разогнало», «восстание», «революция», «перестрелки» и т.д.: «Ведь Егор-то никуда и не убегал, а его в нашем лесу убили» («Дальние страны»); «Но выстрелами вдогонку они убили его лошадь, ранили самого в ногу, и поэтому конюх добрался до окраины нашего поселка так поздно»; «Одного из них убили в перестрелке, двоих схватили. Но и им — мы знали — пощады не будет» («Дым в лесу»); « - Хрящ убит, когда отстреливался» («На графских развалинах»); « — Славка, — настойчиво спросил я, — зачем они твоего отца убить хотели?» («Судьба барабанщика»); « — Дом лейтенанта Павлова. Того, что недавно убили на границе («Тимур и его команда»); «Уезжаю в группу славного товарища Сиверса, который бьется с белыми войсками корниловцев и калединцев» («Школа»); «... когда первые народные полки уже били и громили белую вражескую армию» («Горячий камень»); «Бьются с буржуинами наши отряды, и мчатся гонцы звать на помощь далекую Красную Армию»; « — Нет, Главный Буржуин, — отвечают буржуины, — мы отцов и братьев разбили, и совсем была наша победа, да примчался к ним на подмогу Мальчиш-Кибальчиш, и никак мы с ним все еще не справимся» («Военная тайна»); « — Отчего, Малъчиш, бились с Красной Армией Сорок Царей да Сорок Королей, бились, бились, да только сами разбились?»; («Военная тайна»); «А под утро из города белых мы выбили» («Голубая чашка»); «Одно только: курил Иван Михайлович уж очень много да чуть-чуть вздрагивали у пего густые брови, когда рассказывал он что-нибудь интересное про прежние года, про тяжелые войны, про то, как их белые начали да как их красные окончили» («Дальние страны»); « - Это... это граф здешний... то есть сын графов. Их в революцию разгромили» («На графских развалинах»); «И Чук с Геком решили, что это, конечно, командир, который стоит и ожидает, не придет ли приказ от Ворошилова открыть против врагов,бой» («Чук и Гек»).
Военная тематика является одной из самых главных и в творчестве А. Гайдара. Однако, на наш взгляд, идиостиль А. Гайдара как советской литературной личность проявляется в том, что ни в одной его книге «не найти ни агрессивности, ни воинственности», зато «есть тревога — не боязнь, не мания, именно тревога - за будущее Советской страны и ее пацанвы. Есть несвойственная литературе того времени жалость. Жалко всех. Или почти всех — Чубука, Мальчиша-Кибальчиша, Альку, Сережу Щербачева» [Коновалов 2003: Интернет-ресурс].