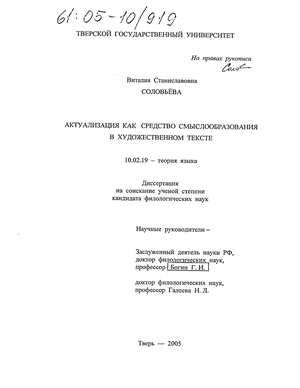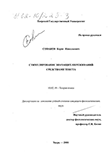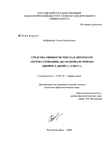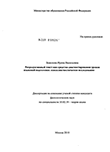Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Актуализация и норма
1.1. Актуализация как нарушение нормы 16
1.2. Норма в языке и культуре 24
1.2.1. Норма и культура 24
1.2.2. Языковая норма: от единой нормы к множеству норм 27
1.3. Норма как ожидание: актуализация в контексте текстовосприятия 38
1.3.1. Понятие частной субъязыковой нормы 38
1.3.2. Норма как ожидание 40
1.4. Выводы по главе 1 48
Глава 2. Актуализация как нарушение экспектации
2.1. Феноменологический подход к тексту при исследовании актуализации 50
2.2. Текстовая экспектация и её нарушение 55
2.2.1. Экспектация на основе
представления о тексте как системе 57
2.2.2. Экспектация на основе существующих стереотипов 59
2.2.3. Экспектация на основе освоения
формальной и смысловой структур текста 74
2.3. Выводы по главе 2 86
Глава 3. Актуализация как средство создания художественности
3.1. Художественность как сущностная характеристика литературного текста 88
3.2. Мыследеятельностный подход vs. риторический и деавтоматизирующий подходы к актуализации 91
3.3. Актуализация как средство смыслообразования в художественном тексте 105
3.4. Выводы по главе 3 118
Глава 4. Типология актуализации
4.1. Типологии актуализации: различия и соотношение 120
4.2. Типология актуализации по степени нарушения экспектации 123
4.3. Выводы по главе 4 144
Заключение 147
Список литературы 153
Источники иллюстративного материала 173
- Актуализация как нарушение нормы
- Феноменологический подход к тексту при исследовании актуализации
- Художественность как сущностная характеристика литературного текста
- Типологии актуализации: различия и соотношение
Введение к работе
Настоящая диссертация представляет собой исследование актуализации как средства смыслообразования в художественном тексте. В связи с тем, что термин «актуализация», а также однокоренные термины («актуализироваться)», «актуализированный» и т.п.) широко используются в различных исследовательских парадигмах, например, для описания реализации языка в речи [ЛЭС 1990: 411], тематического выделения [Ладучева 1998: 82-107] и др., необходимо определить, в каком значении данный термин выступает в настоящем исследовании.
Актуализация в художественном тексте понимается нами в духе
работ Пражского лингвистического кружка, представители которого в
начале прошлого века определили её как «такое использование
языковых средств, которое привлекает внимание само по себе и
воспринимается как необычное, лишённое автоматизма,
деавтоматизированное» [Гавранек 1967: 355]. Такое понимание актуализации характерно для работ, связанных с исследованием актуализации на материале художественных текстов [Арнольд 1981; Гавранек 1967; Галкина-Федорук 1958; Женетт 1998; Жолковский, Щеглов 1996; Кухаренко 1988; Левый 1972; Лотман 1972; Мукаржовский 1967, 1994; Нефёдова 1999; Общая риторика 1986; Риффатер 1980; Славиньский 1975; Фролов 2003; Хазагеров, Ширина 1994; Шкловский 1961, 1983; Якобсон 1975, 1987; Beaugrande 1978; Beaugrande, Dressier 1981; Hatim, Mason 1997; Miall, Kuiken 1994, 1996, 1998, 1999; Peer 1986; Riffaterre 1960, 1978; Todorov 1982 и др]. Текстовые средства, реализующие актуализацию, в настоящем исследовании получают название актуализированных.
В настоящем исследовании, находящемся на стыке таких дисциплин, как стилистика текста, лингвистика текста и филологическая герменевтика, делается попытка сформировать научное представление об актуализации в рамках деятельностного подхода. В этой связи представляется необходимым ввести ключевые понятия, используемые в нашей работе.
Одним из базовых понятий в деятельностной онтологии выступает рефлексия, позволяющая как усмотреть так и освоить актуализацию как таковую. Рефлексия представляет собой важнейший конструкт мыследеятельности при рецепции текста и понимается как «установление связи между извлекаемым прошлым опытом и той ситуацией, которая представлена в тексте как предмет для освоения» [Богин 1984: 16]. Понимание как активный процесс мыследеятельности рассматривается в герменевтике как усмотрение и построение смыслов, достигаемое в процессе рефлексии [там же]. Понимание в этом отношении представляет собой остановку, фиксацию рефлексии, которая происходит невербализованно, однако может вербализоваться в виде интерпретации. Смысл, возникающий при статической фиксации процессов понимания, в настоящей работе, вслед за Г. П. Щедровицким, понимается как «конфигурация связей и отношений между разными элементами ситуации деятельности и коммуникации, которая создаётся или восстанавливается человеком, понимающим текст сообщения» [Щедровицкий 1995: 562].
Говоря об участии текстового средства в смыслообразовании, имеют в виду стимулирование этим средством рефлексии реципиента, соотносящей представленную в тексте ситуацию с различными сторонами опыта, которым обладает реципиент. Этот опыт, называемый также рефлективной реальностью, во-первых,
используется реципиентом текста для формирования новых элементов опыта, а во-вторых, сам претерпевает более или менее значительные изменения, обогащаясь новыми элементами в процессе понимания текста. Текстовые средства, вовлекающие реципиента в рефлективный акт, имеют непосредственное отношение к созданию художественности, трактуемой в филологической герменевтике как «оптимум пробуждения рефлексии» [Богин 1993: 8] и характеризуемой способностью к обогащению духовного пространства как отдельного человека, так и культуры в целом [Галеева 1999: 8]. Представляется, что одним из важнейших средств, стимулирующих рефлексию реципиента и тем самым участвующих в смыслообразовании, является актуализация.
Объектом исследования является актуализация как | необычное,
лишённое автоматизма, деавтоматизированное^ средство
смыслообразования.
Предметом исследования является реализация актуализации в художественном тексте.
Актуальность настоящего исследования определяется
недостаточной изученностью актуализации в художественном тексте как средства смыслообразования. До сих пор в работах, посвященных изучению актуализации, трактовка последней, как правило, не выходила за рамки структуралистского подхода, где она исследовалась, главным образом, как структурный элемент текста без выявления её смыслообразовательного потенциала. Основными подходами к исследованию актуализации на сегодняшний день являются риторический подход, в рамках которого актуализация в соответствии с риторической традицией рассматривается в аспекте присущей ей воздейственности, используемой для привлечения и
удержания внимания [Галкина-Федорук 1958; Женетт 1998; Общая
риторика 1986; Орлеанский 1968; Ромашко 1982; Хазагеров, Ширина
1994; Cohen 1966; Todorov 1982 и др.], и деавтоматизирующий подход,
рассматривающий актуализацию как средство нарушения автоматизма
восприятия [Гавранек 1967; Жолковский, Щеглов 1996; Левый 1972;
Лотман 1972; Мукаржовский 1967, 1994; Риффатер 1980; Славиньский
1975; Шкловский 1961, 1983; Якобсон 1975, 1987; Beaugrande 1978;
Beaugrande, Dressier 1981; Hatim, Mason 1997; Miall, Kuiken 1994, 1996,
1998, 1999; Peer 1986; Riffaterre 1960, 1978 и др.]. В рамках названных
подходов, обращающих внимание на важнейшие особенности
актуализации, последняя не рассматривается как средство,
обладающее смыслообразовательными потенциями, в связи с чем феномен актуализации оказывается неправомерно редуцированным, а его культурная и содержательная значимость остаётся невыясненной.
Научная новизна настоящего диссертационного исследования
заключается в том, что в нём предлагается герменевтический ракурс
рассмотрения актуализации как средства смыслообразования в
художественном тексте, выступающего организующим началом
выведения реципиента к построению культурно адекватных смыслов.
Представляется, что исследование актуализации в рамках
герменевтического подхода с опорой на схему мыследеятельности Г.П. Щедровицкого способно не только внести новую и весьма важную грань в научное представление об актуализации, но и позволяет провести разграничение между собственно актуализацией как средством смыслообразования и «актуализацией ради актуализации», а также случайной ошибкой или опечаткой.
Основная цель настоящего исследования состоит в выявлении смыслообразовательного потенциала актуализации. В соответствии с основной целью в работе решаются следующие задачи:
уточнить соотношение актуализации и нормы и выработать на этом основании скорректированное в соответствии с поставленной целью определение понятия актуализации;
установить основания формирования экспектаций реципиента относительно художественного текста и выявить возможности их нарушения актуализацией;
на основании анализа существующих подходов к актуализации отделить актуализацию, выступающую как средство смыслообразования в художественном тексте, от других типов актуализации;
рассмотреть оппозицию «актуализация - автоматизация» как динамическую структуру в художественном тексте;
5) построить типологию актуализации как средства
смыслообразования в художественном тексте по степени
задействованности рефлексии реципиента;
6) создать типологию актуализации по степени нарушения
экспектаций.
Поставленные задачи предопределили выбор методов исследования. Специфика изучаемого предмета способствовала выдвижению в качестве основного метода герменевтической интерпретации текста с опорой на схему мыследеятельности Г.П. Щедровицкого. Кроме того, в работе применяются гипотетико-дедуктивный и описательно-аналитический методы, метод типологизации, метод моделирования (схематизации), элементы компонентного анализа.
Материалом исследования послужили художественные тексты на русском и английском языках, проинтерпретированные в соответствии с уточнённым понятием актуализации. Были проанализированы тексты И. Бродского, В. Хлебникова, М. Цветаевой, А. Малышкина, Д. Хармса, А. Введенского, Д. Томаса, Т.С. Элиота, X. Крейна, Дж. Джойса общим объёмом более 800 страниц. Непосредственно в состав диссертации в качестве примеров были включены наиболее репрезентативные дроби данных текстов. Отбор текстов проводился по принципу соответствия их двум требованиям: во-первых, представленности в них актуализаций, а во-вторых, сравнительной «современности» текстов. Эти требования, как представляется, требуют пояснения.
Во-первых, использование в качестве материала исследования художественных текстов, насыщенных актуализациями, обусловлено поставленной в диссертации целью, которая состоит не в исчислении актуализаций в разных типах текстов и не в сравнении текстов по признаку актуализированности, а в выявлении смыслообразовательного потенциала актуализации.
Во-вторых, представляется важным тот факт, что толкование текста неизбежно зависит от изменяющегося культурно-исторического контекста. Современный читатель, который может быть охарактеризован как носитель современных ему норм (см. [Vodieka 1976]), не может воспринимать и понимать текст, написанный в XVIII веке, так же, как этот текст воспринимался во время своего создания: «Интерпретатор культурных феноменов никогда не в состоянии увидеть их в чистом, свободном от иных наслоений виде, ибо его собственная позиция обусловлена всегда исторической ситуацией жизнедеятельности, наследуемым слоем традиции» [Губман 1995: 38;
см. также Лотман 1994: 213]. Не вызывает сомнений тот факт, что актуализация является универсальным принципом текстопостроения, который не может быть однозначно связан с тем или иным литературным направлением или жанром, хотя отдельные периоды в развитии литературы (например, период модернизма) характеризуются большим интересом к актуализации, чем другие. При этом, однако, нельзя не учитывать того, что текст после своего создания освобождается от «авторской пуповины» и начинает жить своей жизнью, что предполагает открытость для новых связей и неизбежную подверженность изменениям. Так, тексты могут «обрастать» новыми смыслами, которые усматриваются в нём читателями через много лет, или же «терять» часть смыслов, усмотрение которых программировалось автором. Форма текста, как это ни парадоксально, тоже не остаётся прежней. Собственно набор знаков, из которых состоит текст, не изменяется, однако меняется отношение к этим знакам: метафоры стираются и лексикализуются, неологизмы входят в язык и теряют свою новизну, авангардная текстовая форма клишируется и т. д. (ср. [Мукаржовский 1967: 422-423]). Иначе говоря, актуализированные текстовые средства могут со временем переходить в свою противоположность - автоматизированную форму. В этой связи в настоящей работе наше внимание фокусируется на сравнительно современных текстах (отдалённых от современного читателя - условно - не более чем на сто лет), актуализации в которых воспринимаются как актуализации современным читателем. На защиту выносятся следующие положения: 1) Актуализация, понимаемая в настоящей работе как нарушение экспектации, имеет относительный и динамичный характер и может
исследоваться лишь в конкретных текстовых условиях с учётом вводимого нами понятия динамичной внутритекстовой нормы.
Актуализация, реализуемая в текстовых средствах, обладает значительным смыслообразовательным потенциалом, что обусловливает её участие в построении смыслов художественных текстов.
Применение мыследеятельностного подхода к актуализации позволяет отграничить актуализацию как средство смыслообразования в художественном тексте от других типов актуализации, используемых в целях привлечения и удержания внимания.
Актуализация может быть типологизирована по степени задействованности рефлексии реципиента, что позволяет вести речь о различном смыслообразовательном потенциале разных типов актуализации.
Наиболее «сильными» средствами смыслообразования являются те актуализации, которые пробуждают максимум рефлексии. Актуализации этого типа определяются как собственно художественные актуализации.
6) С феноменологической точки зрения актуализация
представляет собой конфликт двух модусов сознания: ожидания и
реального восприятия, языковыми коррелятами которых являются,
соответственно, автоматизация и актуализация.
7) Актуализация характеризуется различной степенью нарушения
экспектации, которая поддаётся типологизации и шкалированию.
Теоретическая значимость настоящего исследования
непосредственно связана с совершенствованием теории и практики понимания текста как активного процесса мыследеятельности. Рассмотрение актуализации в смыслообразовательном аспекте открывает новые грани в изучаемом феномене, позволяя существенно
дополнить научное представление о нём. Актуализация, до сих пор
трактовавшаяся в основном как структурный элемент текста, в
настоящем исследовании рассматривается как средство
смыслообразования. Установлен относительный и динамичный характер актуализации; предложены критерии определения смыслообразующей актуализации.
Практическая значимость данного исследования заключается в возможности использования полученных в нём результатов в дальнейших исследованиях понимания, в обучении интерпретации художественных текстов, в спецкурсах по стилистике и филологической герменевтике, а также в художественной критике.
Структура работы отражает этапы решения поставленных задач. Во Введении вводятся и определяются основные понятия, используемые в исследовании, обозначаются его объект и предмет, формулируются цель и основные задачи, описываются используемые для их решения методы, раскрываются актуальность, новизна, теоретическая и практическая значимость настоящей работы.
Актуализация как нарушение нормы
Представление о том, что мысль может быть выражена по-разному, вероятно, появилось тогда, когда возникла потребность использовать язык как средство убеждения, влияния или самовыражения. Воплощением этого представления в своё время стала риторика, появившаяся как дисциплина сугубо прикладного характера, что позже, в эпоху Фонтанье, было подвергнуто серьёзной критике (подробнее об этом см. [Тодоров 1998]). Однако, как бы то ни было, вся классическая риторика - как орудийная, так и орнаментальная её формы — связана с противопоставлением «простого и общепринятого выражения» (Квинтилиан, 35-96 н. э.) и отклонения от него, каковым со времён Квинтилиана считалась фигура. Разные авторы риторик вносили уточнения в такое понимание фигуры, считая её то отклонением от узуса (Квинтилиан), то - от буквального выражения (Фонтанье), оставляя неизменной суть: фигура есть отклонение от некоторой нормы. И хотя в XVIII веке в работах Кондильяка [Кондильяк 1983] на первый план выдвигается различие не между несколькими выражениями одной и той же мысли, а между самими мыслями (т. е. предлагается функциональная концепция риторики), в целом во всей западной риторической традиции определение фигуры как отклонения от нормы осталось неизменным.
Противопоставление нормы и отклонения от нормы стало ключевым для различных стилистических теорий. Поколениями учёных поддерживалось представление о том, что художественный (поэтический) язык отличается от языка обыденного своим
стремлением к нарушению принятых в последнем норм. Как видно, такое представление, получившее название «теория нарушения» [Тодоров 1975: 58], находится в рамках традиций классической риторики. Среди научных работ XX века представление о художественном языке как нарушении языковых и других общепринятых норм по-прежнему остаётся популярным; в той или иной форме оно характерно для [Борев 1998; Гавранек 1967; Женетт 1998; Мукаржовский 1967, 1994; Общая риторика 1986; Риффатер 1980; Санников 1999; Тодоров 1975, 1999; Уэллек, Уоррен 1978; Человеческий фактор... 1991; Шкловский 1961, 1983; Cohen 1966; Miall, Kuiken 1994, 1996, 1998, 1999; Peer 1986; Todorov 1982]. Вместе с тем, само понятие «норма» является весьма трудноопределимым, в связи с чем понятие «отклонение от нормы» представляется ещё более нечётким и неоднозначным, что послужило основанием для неоднократно высказывавшихся в адрес «теории нарушения» критических замечаний [Богатырёв 2001; Риффатер 1980; Общая риторика 1986; Хэллидей 1980; Todorov 1982]. В самых общих чертах эти замечания могут быть выражены в постановке следующих вопросов: 1) Всегда ли отклонение от нормы является признаком художественного языка? 2) Возможен ли художественный язык без отклонений от нормы? И наконец: 3) Что есть та норма, отклонение от которой связывается с художественным языком? (ведь, по верному замечанию льежских лингвистов, известных как группа Мю, «любое понятие, если ему дано определение, можно считать отклонением относительно чего-то другого: даже понятие бытия есть отклонение относительно небытия» [Общая риторика 1986: 48]). В настоящей работе предпринимается попытка определить место актуализации относительно нормы и её значимость в рамках художественного текста.
В рамках «теории нарушения» было выработано немало заслуживающих внимания концепций поэтического (художественного) языка. Одной из наиболее значительных теорий стала предложенная Пражским лингвистическим кружком теория актуализации / автоматизации. В тезисах ПЛК отмечается, что «специфические свойства поэтической речевой деятельности проявляются в отклонении от нормы» [ПЛК 1967:28]. В работах пражских учёных, прежде всего В. Матезиуса, Я. Мукаржовского, Б. Гавранека, в ходе изучения механизма воздейственности художественного текста был выдвинут термин «актуализация». Под актуализацией понималось «такое использование языковых средств, которое привлекает внимание само по себе и воспринимается как необычное, лишённое автоматизма, деавтоматизированное» [Гавранек 1967: 355]. Актуализация при этом не только противостоит, но и постоянно соотносится с автоматизацией - утилитарным, привычным, нормативно закреплённым использованием единиц языка. Это противопоставление отражает оппозицию поэтического и литературного языков: в пределах языкового целого они «сосуществуют параллельно» [Гавранек 1967: 436[, при этом литературный язык, стремящийся к автоматизации средств выражения, является тем фоном, на котором воспринимаются деформации литературных норм (актуализации), характерные для поэтического языка. Актуализация и автоматизация, таким образом, друг без друга немыслимы, т. к. последняя создаёт фон для выдвижения, а первая осознаётся - вполне в духе структурализма -лишь на этом фоне. идеи
Феноменологический подход к тексту при исследовании актуализации
На настоящем этапе работы представляется важным обозначить наше понимание художественного текста как «опредмеченной субъективности», что предполагает коррелятивные отношения между материальными средствами текста и опредмеченными в них смыслами (см. [Богин 1982: 20]). На основании представленных в тексте материальных средств и в качестве коррелята последних в сознании реципиента создаётся так называемый «эстетический объект» [Мукаржовский 1994: 355; см. тж. Bleich 1978]; с этим феноменологическим «эстетическим объектом» и имеет дело читатель, разворачивающий деятельность по пониманию текста [Bleich 1978; Миловидов 2000: 28-29]. Текст при этом выступает не как некое хранилище смысла, а как поле деятельности со смыслами, как «пространство опредмечивания и распредмечивания» [Богатырёв 1996: 6]. Собственно говоря, до контакта текста с читательским сознанием текст есть не более чем набор материальных форм - типографских знаков, движущихся слоев воздуха и т. п. (ср. в этой связи противопоставление произведения и текста у Р. Барта: «Произведение есть вещественный фрагмент, занимающий определённую часть книжного пространства (например, в библиотеке), а Текст- поле методологических операций» [Барт 1989: 415]; см. также поправку к приведённому противопоставлению в [Миловидов 2000; Борисенко 2004], в соответствии с которой опредмечивание / распредмечивание смыслов имеет место в дискурсе, а текст является «застывшим следом дискурса»).
Таким образом, в настоящей работе мы основываемся на представлении о неразрывности объекта и познающего его субъекта, которая заложена в общем феноменологическом принципе интенциональности сознания. Принцип интенциональности сознания, являющийся основополагающим в феноменологии и герменевтике, в том числе в их филологических направлениях (рецептивной эстетике, филологической герменевтике, школе реакции читателя, школе критиков Буффало и т. д.), нашёл выражение в так называемой «субъективной парадигме» Д. Блейха, в которой объект знания (в частности текст) определяется как функция воспринимающего сознания субъекта (читателя текста) [Вleich 1978: 109].
Кроме того, определив актуализацию как такое использование текстовых средств, которое в данных текстовых условиях нарушает ожидания реципиента, мы должны определить, в какой перспективе мы рассматриваем актуализацию в настоящей работе. Поясним важность такого самоопределения.
В мировой литературе существуют образцы сложноорганизованных текстов, для которых ожидаемым является постоянное нарушение читательских ожиданий. К текстам такого рода, вероятно, следует отнести роман Дж. Джойса «Улисс». Статус подобных текстов относительно актуализации определить непросто: с одной стороны, они могут трактоваться как актуализации объёмом в целое произведение, с другой - как тексты, построенные в соответствии с собственными внутритекстовыми нормами, главной из которых является постоянное актуализирование (сами тексты, следовательно, можно охарактеризовать как неактуализированные). В решении этого вопроса определяющим является выбор перспективы расмотрения. Так, если рассматривать роман «Улисс» как часть большого целого, под которым может подразумеваться, например, совокупность текстов одной эпохи или одного литературного жанра, то он, несомненно, будет признан высокоактуализированным текстом. Однако отдельные части романа, рассмотренные на фоне и в соотношении со всем текстом, в целом могут быть оценены как нормативные в том смысле, что используемые в них конфигурации языковых средств входят в ожидание реципиента данного текста (т. е. их неожиданность ожидаема), поскольку повторяются и растягиваются на протяжении текста. Далее, отдельные предложения или части предложений того же текста могут восприниматься реципиентом как нарушающие его ожидания, сформированные предшествующим контекстом и т. д.
Как мы видим, включение текста и отдельных его частей в контексты различных уровней (в соответствии с концепцией П. Имбса и «группы Мю»), и, следовательно, в различные системы норм, ведёт к столь же различным (и даже диаметрально противоположным) его оценкам в отношении к норме и к актуализации. Если к вышеназванным контекстам различных уровней, в которые может быть включён текст и отдельные части текста, добавить многообразие культурно-исторических контекстов, ситуация становится ещё более запутанной: одно и то же явление в одних и тех же текстовых условиях одновременно будет и нормативным, и нарушающим норму, и актуализированным, и неактуализированным. Актуализация, таким образом, выступает как категория динамичная в диахроническом аспекте рассмотрения и относительная в синхроническом аспекте рассмотрения.
Художественность как сущностная характеристика литературного текста
На сегодняшний день существует немало концепций, претендующих на объяснение художественности как характеристики текстов искусства вообще и литературных текстов в частности. Обзор работ, в которых исследуется понятие «художественность» см. в [Галеева 1999: 6-28]. Ряд авторов при этом обращает внимание на неправомерно отодвигаемый на задний план (а то и вовсе не упомнающийся) аксиологический характер понятия «художественность» [Галеева 1999; Дземидок 1997[. В ценностном подходе к трактовке художественности текст рассматривается как средство для обогащения духовного пространства реципиента путём формирования у последнего новых (а также реактивации уже имеющихся) смыслов и идей, оказывающих влияние на его чувства и ценности [Галеева 1999: 15-16]. Такое понимание художественности восходит к И. Канту, предлагавшему оценивать произведения искусства по «культуре, которую они дают душе», а мерилом брать «расширение способностей, которые должны объединиться в способности суждения для познания» [Кант 1994: 203].
В трактовке художественности с мыследеятельностных позиций аксиологический характер последней является принципиальным. Текст при этом предстаёт как пространство деятельности, неразрывно связанной с использованием мышления [Щедровицкий 1995]. Обогащение духовного пространства реципиента текста становится возможным при оптимальной организации его мыследеятельности на основе рефлексии как связки между подлежащим освоению гносеологическим образом и опытом понимающего реципиента [Богин 1989: 17]. Благодаря рефлексии, новый образ окрашивается наличествующим опытом, а опыт обогащается за счёт изменения отношения к нему в связи с появлением нового гносеологического образа (там же). Текст, обладающий параметром художественности, может становиться средством оптимизации читательской мыследеятельности. Такое представление о художественном тексте можно выразить при помощи известного афоризма английского лингвиста, теоретика литературы А. Ричардса «A book is a machine to think with» [цит. по: Iserl972].
Итак, определение художествености с мыследеятельностных позиций основывается на способности последней пробуждать рефлексию реципиента, фиксирующуюся в разных поясах схемы мыследеятельности [Щедровицкий 1995: 287] в виде смыслов и идей; мера пробуждения рефлексии при этом соответствует мере художественности текста [Богин 1993: 8; Галеева 1999: 29]. Другими словами, художественность, рассматриваемая с мыследеятельных позиций, во-первых, поддаётся шкалированию в соответствии со степенью задеиствованности рефлексии реципиента (от задеиствованности одного пояса до задеиствованности двух или всех трёх поясов мыследеятельности; последний случай характерен для наиболее художественных текстов), а во-вторых, может быть описана и схематизирована применительно к конкретному текстовому материалу и, таким образом, оказывается вне зависимости от вкусовых предпочтений того или иного реципиента (см. [Галеева 1999: 35]). Таким образом, художественность в оптимальном своём проявлении характеризуется направленностью рефлексии во все три пояса мыследеятельности: в пояс мыследействования (связанный с формированием предметных представлений, «образов»), в пояс мысли-коммуникации (связанный с вербальными текстами и их средствами) и в пояс чистого мышления (связанный с формированием смыслов и идей).
Применение мыследеятельностного подхода к изучению актуализации как средства смыслопостроения, которое может участвовать в создании художественности, представляется наиболее логичным, поскольку только в процессе мыследействования на основе человеческой способности к рефлексии раскрывается смыслообразующий потенциал актуализации. Вне мыследействования конкретного реципиента актуализация остаётся лишь формой, назначение которой не определено. Вместе с тем именно в рамках мыследеятельностного подхода, в котором актуализация оценивается с точки зрения её рефлективности, актуализация как средство смыслообразования (т.е. актуализация, участвующая в создании художественности) может быть отграничена как от случайной ошибки или опечатки, которые также связаны с нарушением ожидания, так и от вычурностей «плохого стиля», которые И. Кант в своё время назвал «манерностью», имея в виду такие случаи, когда «художник стремится к тому, чтобы выражение его идеи было особенным, и не сообразует его с соответствием идее» [Кант 1994: 192-193].
Типологии актуализации: различия и соотношение
Исследование объекта в различных аспектах выдвигает на первый план различные же сущностные признаки. В этой связи каждый изучаемый объект может быть типологизирован по более чем одному критерию, что способствует выделению в нём разных граней, которые могут находиться в некотором соотношении.
В основу типологии актуализации могут быть положены различные критерии. В предыдущих главах нами уже были использованы два критерия для выделения типов актуализации. Поясним познавательную значимость каждой из предложенных типологий.
В главе 2, посвященной исследованию актуализации как нарушения экспектации, в качестве критерия построения типологии использовался вид нарушаемой актуализацией экспектации. Были выделены 3 вида экспектации, в соответствии с которыми было предложено различать 3 основных типа актуализации: 1) актуализацию, нарушающую мД-экспектацию; 2) актуализацию, нарушающую М-К-экспектацию; 3) актуализацию, нарушающую М-экспектацию. Данная типология позволила соотнести конкретные актуализации с теми или иными сторонами опыта реципиента, т. е. показать, что, собственно, нарушается с появлением в тексте актуализации (или, перефразируя Ю.М. Лотмана, в действительности какого рода актуализация вносит свободу). Построение типологии актуализации по критерию вида нарушаемой экспектации в рамках главы 2 было обусловлено тематикой данной главы.
В главе 3, посвященной рассмотрению актуализации с точки зрения её смыслообразовательного потенциала и, соответственно, возможности её участия в создании художественности, в качестве критерия типологизации актуализации использовалась степень задействованности рефлексии при освоении актуализированных текстовых средств. Были выделены четыре типа актуализации, характеризующиеся преимущественной фиксацией рефлексии 1) в поясе М-К; 2) в поясе М-К и мД; 3) в поясе М-К и М; 4) в поясах мД, М-К и М. Выдвижение данной типологии актуализации соответствовало логике построения главы 3 и было обусловлено мыследеятельностным подходом к художественности, в котором последняя рассматривается как поддающаяся шкалированию в соответствии со степенью задействованности рефлексии реципиента. Выдвижение данной типологии позволило построить представление об актуализации как текстовом средстве, смыслообразовательный потенциал которого может проявляться в различной степени, а также выделить собственно художественную актуализацию, обладающую наибольшим потенциалом смыслообразования.
В настоящей главе мы предлагаем третью типологию актуализации, в качестве критерия которой используется степень неожиданности актуализации. Поясним высокую познавательную значимость типологии такого рода и раскроем её особый статус по отношению к предложенным выше типологиям, обусловивший выделение данной типологии в отдельную главу.
Представляется вполне правомерным говорить о том, что все изучаемые стилистикой текстовые средства так или иначе соотносятся с различными сторонами опыта реципиента. Не менее правомерно представление о том, что все стилистические средства характеризуются той или иной степенью задействованности рефлексии при их освоении.
Что же касается такого признака как неожиданность, то он всецело принадлежит актуализации и, собственно говоря, является главным её признаком, на основании которого актуализированные текстовые средства выделяются из многообразия стилистических средств. Построение типологии актуализаци по степени неожиданности представляется необходимым, поскольку, во-первых, такая типология позволит определить место актуализированных средств текста в ряду известных стилистических средств, а во-вторых, продемонстрирует возможность шкалирования актуализации по степени неожиданности («силе»).
Закономерный вопрос о соотношении трёх предложенных выше типологий актуализации, по нашему мнению, не может получить однозначного ответа. Каждая из типологий специфична и способствует раскрытию разных граней изучаемого объекта. Между тем, представляется возможным указать на ряд выделяющихся закономерностей. Так, актуализации, нарушающие преимущественно мД-экспектации, как правило, характеризуются слабой задействованностью пояса чистого мышления (М), а действование с актуализациями, нарушающими преимущественно М-К-экспектации, обычно сопровождается незначительной задействованностью пояса предметных представление (мД).