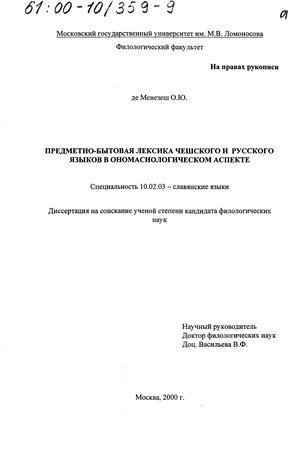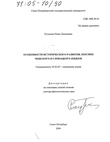Содержание к диссертации
Введение
Глава 1 Основные принципы и методы анализа лексики близкородственных языков 19
1.1 Сравнение, сопоставление и их роль в различных направлениях лингвистики 19
1.2 Теоретическое и практическое значение сопоставительных исследований 22
1.3 Особенности сопоставительного изучения родственных языков. 23
1.4 Сопоставительная лексикология: трудности и перспективы развития 25
1.5 Системный и функциональный подходы - основная предпосылка сопоставительных исследований 26
1.6. Природа языка и ее отражение в тождестве и многообразии 29
1.7 Уровни сопоставительного анализа лексики 32
1.8 Основные единицы сопоставительных исследований в лексикологии. 35
1.9 Параметры сопоставительного изучения лексики 38
1.10 Семасиологические параметры сопоставления 41
1.11 Ономасиологические параметры сопоставления. 44
1.12 Источники сведений о лексическом составе языка 49
1.13 Эквивалентность и тигы соответствий лексических единиц. 51
1.14 Выбор tertium comparationis и его роль в сопоставительных исследованиях 56
1.15 Методики сравнительно-сопоставительного изучения лексических систем 57
ГЛАВА 2 Семантический анализ предметно-бытовой лексики чешского и русского языков 59
РАЗДЕЛ 2. Наименования предметсв одежды, обуви, головных уборов .
65
2.1.Родовые наименования, относящиеся к одежде в целом. 65
2.2 Наименования предметов верхней одежды 68
2.3 Наименования брюк . 75
2.4 Наименования легкого женского платья 78
2.5. Наименования рубашек и блуз. 82
2.6. Наименования трикотажных изделий 84
2.7. Наименования предметов нижнего белья 86
2.8. Наименования чулок и носков. 90
2.9. Наименования варежек и перчаток 92
2.10 Наименования купальных костюмов 94
2.11 Наименования накидок, пелерин, мантий 96
2.12 Наименования головных уборов 96
2.13 Наименования предметов обуви 101
2.14 Наименования предметов одежды служителей религиозных культов. 107
РАЗДЕЛ 2. Наименования посуды 109
2. 16 Собирательные наименования посуды 109
2.17 Наименования сосудов для питья ПО
2. 18 Названия сосудов для хранения и изготовления различных блюд и напитков 115
2.19. Наименования тарелок, мисок и т.п. 117
2.20 Наименования столовых приборов 119
2.21 Наименования бутылей, бидонов, кувшинов и т.п. 120
2.22 Наименования кастрюль, сковород и другой утвари для приготовления пищи 124
2.23 Наименования кухонных инструментов и приспособлений... 126
РАЗДЕЛ 3. Наименования предметов мебели 129
2.24 Наименования предметов мебели, предназначенной для сна и отдыха. 129
2.25 Наименования предметов мебели, предназначенных для сидения 131
2.26 Наименования столов 132
$2.27 Наименования шкафов и других предметов для хранения различных вещей 133
ГЛАВА 3 Структурная характеристика предметно- бытовой лексики чешского и русского языков 144
3.1. Заимствованные наименования и их особенности в чешском и русском языках 145
3.2 Соотношение мотивированны немотивированных наименований и способы мотивации в сопоставительном плане 159
3.3 Особенности наименования новых реалий 180
Заключение 194
Использованная литература:
- Теоретическое и практическое значение сопоставительных исследований
- Наименования брюк
- Названия сосудов для хранения и изготовления различных блюд и напитков
- Соотношение мотивированны немотивированных наименований и способы мотивации в сопоставительном плане
Введение к работе
Настоящая работа посвящена сопоставительному анализу предметно-бытовой лексики двух родственных славянских языков - чешского и русского. Выбор для сопоставительного анализа именно чешского и русского языков имеет свое обоснование. Мотивация выбора продиктована прежде всего недостаточным количеством системных исследований на материале указанных языков. Таким образом, проведенное исследование в определенной степени восполняет имеющийся пробел. Правомерность сопоставления поддерживается и тем, что оба языка имеют высокий уровень развития. На выбор языков -объектов сопоставления, кроме того, не мог не оказать влияния и тот вклад, который внесли в развитие языкознания обе национальные лингвистики. В работе используется ряд положений, выдвинутых и разрабатывавшихся в разное время отечественными и чешскими учеными, в частности, понятие функционально-семантической эквивалентности, tertium comparationis, центра и периферии системы и др.
Сопоставительное языкознание имеет солидный опыт. Повышенный интерес проявляется к нему, однако, в последние десятилетия, о чем свидетельствует серия работ, посвященных указанной проблематике, в частности: Гак В.Г. «Сопоставительная лексикология (на материале французского и русского языков)», 1977, Супрун А.Е. «Лексическая типология славянских языков», 1983, «Принципы сопоставительного изучения лексики.», 1988, Ярцева В.Н. «Контрастивная грамматика», 1981, Ладо Р. «Лингвистика поверх границ культур», 1989, Манакин В.И. «Основы контрастивной лексикологии: близкородственные и родственные языки», 1994, Широкова А.Г. «Методы, принципы и условия сопоставительного изучения грамматического строя генетически родственных славянских языков», 1998, Jedlicka A. "Kofeny a rozvoj konfrontacniho studia cestiny a slovenstiny", 1957, Bamet VI. "Konfrontace a ostatni druhy polilingvalniho popisu", 1974, Martincova O. "Lexikalni inovace a konfrontacni popis", 1983 Filipec J. "Problematika konfrontace v slovni zasobe", 1985 и т.д.
Интерес к сопоставительному языкознанию определяется не только потребностями практического преподавания, но и актуальностью более глубокого осмысления важнейших теоретических вопросов языкознания. Сопоставительное изучение языков позволяет установить не только общие закономерности функционирования лексики и грамматики, но и проникнуть в национальную специфику каждого из языков, выявить различия в функциональной нагрузке различных лексических и грамматических категорий.
Сопоставление родственных языков в сравнении с контрастивным описанием языков, генетически отдаленных, имеет не только свою специфику, но отличается и по результатам исследования. Различия в особенностях выражения идентичного мыслительного содержания оказываются тем более значимыми, что они, эти различия, часто «вырастают» из некогда общего начала.
По сравнению с остальными областями языкознания (фонетикой, морфологией, синтаксисом) лексикология остается наименее изученной в сопоставительном плане. Это объясняется в первую очередь особенностями лексического материала, который имеет свои сложности в систематизации и обобщении. В силу открытости лексической системы и ее полифункциональной разветвленности она лишена той строгости и прямолинейности, которой характеризуется грамматическая система языка. Существует многообразие подходов к выбору единиц и уровней сопоставления лексики, аспектов, параметров, оснований и критериев сопоставительных исследований. Взаимосвязь и взаимодействие лексических и грамматических признаков слова, многоплановая обусловленость его содержания как языковыми, так и внеязыковыми факторами, вариативность и изменчивость - все это делает лексику сложным и поистине неисчерпаемым объектом сопоставительного изучения. Являясь одним из самых молодых направлений в лингвистике, сопоставительная лексикология обладает большим научным и практическим потенциалом и способна внести существенный вклад в понимание особенностей лексических систем сопоставляемых языков, а на более высоком уровне - в создание лексической типологии славянских языков.
В своем исследовании мы опирались на ряд работ, имеющих непосредственное отношение к интересующей нас проблематике. Это в первую очередь исследование А.И. Исаченко "Obecne zakonitosti а narodni specificnost ve vyvoji slovni zasoby slovanskych jazyku" [Isacenko; 1957]. В центре внимания ученого находится проблематика соотношения в языке однословных и составных наименований. По его мнению, весь ход развития словарного запаса славянских языков свидетельствует об утрате отдельными словами мотивированности, об их деэтимологизации. Однако подавляющее большинство наименований в славянских языках являются мотивированными, производными, т.е. формально и семантически двучленными. Автор выделяет следующие основные типы мотивированных наименований: словосочетания, т.е. разнооформленные наименования, в которых каждый член сохраняет полную морфологическую автономию (чешек. panelovy dum, osobniprddlo, русск. боярские дети, лютый зверь); парные сочетания, в которых первый элемент не имеет морфологической самостоятельности (русс, царь-пушка, жар-птица); сложные слова, для которых характерна полная универбизация при сохранении определенной семантической самостоятельности составляющих их элементов (чешек, rychlotavba, samoobsluha, русск. самолет, милосердие); 4. слова, образованные с помощью аффиксов и характеризующиеся чисто формальной двучленностью (чешек, truhlar, hrdinstvi, русск. столяр, смелость).
Указанные типы наименований можно рассматривать как своего рода фазы единого процесса, сущность которого заключается в утрате самостоятельности одним из членов первоначально двучленного наименования, срастании двух членов в одно целое и, в конечном итоге, переходе наименования из разряда мотивированных в разряд немотивированных. Этот процесс представляет собой одну из общих закономерностей развития лексики и был назван А. И. Исаченко семантической конденсацией. Одна из причин этого явления кроется в противоречии между формально двучленной структурой наименования и тем, что оно призвано обозначать одно неделимое понятие, т.е. противоречии между двучленной формой и целостным содержанием. Наименование из двучленного превращается в одночленное, из производного, мотивированного - в наименование-ярлык.
Внешние проявления процесса семантической конденсации могут быть разнообразными. И хотя все славянские языки используют в принципе одни и те же приемы преодоления возникшего внутреннего противоречия, удельный вес каждого из них в разных языках различен и вносит своеобразие в лексическую систему каждого языка.
Таким образом, двучленные наименования - первый этап процесса семантической конденсации. По мнению А.И. Исаченко, они характерны для русского языка в существенно большей степени, чем для чешского (ср. дом отдыха - zotavovna; точка зрения - hledisko; горное дело - hornictvi).
Двучленные наименования со временем могут преобразовываться в одночленные (чешек, tlcty hodny - uctyhodny; kapesne penize - kapesne, аналогично cestovne, bytne, kolejne..., русск. владелец дома - домовладелец, портной мастер - портной, гречневая крупа - гречка).
Лексический запас отдельных славянских языков характеризуется большей или меньшей частотностью употребления того или иного приема семантической конденсации. Так, словосложение весьма продуктивно в русском языке {скороварка, кофемолка, овощерезка). В чешском же языке данный прием имеет значительно меньшее распространение.
Чешский язык, в свою очередь, характеризуется почти неограниченными возможностями словообразования с помощью так называемой морфемной конденсации, т.е. с помощью суффиксов и префиксов. Так, например, в чешском языке существует целый ряд узкоспециализированных суффиксов, позволяющих создать новое слово и включить его в ряд уже существующих наименований, объединенных общим семантическим инвариантом. Например, суффикс - епк(а) служит для создания наименований платежных документов: разного рода билетов, талонов и квитанций (tabacenka - талон на табак, satenka - талон на одежду, mydlenka - талон на мыло, vstupenka - входной билет...). В русском языке в силу целого ряда причин возможности столь регулярного словообразования не используются.
Таким образом, факты дают основания для предположения о большей экономности чешского языка в отношении номинации по сравнению с русским. Иначе говоря, то, что в русском языке выражается с помощью словосочетания или сложного слова, в чешском языке часто выражено дериватом. Из этого следует, что чешскому языку в большей мере присуща тенденция к синтетическому словообразованию, а русскому - к аналитическому, к созданию составных наименований.
Талантливым продолжателем идей А.И.Исаченко стала чешская исследовательница К. Хлупачова. Так, в работе "Nektere otazky konfrontacni charakteristiky pojmenovani [Chlupacova; 1974] автор уделяет особое внимание вопросу выявления соотношения между мотивированными и немотивированными наименованиями, что имеет большое значение для характеристики их лексического состава. Отношения между этими составляющими в разных языках могут быть различными и определяются структурной принадлежностью языка, историческими условиями его развития. Как справедливо отмечает К. Хлупачова, выявление такого отношения может быть положено в основу сопоставительного исследования языков, в частности, чешского и русского. Оно может также стать отправной точкой для сравнения всей системы языковых средств номинации, способов реализации наименований в обоих языках.
Богатство словообразовательной системы чешского и русского языков, обусловленное тем, что оба они относятся к флективному типу, дает основания для предположения, что в них преобладают мотивированные наименования. Тем не менее, на основе анализа конкретного материала автор делает вывод о том, что в словарном составе русского языка больше немотивированных наименований, чем в словарном составе чешского. Кроме того, в русском языке больше словообразующих основ для создания мотивированных наименований. Причиной формальной разрозненности являются более ограниченные, чем в чешском языке, деривационные возможности. Справедливо , с точки зрения К. Хлупачовой, и предположение А.И. Исаченко о более широком использовании русским языком по сравнению с чешским аналитических наименований.
Одной из причин широкого использования заимствований в русском языке является ограниченный (по сравнению с чешским языком) словообразовательный потенциал русского языка. По утверждению К. Хлупачовой, русский язык более системно, чем чешский, использовал лексические элементы иноязычного происхождения, интегрировав их в качестве нейтральных средств выражения в систему литературного языка.
Номинативные процессы в чешском языке характеризуются большей, по сравнению с русским, прямолинейностью. Развитие словарного состава чешского языка осуществлялось в направлении образования длинных и разветвленных рядов наименований с единой основой, что еще раз свидетельствует о больших деривационных возможностях чешского языка.
В работе "Pfispevek k charakteristice slovni zasoby soucasne spisovne rustiny v porovnani s cestinou" [Chlupacova; 1976] К. Хлупачова анализирует общие тенденции развития лексического состава русского и чешского языков. Ею отмечается значительное расширение сферы функционирования как русского, так и чешского литературного языка. Это явление связано в первую очередь с поступательным развитием науки, культуры, образования, общественным прогрессом. Проникновение литературного языка в те сферы, где его употребление было ограниченным, ведет к выразительным качественным и количественным изменениям в словарном составе обоих языков. Доминирующее положение в словарном составе занимают специфические лексические и словообразовательные способы и средства, присущие языку науки, которые проникают во все области жизни и оказывают все возрастающее влияние на язык газет и обиходно-разговорную речь. Понятно, что именно в научной и профессиональной терминологии особенно велики потребности в номинации. Именно в этой сфере возникает подавляющее большинство новых наименований, многие из которых, даже узкоспециализированные, проникают в газетную лексику, а оттуда - в обиходно-разговорную речь. Язык газет все более связан с профессиональной терминологией, и, кроме того, играет существенную роль в стирании границ между литературным и обиходно-разговорным языком. По мнению К. Хлупачовой, под влиянием определенных экстралингвистических факторов в русском языке этот процесс протекает более интенсивно, чем в чешском. Следует, однако, заметить, что выдвинутые положения опираются на материал, относящийся ко времени написания работы (1976). Современное состояние языковой ситуации, несомненно, отличается от наблюдавшегося почти три десятилетия назад.
В работе "Systemove vztahy v ruske lexice a moznosti konfrontacniho studia" [Chlupacova; 1977] автор исходит из положения о системной организации словарного состава языка, опирающейся на отношения лексико-семантического характера. В качестве основы для сопоставительного изучения выдвигаются различные типы структурации на основе словообразовательных отношений (ряды однокоренных слов), а также различного рода семантических отношений, характеризующихся отсутствием формальной манифестации: родо-видовые отношения, отношения синонимические, антонимические и отношения, вытекающие из распределения лексики на основе тематических факторов. Все отмеченные типы семантической стратификации могут изучаться при помощи методики семантических полей, которая может быть использована и для сопоставительного изучения словарного состава чешского и русского языков. Такое изучение помогает определить различные способы организации лексического материала в сравниваемых языках и хотя бы отчасти осветить специфику их семантических систем.
Однако в исследованиях К. Хлупачовой, при всей важности сделанных чешским исследователем выводов, представлен выборочный материал, не имеющий строго упорядоченного характера, позволяющего создать целостное представление об отдельных участках лексической системы. В этом случае встает вопрос, не являются ли примеры случайными, а выдвигаемые положения не вполне обоснованными. Именно этим обстоятельством определяется наш интерес к систематическому исследованию, которое могло бы подтвердить или опровергнуть доказательства на базе изучения достаточно обширной по составу частной лексической системы.
В 1985 году была опубликована монография чешского автора Й. Влчека "Porovnani slovni zasoby ruskeho jazyka se slovni zasobou ceskeho jazyka" [Vlcek; 1985], в которой осуществлено сопоставление словарного состава чешского и русского языков по ряду структурных и семантических параметров. Однако автор работы исходит прежде всего из практических потребностей преподавания русского языка чешским учащимся. По этой причине в исследовании основное внимание уделяется тем явлениям в лексике, которые могут привести к межъязыковой интерференции и ошибкам в речи. При таком подходе целый ряд теоретических вопросов неизбежно остается за рамками исследования.
Критерии изучения семантических и структурных особенностей предметно-бытовых наименований намечены в работе Г.В. Судакова «Предметно-бытовая лексика в ономасиологическом аспекте» [Судаков; 1988] Вслед за А.Г. Судаковым мы определяем термин «предметно-бытовая лексика» в единстве двух начал: с точки зрения лексической семантики - по отношению к определенной сфере человеческой жизни и деятельности, а именно, к быту; с грамматической точки зрения - по отношению к другим группам лексики материальной культуры и быта, обозначающим не предметы, а действия, процессы, качества, состояния и т.п.
Предметно-бытовая лексика относится к этнографическим названиям в широком смысле слова, т.е. словам, обозначающим предметы, связанные с особенностями быта, материальной и духовной культуры того или иного народа. Именно особенности означивания этих понятийных пространств находят отражение в лексическом составе каждого из сравниваемых языков. Г. В. Судаков особо подчеркивает, что актуальность предметно-бытовой лексики в повседневном речевом общении требует активной работы по ее исследованию с использованием традиционных и новых методов.
Предметно-бытовая лексика - один из наиболее живых, динамичных участков словарного состава. Вместе с тем она представляет собой частную лексическую систему с собственной структурой, а значит, сопоставление позволяет прийти к определенным заключениям относительно структурации и функционирования этого участка лексикона.
Системное описание предметно-бытовой лексики проводится впервые. До сих пор она не была предметом специального исследования в сопоставительном чешско-русском плане, несмотря на обширность тезауруса и ее актуальность для языковой коммуникации.
Из всего многообразия номинативных единиц, относящихся к предметно-бытовой лексике, для анализа были избраны названия одежды, посуды и мебели. Интерес к названным номинациям объясняется, как уже отмечалось, важностью их роли в повседневном языковом общении. Кроме того, при выборе материала исследования учитывался обширный номенклатурный состав этих участков лексикона, что обеспечивает широкие возможности выявления структурных и семантических отношений как во внутриязыковом, так и в межъязыковом плане.
Задачи исследования определили характер отбора языкового материала. Для описания системных свойств номинативных единиц необходимо было привлечь в первую очередь словарные данные. Языковой материал извлекался из толковых и двуязычных словарей сопоставляемых языков. Были обследованы следующие словари: Prirucni slovnik jazyka ceskeho (PSJC), 9 d., Praha 1935 - 1957; Slovnik spsovneho jazyka ceskeho (SSJC), 4d. Praha 1958-1971; Slovnik spisovne cestiny pro skolu a vefejnost (SSC), Praha 1978; esky slovnik vecny a synonimicky (CSVS), 3d Praha 1969-1977; Etymologicky slovnik jazyka ceskeho (ESJC), aut. V. Machek, Praha 1971; Velky cesko-rusky slovnik (VCRS), 6 d., Praha 1952-1964; Cesko-rusky slovnik (CRS), 2 d, za redakce L.V. Kopeckeho, Praha-Moskva, 1976; Rusko-cesky slovnik za redakce L.V. Kopeckeho, 2 d, Moskva -Praha 1978; Словарь современного русского литературного языка в 17 томах, М. 1948-1965; Словарь русского языка в 4 томах, М. 1981-1984; Словарь русского языка СИ. Ожегова, М. 1973; Словарь синонимов русского языка в 2 томах, под ред. А.П. Евгеньевой, Л. 1970-1971. Использовались и другие источники, в том числе газетные и журнальные публикации, специальная литература, в частности, журнальные материалы, посвященные моде. Главную задачу при этом мы видели в эксцерпцировании неологизмов. В результате картотека предметных номинаций каждого языка составляет более 1000 единиц.
Анализу подвергается в первую очередь материал современных литературных чешского и русского языков с привлечением обиходно-разговорного языка и диалектных образований. При этом учитывается и устаревшая, вышедшая или выходящая из употребления лексика, в частности, при анализе неологизмов.
Главная цель исследования видится в следующем: выявить особенности структурации и функционирования частных лексических систем (предметно-бытовой лексики) родственных славянских языков - чешского и русского, их сходства и различия. Для решения намеченной проблемы в работе был поставлен ряд конкретных задач: провести семантический анализ чешской и русской предметно-бытовой лексики с использованием целого ряда критериев (характеристика гиперо-гипонимических отношений, выявление особенностей синонимии, учет наличия безэквивалентных номинативных единиц, определение семантических отношений между лексемами сопоставляемых языков); осуществить структурный анализ исследуемых частных лексических систем в сопоставительном плане по следующим параметрам: определить соотношение аналитических/синтетических наименований, собственных/заимствованных наименований, степени включенности заимствований в систему языка, соотношение мотивированных/немотивированных наименований, а также соотношение различных способов мотивации; 3) определить способы номинации новых реалий, относящихся к области предметно-бытовой лексики, в сопоставляемых языках, выявить сходства и различия этого процесса. Анализ языкового материала основывается на признании как системно-структурного, так и системно-функционального статуса номинативной единицы. Указанная трактовка определила выбор метода исследования. В работе используются в тесной взаимосвязи системно-структурный и системно-функциональный методы [Широкова; 1998].
Поставленные задачи реализуются в рамках ономасиологического направления. Ономасиологический подход явился стартовым параметром исследования. Однако выявление особенностей функционирования номинативной единицы с неизбежностью предполагает также использование и семасиологического подхода, ибо «языковая стилизация» действительности, по выражению В. Матезиуса, имеет многоярусную реализацию.
Сопоставительный анализ двух родственных языков основывается на концепции языковой эквивалентности, которая активно разрабатывалась в 70-90 годы нашего столетия отечественными и зарубежными учеными, в частности, А.Г. Широковой, Л.Н. Смирновым, С. Сятковским, В Барнетом, Й. Филипцем и др.
Сравнение языковых данных проводится на равных «стартовых» условиях для обоих языков. Имеется в виду, что ни один из них не принимается за исходный. Эталоном сравнения при ономасиологическом подходе являются внеязыковые сущности, служащие предметом номинации. Выбор же одного из языков в качестве tertium comparationis может оставить без внимания особенности другого языка при воспроизведении и интерпретации фрагментов действительности.
Цель и задачи исследования определили композицию работы. Она состоит из введения, трех основных глав, каждая из которых включает в себя несколько параграфов, и заключения.
Во введении определяются цели и задачи работы, обосновывается выбор темы и предмета исследования, излагаются основные принципы и подходы к исследованию. Кроме того, дается краткий обзор литературы вопроса.
Первая глава содержит рассмотрение теоретических предпосылок к изучению лексических систем родственных языков. Особо подчеркивается важность сравнения, сопоставления как метода научного познания, проводится мысль о том, что сравнение играет решающую роль в различных направлениях лингвистики. Подчеркивается значение сопоставительных исследований для выявления типологических особенностей языков. Рассматривается специфика сопоставительного анализа родственных языков по сравнению с неродственными, а также трудности и перспективы развития сопоставительной лексикологии по сравнению с другими отраслями сравнительного языкознания. Дается определение системно-структурного и системно-функционального подходов как базовой предпосылки сопоставительных исследований. Исследуется вопрос об установлении эквивалентности между лексическими единицами разных языков, ее критериях и выборе tertium comparationis как базы сравнения. Рассматриваются возможные уровни сопоставительного анализа и, в связи с этим, параметры сопоставления -семасиологические и ономасиологические. Излагаются данные об источниках сведений о словарном составе языка и о конкретных методиках сравнительного анализа лексики. Теоретические положения первой главы во второй и третьей главах эксплицируются на конкретный материал.
Вторая глава работы посвящена семантическому анализу предметно-бытовой лексики русского и чешского языков. При этом мы основываемся на положении о построении каждым языком, в том числе и родственными, собственной специфической картины мира как языковой объективации результатов мыслительной деятельности. Мы стремимся выявить и представить специфику отражения чешским и русским языками предметной реальности на избранном нами ограниченном участке лексической системы. Об этой специфике свидетельствуют различия в структурной и собственно семантической организации словарного состава. Предметно-бытовая лексика исследуется по следующим параметрам: гиперо-гипонимические отношения в отдельных лексика-семантических подгруппах, особенности синонимии, наличие безэквивалентной лексики, соотношение синтетических и аналитических наименований. Особое внимание уделяется также вопросу о типах семантических отношений между эквивалентными номинативными единицами чешского и русского языков. На основе исследования отдельных лексико-семантических подгрупп сделаны выводы относительно лексической плотности семантического пространства в сопоставляемых языках.
Третья глава посвящена собственно структурным особенностям номинации и способам выражения семантического содержания в области предметно-бытовой лексики. Прежде всего рассматривается роль различных способов номинации предметных реалий в каждом из сопоставляемых языков - заимствований, функционирования аналитических наименований, деривационного словообразования. В качестве основы сопоставления деривационной структуры используется понятие деривационных ономасиологических категорий, разработанное М. Докулилом, в качестве логической основы мотивации наименований.
Специальный раздел третьей главы посвящен особенностям наименования новых реалий в области быта, и прежде всего моды. Цель данного сопоставления заключается в первую очередь в выявлении тенденций развития номинативных процессов.
Итоги проведенного в работе многоаспектного анализа предметно-бытовой лексики в двух родственных языках представлены в заключительном разделе диссертации. В нем суммируются результаты сопоставительного исследования и сделаны обобщающие выводы.
Теоретическое и практическое значение сопоставительных исследований
В последние десятилетия заметен возросший интерес к сравнительно-сопоставительному изучению языков, и это далеко не случайно, поскольку разработка данного направления способна внести заметный вклад как в теоретическое, так и в прикладное языкознание.
Теоретическое значение сопоставительных исследований заключается прежде всего в том, что они позволяют выявить сходства и различия, а следовательно, и специфику языкового выражения одних и тех же универсальных по природе своей и обусловленных общностью процессов человеческого мышления содержательных категорий, проследить процессы отражения в каждом из языков единой для всех реальности. Сопоставление позволяет выявить, каким образом в различных языках удовлетворяются идентичные функциональные потребности, глубже вскрыть функциональную эквивалентность языков на различных языковых уровнях. При сопоставлении устанавливается как различие функций при сходстве системных отношений, так и сходство функций при материальных различиях. [Широкова 1983].
С практической же точки зрения разработка этого направления дает весомые плоды в отношении повышения эффективности обучения иностранным языкам, для совершенствования теоретической и лексикографической базы преподавания, создания методико-дидактических и учебных пособий, для сознательного регулирования психолингвистических процессов порождения и восприятия речи при владении более чем одним языком и т.п. Следует напомнить, что сопоставительная лингвистика как самостоятельная область родилась именно из практических потребностей обучения иностранным языкам, а огромная значимость сопоставительных исследований для теории языкознания была осознана уже позднее.
Наконец, что немаловажно, сопоставление языковых систем позволяет глубже осознать особенности системно-структурной организации и функционирования родного языка.
Особенности сопоставительного изучения родственных языков.
Известно, что вопросам сопоставительного изучения различных неродственных языков в отечественной и зарубежной науке уделяется гораздо больше внимания, чем изучению родственных и тем более близкородственных языков. Этот факт можно объяснить следующими причинами. Во-первых, контрастные черты генетически далеких языков очевидны и как бы "лежат на поверхности", что само по себе не означает, однако, легкости их контрастивного исследования, тогда как изучение родственных и близкородственных языков представляется теоретически менее значимым из-за их сходства. Во-вторых, сопоставительное изучение неродственных языков ближе к решению задач обучения иностранным языкам, а в отношении родственных языков этой проблеме в лингвистической теории до последнего времени не уделялось должного внимания.
Между тем, сопоставительный анализ языковых систем родственных языков дает знания об отличиях слов, относящихся к очень похожим, но далеко не тождественным языковым системам, прогнозирует языковую интерференцию и в то же время предостерегает от нее. Анализ общего и различного во взаимодействующих языках позволяет предвидеть и психолингвистические механизмы кодового переключения из одной языковой системы в другую, что имеет большое значение для разработки научно обоснованной модели обучения языкам.
Исследование родственных, а следовательно, во многом близких языковых систем открывает большие возможности для усовершенствования методик и приемов сопоставительного анализа, оттачивает сам "инструментарий" поиска, делает его более тонким и проницательным, поскольку найти и оценить важность различий гораздо сложнее там, где их почти нет. Но именно эти не заметные на первый взгляд различия и являются тем, что отличает один родственный язык от другого. Знать эти различия - значит знать эти языки. Установление же различий на фоне сходства и эквивалентности относится к кардинальным проблемам лингвистики [Якобсон 1985: с. 197]. Поэтому следует иметь в виду, что сопоставительный анализ именно родственных языков, где сходство и эквивалентность составляет основу, имеет значение не только для более глубокого изучения сопоставляемых языковых систем, но и для решения важнейших общетеоретических проблем языкознания.
Наименования брюк
Кроме того, рассмотренная подгруппа отличается богатством экзотизмов в обоих языках. В чешском языке представлена экспрессивны экспрессивные наименования, не отмеченные в русском. 2.3 Наименования брюк
Исследование гиперо-гипонимической структуры этой лексико-семантической подгруппы, в отличие от предыдущей, свидетельствует о ее относительной простоте. И в чешском, и в русском языках существуют гиперонимы брюки/kalhoty, являющиеся межъязыковыми синонимами. (Напомним, что наименования брюки/kalhoty служат гипонимами к гиперониму более высокого уровня обобщения верхняя одежда/svrchni odev.) В обоих сопоставляемых языках функционирует целый ряд когипонимов - названий брюк самой различной формы, покроя, сшитых из разнообразных материалов.
Рассматривая вопрос о развитости синонимических отношений в этой лексико-семантической подгруппе, отметим, что в обоих языках к родовым номинациям брюки/kalhoty существуют синонимы разговорного характера, диалектные или устаревшие., ср. русск. штаны (разг.), порты/портки (разг.), чешек, nohavice, gate/gat ata (диал.), kate /kat ata (уст.), galaty/gelety (диал.), nevyslovitelky/nevyslovitelnice (шутл., разгов.).
Базу для развития синонимии среди видовых наименований представляют названия тканей, служащих для пошива брюк. Важно отметить, что если в чешском языке это преимущественно однословные (синтетические) наименования, то в русском - аналитические, ср: platenky, platenice - полотняные брюки; mansestrovky/mancestrovky/manzestrovky/manzestrdky (обих.-разгов.) вельветовые брюки; Ушяеф/(обих.-разгов.), barchetky/barchentky/barchantky (обих.-разгов.) -бархатные брюки; nankinky - нанковые брюки; kozenky, kozenice - кожаные брюки. Значительная часть чешских видовых наименований, образованных от названий тканей, относится к числу экзотизмов: то/с?0яу(обих.-разгов.) - брюки из ткани, называемой по-чешски molton; struksky/struksovky/struksovice (обих.-разгов.) - брюки из ткани, называемой struks; cajkovice - брюки из плотного хлопчатобумажного материала, называемого по-чешски cajk; lamasky - брюки из хлопчатобумажной ткани, называемой по-чешски lamas; pepity - брюки из ткани "пепита"; hunenky (диал.) - брюки из ворсистой ткани; skopovice - брюки из овечьей кожи; kozlovice - брюки из козлиной кожи; jelenice - брюки из оленьей кожи. Кроме того, в материале чешского языка широко представлены наименования реалий различных областей и местностей Чехии, которые также следует отнести к числу экзотизмов, не имеющих эквивалентов в русском языке, напр.: bane - широкие брюки, часть ганацкого национального костюма; tfaslavice (обл.) - широкие брюки с бахромой внизу штанин, часть словацкого национального костюма; brslenky, bruslenky (обл.) - короткие кожаные брюки, которые носили в сельской местности; poctivice (обл.) - мужские брюки из сукна или кожи, заканчивающиеся чуть ниже колен; zdzvorky - коричневые кожаные брюки; tyrolkyltyrolacky - короткие, до колен, брюки, которые носили ранее в Тироле; cervenice - красные брюки, часть ганацкого национального костюма.
К числу экзотизмов следует отнести также наименование skorne -специальные брюки для рыбной ловли, сшитые вместе с обувью.
В русском языке экзотизмов по отношению к чешскому существенно меньше. Это, напр., шаровары (заимств., обл.), в значении «часть национального костюма» заимствованное и чешским языком: saravary/saryvary/sarovary. Однако русское наименование имеет и второе значение: «спортивные брюки свободного покроя/», синоним -тренировочные брюки (разг.) В этом значении чешским эквивалентом ему служат наименования trenyrky/trenky (разг.), обозначающее одновременно и спортивные трусы, а также sponovky, tepldky.
Чешское наименование jezdecke kalhoty обладает более широкой семантикой, чем его русские эквиваленты брижди, рейтузы, галифе, т.е. между этими наименованиями существует отношение включения. Схематически существующие между чешским и русскими наименованиями отношения можно отобразить так:
И чешский, и русский языки заимствовали наименования гамаши -gamase/kamase, панталоны - pantalony, шорты - sortky, джинсы - dzinsy, бермуды - bermudy, что и обусловило сходство их семантического объема и фонетической огласовки.
Возвращаясь к вопросу о безэквивалентной лексике, нельзя не отметить, что помимо экзотизмов (наименований специфически чешских реалий) в чешском языке представлены наименования, существование которых обусловлено спецификой членения чешским языком семантического пространства, напр.: sponovky - спортивные брюки со штрипками (ср. лыжные брюки - lyzafske sponovky), teplaky - теплые брюки, часть спортивного костюма, jegrovky - теплые брюки, чаще шерстяные, которые носили в качестве белья, porcelanky - белые праздничные брюки; frakove kalhoty - специального покроя брюки, надеваемые под фрак, zaketove kalhoty - брюки, надеваемые под пиджак.
Интересно также наличие в чешском языке эмоционально окрашенных наименованийpist dly (обих.-разгов., экспр.) - узкие брюки, эквивалентом которому в русском языке можно считать брюки-дудочки, а также balony/balonky (обих.-разгов., экспр.) - широкие, длинные брюки, русский эквивалент - брюки-бананы.
Названия сосудов для хранения и изготовления различных блюд и напитков
В обоих языках существует целая группа наименований сосудов для алкогольных и прохладительных напитков: русск. чаша, кубок, бокал, чара, чарка, фужер, рюмка, стопка, шкалик; чешек, cise, pohdr, pohdrek, pokdl, kalisek, sklenice, sklenicka, ciska, stopka/stupka, stamprle/stamrdle.
Как справедливо указывает Г.В. Судаков [Судаков 1986], на отдельных участках предметно-бытовой лексики в силу ее преимущественно разговорного характера развита диффузность или синкретизм значений. Смежность, нечеткость смысловых границ предметно-бытовых слов с конкретным значением во многом обусловлена размытостью границ денотатов. На таких участках нет жесткой закрепленности слова за реалией определенного типа. Можно говорить о существовании взаимозависимости между объединением функционально близких реалий и группой соответствующих им слов: почти все близкие по внешним признакам реалии могут быть названы почти всеми словами соответствующей лексической группы. Т.е. почти каждая отдельная реалия, существующая в языковом коллективе, может быть названа почти любым или, во всяком случае, несколькими словами из соответствующей лексической группы Отсюда вытекает особенность установления эквивалентности в отношении таких наименований в различных языках: каждое из них имеет в другом несколько эквивалентов, и конкретное соответствие (например, при переводе) может быть выбрано, если известна бытовая предназначенность предмета, его внешний вид ситуация, в которой употребляется данное название, другие особенности контекста. Если, пользуясь материалом переводных словарей, представить отношения эквивалентности в этой подгруппе наименований стеклянных сосудов для прохладительных и алкогольных напитков схематически, мы получим следующую картину: рюмка kalfsek рюмочкя sklenicka бокал \\— sklenice кубок V wN , pohar чарка \X/yt ciska фужер /\J poharek шкалик угуы stamprle стопка jv\\ stopka бокальчик \) kalich чаша cise К этой же подгруппе относятся чешские наименования сосудов специального назначения sampuska (разг.) - бокал для шампанского; из Нкёгка (обих.-разгов.) - рюмка для ликера. В русском языке им соответствуют аналитические наименования.
С другой стороны, в качестве безэквивалентных по отношению к русскому языку выступают такие наименования, как пиала(запмств.) -sdlek bey ouska, uzivany v Stredni Asii и подстаканник - kovovy podstavec pod sklenici.
Межъязыковые омонимы чешек, pullitr, pullitrovka (разг.) и русск. поллитра, поллитровка (разг.) имеют различное значение. В русском языке это «бутылка водки объемом 0,5 л" [ССРЯ]. В чешском -«кружка объемом 0,5 л» [SSJC].
Таким образом, рассмотрев лексико-семантическую подгруппу названий сосудов для питья, можно сделать следующие выводы. Во-первых, семантический объем многих входящих в эту подгруппу наименований не совпадает. Между чешскими и русскими наименованиями возникают отношения включения и пересечения, что было представлено графически. Во-вторых, в подгруппе наименований сосудов для прохладительных и алкогольных напитков отмечается обусловленная внеязыковыми факторами диффузность значений. 2. 18 Названия сосудов для хранения и изготовления различных блюд и напитков
Эта лексико-семантическая подгруппа, к которой мы отнесли наименования типа русск. сахарница, солонка, селедочница, пирожница , чешек, pepfenka и т.п. не имеет в сопоставляемых языках формально выраженного гиперонима.
Основное различие между чешскими и русскими наименованиями имеет структурный характер и заключается в преобладании в чешском языке по сравнению с русским аналитических наименований.
Соотношение мотивированны немотивированных наименований и способы мотивации в сопоставительном плане
Соотношение мотивированных/немотивированных наименований и способы мотивации являются, как уже отмечалось, важными параметрами сопоставления языков. В процессе повседневного употребления слово не требует постоянного напоминания о его первоначальных мотивирующих признаках, и на них не всегда обращается внимание при монолингвальном описании языков. Однако эти признаки всегда становятся заметными при сопоставлении языков. Их выявление - одна из задач сопоставительного изучения лексики, поскольку сравнение особенностей мотивации наименований, обозначающих в сопоставляемых языках одни и те же реалии, позволяет увидеть то, на что мы часто не обращаем внимания -следы языкового творчества народов, сравнить специфику этого творчества в различных языках, обогатив таким образом собственное языковое сознание. Как писал в своей работе «Мысль и язык» А.А. Потебня, «Внутренняя форма слова есть отношение содержания мысли к сознанию; она показывает, как представляется человеку его собственная мысль.» [Потебня, 1993]. Великий ученый рассматривал внутреннюю форму не просто как мотивирующий элемент в слове, а как динамичное явление, т.е. то, что лежит в основе сходства нового и старого понятия, подчеркивал ее способность вызывать соответствующий образ на базе языковой мотивированности. Таким образом, внутренняя форма слов, выступая как основа их мотивированности, выполняет функцию связующего звена между содержательными и формальными сторонами словесного знака. В этом проявляется взаимосвязь сознания-реальности и ее интерпретации в языковом мышлении народов, в которое можно проникнуть через видимые «окошки» внутренней формы сопоставляемых слов.
Принимая в качестве основной единицы нашего исследования наименование независимо от его материального оформления, в нашей работе мы ограничимся анализом только однословных номинаций. Выявление внутренней формы аналитических наименований выходит за рамки нашей проблематики, поскольку требует применения иных подходов и методик. (Тем не менее, отметим, что аналитические наименования, будучи всегда мотивированными по сути своей, представляют в сопоставительном плане несомненный интерес.)
Наши эксцерпции насчитывают около 900 чешских и 800 русских однословных номинаций. Из них в чешском к числу мотивированных относится около 440, и, соответственно, 460 принадлежит к числу немотивированных. В русском языке выраженной словообразовательной мотивацией на синхронном уровне характеризуется около 220 номинаций, а у 580 наименований такая мотивация не обнаруживается. Таким образом, если для чешского языка соотношение мотивированных/немотивированных наименований составляет 50:50, то в русском языке к числу мотивированных можно отнести лишь около трети однословных наименований. Это позволяет сделать вывод о существенном преобладании в чешском языке по сравнению с русским эксплицитным образом мотивированных номинаций, что является показателем большей «прозрачности» лексической системы чешского языка по сравнению с русским.
Группа немотивированных наименований в сопоставляемых языках по своему составу неоднородна. Значительную ее часть составляют заимствования из других языков, как было отмечено в предыдущем разделе этой главы, напр., русск. шарф, жакет (из французского), фляга, штоф (из немецкого), смокинг, бутсы (из английского), чешек, kravata, peignoir (из французского), zidle, kredenc (из немецкого), sarafan (из русского), tunika (из греческого).
Кроме того, мотивация номинативной единицы может быть неизвестной или стертой, обнаруживаемой при помощи этимологических исследований. (Характерный пример - собственно русское наименование авоська, образованное от «авось» - хозяйственная сумка, которая берется с собой в расчете «авось что-нибудь да купишь» [Этимологический словарь русского языка под ред. Шанского, 1963]) Примеры слов с неизвестной мотивацией - стакан, юбка.
Наименования, относящиеся и в чешском, и в русском языках к числу мотивированных, могут обладать как сходной (чешек, vetrovka, русск. ветровка, чешек, rukavice, русск. rukavice), так и различной мотивацией. Очевидно, что в сопоставительном плане наибольший интерес представляют наименования, различающиеся способами мотивации.
Способы мотивации - это те мыслительные и внутриязыковые процессы, которые лежат в основе создания наименований. Сопоставляя способы мотивации на материале предметно-бытовой лексики, их роль и значение, мы будем опираться на разработанное и введенное в исследовательскую практику чешским лингвистом М. Докулилом понятие деривационных ономасиологических категорий. [Dokulil, 1962].