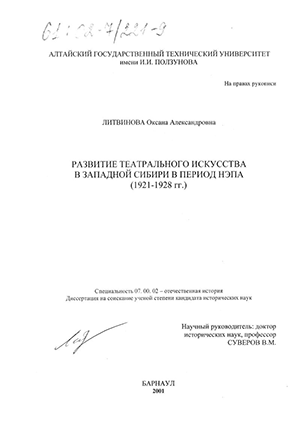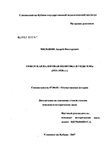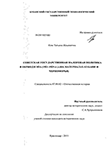Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Формирование условий для развития театрального искусства в Западной Сибири в 1921-1928 гг 32
1.1. Развитие структуры управления театральным делом в регионе в период нэпа 32
1.2. Организация работы западносибирских театров в условиях хозрасчета 72
1.3.Театральная интеллигенция Западной Сибири: пути формирования, социальные проблемы 114
Глава 2. Государство и творческая деятельность театров Западной Сибири в 1921-1928 гг 147
2.1. Репертуарная политика западносибирских театров и роль партийно-государственных органов в процессе ее реализации 147
2.2. Театр и организация досуга населения: опыт, проблемы 188
Заключение 229
Список использованных источников и литературы 234
Приложения 264
- Развитие структуры управления театральным делом в регионе в период нэпа
- Организация работы западносибирских театров в условиях хозрасчета
- Репертуарная политика западносибирских театров и роль партийно-государственных органов в процессе ее реализации
- Театр и организация досуга населения: опыт, проблемы
Развитие структуры управления театральным делом в регионе в период нэпа
При обращении к проблематике развития театрального искусства в период нэпа в первую очередь следует изучить становление организации управления театральными учреждениями, поскольку без этого невозможно дать глубокую оценку государственной политике в театральной области, понять всю сложность и многообразие перемен в сфере театра, обусловленных спецификой нэпа. Учитывая, что преобразования структуры управления театральными предприятиями начались еще до объявления в стране новой экономической политики, диссертант уделил внимание тенденциям, имевшим место в 1920 году.
По мнению исследователей, одной из важнейших особенностей развития культуры в период военного коммунизма было ее огосударствление, означавшее перевод основной массы культурных учреждений на государственное материальное обеспечение. Именно во многом благодаря этому достигался их численный рост1. Действительно, после освобождения Сибири от Колчака на ее территории возникло огромное количество театров, причем не только в губернских центрах, но и в уездных городах. В 1920 году в западносибирском регионе наиболее театральным городом являлся Омск. В августе 1920 года в этом городе работали Большой Народный театр с оперной и драматической труппами, Малый Народный театр с драматической труппой. Помещения обоих театров были большими даже в сравнении с сегодняшними провинциальными театрами: вместимость Большого театра составляла 900 человек, Малого - 625. Драматическая труппа, работавшая при губернском отделе народного образования, обслуживала и Большой, и Малый театры и состояла из 81 человека. Штат рабочих, обслуживающих Большой театр, состоял из 102 человек, Малый - из 40. Численность оперной труппы, выступавшей в Большом театре, составляла 56 человек, оркестр - 54 человека1. На протяжении года количество театров не только в Омске, но и во всей губернии увеличилось. Новые веяния времени привели и к изменению названий театров. В результате произошедших перемен список театров губернии лета 1921 года выглядел следующим образом: Первый Советский театр (бывший Большой), Второй Советский театр (бывший Коммерческий клуб), Третий Советский театр (бывший Малый), Экспериментально-революционный театр (Экревте), Губернский Показательный театр, театры в уездных городах Таре, Татарске, Славгороде, Акмолинске; Калачинске, Петропавловске. В Первом Советском театре продолжали работать оперная и драматическая труппы, остальные театры были драматическими2.
В других западносибирских губерниях количество театров также было велико. Архивные документы начала 1921 года сообщают о существовании в Барнауле Центрального театра, четырех рабочих театров, Детского театра им. К. Маркса, Передвижного театра3. Центральный театр располагался в Народном доме, Первый Рабочий театр - в здании кинематографа «Новый мир», Второй Рабочий - на дрожжевом заводе, Четвертый Рабочий - при главных железнодорожных мастерских. Третий Рабочий театр, существовавший при заводе Шпагат, функционировал только в начале 1920 года и прекратил свое существование из-за тесного помещения4. Артистические труппы, как и в омских театрах, были довольно большими. Коллектив артистов Центрального театра насчитывал 60 человек. Число актеров в рабочих театрах колебалось в пределах 30-40 человек. Численность административного и технического персонала самая большая была в Центральном театре: административный персонал - 16 человек, технический - 42. В Рабочих театрах административный и технический штат составлял от 15 до 33 человек1. Помимо Барнаула в Алтайской губернии имелись театры с профессиональными актерами в Бий-ске и Камне.
Гораздо сложнее определить положение, сложившееся в театральной жизни в 1920-1921 гг. в Томской губернии, поскольку архивные сведения по этому вопросу весьма скудные. Сводный отчет о деятельности сибирских губернских отделов народного образования, составленный в октябре 1920 года, упоминает о работавших в Томске Передвижной Губернской драматической труппе, Хореографической студии, Оперной студии, двух Рабоче-крестьянских студиях, одна их которых являлась драматической, Драматической студии при Рабочем Дворце, Опере при Губвоенкомате, Передвижном театре Дорпункта2. Упомянутые труппы не имели собственного помещения за исключением Драматической студии при Рабочем Дворце. Виду недостаточного количества театральных зданий в различных помещениях Томска в разные дни выступали различные театральные коллективы.
В Новониколаевске, ставшим губернским городом лишь с 1921 года, на протяжении 1920-1921 гг. работала профессиональная драматическая труппа уездного отдела народного образования, именовавшаяся «Народным теат-ром», в составе 22 артистов .
Анализируя приведенные данные, важно обратить внимание на два момента. Во-первых, материальное обеспечение учреждений культуры за счет государственных средств привело к возможности появления по всей стране большого количества самодеятельных и полупрофессиональных театров. Пример тому - Барнаул, в котором полупрофессиональными театрами были рабочие театры, а также Томск, где существовало огромное количество студийных и самодеятельных театров. Во-вторых, количество сибирских театров в 1920-е гг. значительно уступало количеству театров в европейской части страны в тот же период. Заметим, что в 1921 году во Владимирской губернии имелось 34 театра, Вятской - 22, Нижегородской -31, Курской - 14, Костромской - 12, Кубанской области - 271. Последнее обстоятельство позволяет говорить о менее развитых театральных традициях в сибирском регионе по сравнению с центром.
Разумеется, обширная сеть театров, сложившаяся после революции, требовала создания аппарата управления этими учреждениями, тем более, что прежняя, дореволюционная, структура руководства театральным делом новой власти не подходила. (До революции театры разделялись на несколько категорий, в соответствии с которыми выстраивалось их управление и финансирование. Существовали императорские, казенные театры, антрепризы, а также коллективы на паях). В связи с этим при Наркомпросе в 1918 году был создан специальный Театральный отдел (ТЕО), в ведении которого оказалось руководство театрами республики. Одним из первых законодательных актов большевиков в отношении театров стал декрет СНК от 26 августа 1919 года «Об объединении театрального дела». Согласно этому декрету, все театральное имущество национализировалось, а руководство всеми театрами, независимо от их принадлежности, передавалось в исключительное ведение Наркомпроса. (В Наркомпросе для руководства театрами был создан Центральный Театральный Комитет - Центротеатр, действовавший чуть более года, затем функции Центротеатра были переданы заведующему ТЕО - исполнительному органу Центротеатра)2. Театральной жизнью непосредственно на местах занимались подотделы искусств, создаваемые при отделах народного образования.
В Сибири система руководства театральными предприятиями стала складываться после освобождения территории от А.В. Колчака. В мае 1920 при Сибирском отделе народного образования (Сибоно, или Сибнаробразе) стал действовать подотдел искусств с театрально-музыкальной секцией1. Однако, как сообщалось в письме в Москву, «условия, при которых протекала и протекает работа (театрально-музыкальной секции - прим. О.Л.), чрезвычайно ненормальны, и в силу чего сделано очень мало»2. Под такими условиями подразумевалась плохая связь с местами: губернские отделы народного образования (губоно) плохо высылали сведения о положение на местах, что затрудняло Сибоно разрабатывать конкретные меры в театральной области. Главную задачу своей работы Сибирский подотдел искусств определял как «идейно-художественное руководство отраслями искусства в Сибири в широком областном масштабе», поскольку периферия оказалась не вовлечена в «кипучую работу художественной мысли» . Предполагая заниматься театральным делом в общесибирском масштабе, Сибирский подотдел искусств значительную часть внимания концентрировал на организации показательных учреждений. Из практических результатов деятельности Сибоно и Сибирского подотдела искусств можно назвать создание национальных трупп: латышской, мусульманской.
Организация работы западносибирских театров в условиях хозрасчета
Экономическая конъюнктура, в значительной степени способствовавшая в 1920-е гг. становлению структуры управления театральным делом, вызывала также перемены в организации работы театров. В связи с этим предлагаем анализ экономического аспекта деятельности западносибирских театральных учреждений.
В предыдущей главе упоминалось об огосударствлении театральных предприятий в предшествующий нэпу период, проявившемся в государственном материальном обеспечении театров. В продолжение этой темы можно указать следующие факты. В январе 1920 года был установлен порядок субсидирования театральных учреждений1. С 1 марта 1920 года по постановлению коллегии Центротеатра на территории страны была введена однообразная расценка мест во всех театрах . Таким образом, встречающееся иногда в литературе мнение, что театральные спектакли после революции были бесплатными, является неверным.
Положение в сфере культуры в период нэпа изменялось постепенно. Безусловно, руководство страны понимало необходимость поднятия культурного уровня населения, поэтому и провозглашало культурную революцию. Вместе с тем в стране встала проблема приоритета распределения финансовых средств: на восстановление экономики или на развитие культурных и образовательных учреждений. Весной 1921 года принципиальных изменений в плане материального содержания учреждений культуры еще не произошло. В мае-июне 1921 года местные отделы народного образования продолжали обращаться в ТЕО Главполитпросвета для утверждения смет и решения финансовых проблем. Пример тому - смета расходов Омского Государственного Показательного театра на 1921 год на сумму 169 215 508 руб., направленная в ТЕО. Омский губоно просил в срочном порядке открыть кредит или отпустить аванс в счет сметы1.
Государство реально расценивало возможность выделения средств на театральные учреждения. Пример тому - одно из межведомственных совещаний при Наркомпросе в мае 1921 года, на котором поднимался вопрос о порядке финансирования театральных предприятий и об их бесплатном посещении. В результате обсуждения была установлена несвоевременность введения полной бесплатности пользования театрами, вместо чего предлагался принцип распределения мест на платные и бесплатные. Кроме того, в постановлении совещания высказывалась возможность увеличения цен на места в театрах2. Тогда же, исходя из анализа ситуации в стране, отмечалась вероятность существования в будущем кооперативных и частных театров.
Экономический кризис стал сказываться на театральной политике государства с лета 1921 года. Как отмечалось в одном из документов Наркомпро-са, «в связи с изменившеюся общею экономической политикой Государства, в связи с затруднениями его финансовым положением ... неизбежно значительное изменение государственной политики. Это изменение найдет выражение в отступлении от огосударствления театров и в переходе на путь их разгосударствления, на путь расширения инициативы и самодеятельности театральных коллективов, актерских кооперативов и т.п. Таким путем с государства будет снято бремя содержания всех театров республики...»".
Одновременно местные партийно-государственные органы выступали с более смелыми предложениями. В августе 1921 года коллегия агитационно-пропагандистского отдела Омского губкома РКП(б) вынесла постановление, в котором заявлялось о допуске аренды некоторых предприятий артистическими коллективами и даже частными лицами на условиях договора о репертуаре .
Летом 1921 года Главполитпросвет определил, что государство берет на себя обязательство содержания революционных театров, в частности, театров Пролеткульта. Из профессиональных трупп, получающих поддержку, предполагалось оставить для всей республики 45-50. За остальными оставалось право организовываться в коллективы и работать на хозрасчете2. Такая политика центра определила ситуацию на местах. В августе-ноябре 1921 года, т.е. одновременно с преобразованиями в сфере управления театральным делом, в западносибирских городах, происходило сокращение сети театров. Остановимся на особенностях этого процесса в каждой западносибирской губернии.
В Омске на заседании губполитпросвета в начале августа 1921 года прозвучало предложение сохранить лишь театральные учреждения, приносящие прибыль (такими считались цирк и кинотеатр «Гигант»), и один театр содержать за счет государства. Тогда же вопрос о театрах слушался на заседании президиума Омского губисполкома. Итоги заседания можно признать противоречивыми. С одной стороны, в постановлении говорилось о роспуске оперной труппы, требовавшей огромного финансирования, с другой стороны - о прикреплении труппы артистов бывшего Коммерческого клуба к Гостеатру для бесплатного функционирования последнего, в то время как для Коммерческого клуба предлагалось организовать новую труппу артистов с платным функционированием клуба. Губполитпросвету поручалось в срочном порядке организовать и послать труппы артистов на места: в Татарск, Тару, Славгород, что, безусловно, предполагало финансовые затратьГ. Таким образом, данное решение исполкома являлось продолжением ранее взятого курса поддержки театра как средства революционной агитации. Можно предположить, что в связи с этим, предпочтение отдавалось более доступному драматическому искусству.
В течение последующего месяца мнения работников Омского губполитпросвета по поводу театральной политики разделились. Михаил Готлиб, заведующий художественным подотделом, предложил отказаться от театров, не несущих революционной пропаганды и агитации. По его мнению, театру Экревте следовало бы отдать здание Большого Народного театра. Обратим внимание, что брат Михаила Готлиба Лев Готлиб был одним из участников труппы Экревте. Режиссер Первого Советского театра Н.Н. Шестов высказал противоположную точку зрения, заявив, что государство в сложившихся обстоятельствах должно выступить монополистом и использовать все театры. Шестов предположил, что все театры, за исключением содержащегося на средства государства Экревте, смогут окупить себя. Более того, Шестов заявил, что по 15 дней в месяц в опере и драме будут бесплатные спектакли. Заметим, что данные предположения вытекали из расчета полного сбора со спектаклей при ценах от 2 000 до 10 000 рублей, а также сбора буфета. Коллегия губполитпросвета приняла за основу проект Шестова (проект был принят всеми, кроме М. Готлиба)1. Таким образом, вполне объяснимое желание сохранить большое количество театров приводило хоть и к оптимистическим, однако явно необдуманным с финансовой стороны решениям.
На последующих заседаниях губполитпросвета план в области театрального дела был пересмотрен. Во-первых, констатировалось, что существование в Омске большого количества театров, когда все они должны перейти на хозрасчет, не выдерживает критики в бюджетном отношении. Во-вторых, отмечалось, что наличие четырех драматических театров распыляет художественные ценности, вследствие чего художественная производительность театров не может встать на должный уровень. В сложившейся обстановке коллегия губполитпросвета посчитала целесообразным сократить число театров. Предполагалось оставить Сибгосоперу на условиях содержания за счет губо-но, один драматический стационарный театр, в котором предполагалось сконцентрировать лучшие драматические силы города. При этом труппа не должна была превышать 50 человек. Кроме того, за губполитпросветом оставался Губернский Показательный театр и такие доходные предприятия, как цирк и кинотеатр. Для сформирования единой драматической труппы создавалась комиссия из представителей губполитпросвета, управления театрами, культотдела губпрофсовета, губотдела Рабиса, Экревте, Первого Советского театра, Малого театра (Третьего Советского театра)1.
На протяжении октября 1921 года в Омске происходили попытки реализации этого проекта. Был утвержден список единой драматической труппы из 57 человек, главным режиссером труппы назначался Н.Н. Шестов. Труппа формировалась Шестовым из актеров Первого Советского театра и Экревте. Обязательным условием существования будущей труппы было наличие в ее репертуаре постановок труппы Экревте. Труппы, артисты которых не вошли в единую драматическую труппу, должны были считаться распущенными2.
Репертуарная политика западносибирских театров и роль партийно-государственных органов в процессе ее реализации
На протяжении продолжительного времени считалось, что снятие с государственного снабжения театров в годы нэпа привело к появлению в репертуаре кассовых, но вместе с тем малохудожественных пьес для того, чтобы привлечь зрителей и, следовательно, собрать большие сборы со спектакля. В действительности ситуация складывалась гораздо сложнее. Поскольку финансовое положение театров на протяжении 1920-х гг. не было единообразным (ввиду постепенного снятия театров с государственного бюджета, а также частичного, а не полного хозрасчета), художественное развитие творческих коллективов складывалось в противоречивых условиях. Несмотря на то, что приоритет в распределении денежных средств был отдан хозяйственной сфере, государство не отказывалось от курса культурной революции. В результате в области театральной политики перед руководством страны встала трудновыполнимая задача: используя минимальные экономические рычаги, направить развитие искусства в выгодном с точки зрения идеологии для государства русле. Рассмотрим, каким образом проистекали эти процессы в Западной Сибири. Оговоримся, что в данной главе в ряде случаев автор останавливается не только на репертуаре театров, но и на художественных течениях, имевших место в регионе.
О своем отношении к театральному искусству большевики заявили вскоре после прихода к власти. Пример тому - доклад В.И. Удонова «О деле народного театра», прочитанный в 1918 году на совещании культурно-просветительных организаций Алтайского края и прилегающих губерний. (См. Приложение 17.) Изучая статьи государственных и партийных лидеров, можно сделать вывод, что руководство страны предполагало использовать театр и для воспитания художественного вкуса населения, и для пропаганды революционных идей. В связи с поставленной целью партийно-государственный органы стремились в той или иной степени повлиять на репертуарную политику театров.
В первую очередь властные структуры сконцентрировали свое внимание на показательных и агитационных театрах. Так, вскоре после освобождения Сибири от А.В. Колчака, в 1920 году, в Омске была попытка создания Первого Сибирского Свободного Показательного театр. Мыслилось, что репертуар театра будет состоять преимущественно из классики: пьес А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина, А.Н. Островского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, А.В. Сухово-Кобылина, A.M. Горького, А.И. Южина-Сумбатова, Л.Н. Андреева, инсценировок Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева, а также произведений А.В. Луначарского. Помимо предложенного репертуара Сибоно сформулировал принципы работы будущего Показательного театра. В них подчеркивалась желательность выявления коллективного творчества режиссера, актера, художника, музыканта в противовес давлению на индивидуальность. Также отрицалось деление на амплуа и положения актеров. «Сегодня актер играет главную роль, а завтра, если нужно по заявлению режиссера, он выходит в толпе без слов», - говорилось в «Направлениях и задачах» театра1. Трудно объяснить, что подтолкнуло отдел народного образования уделить внимание организации творческого процесса в театре: было ли это знакомство с приемами К.С. Станиславского, разработанными еще до революции, либо Сибоно, желая создать новый театр, отметал все устаревшие принципы театральной работы, в том числе и разделение на амплуа. Между тем хотелось бы обратить внимание, что желание привнести новые принципы в организацию театрального производства не повлияло на репертуар, в котором преимущество было отдано классике, а не революционным к агиткам.
В связи с тем, что государство стремилось в полной мере использовать театр в качестве проводника революционных идей, широкий размах получила организация всевозможных политических мероприятий, в которых определенная роль отводилась театру. Это агитационные кампании и политические праздники. В качестве примера отметим, что за период с апреля по сентябрь 1921 года в Алтайской губернии было поставлено 103 представления, в которых участвовало 39 драматических организаций1. Неотъемлемой частью работы всех театров в начале 1920-х гг. стало их участие в неделях помощи школе, «Красному инвалиду», неделях Воздухофлота, Красного флота, «Красного пахаря», днях работниц и т.п.
Успеху агитационных акций способствовала деятельность отделов народного образования по учету театральных помещений, артистов-профессионалов и артистов-любителей. Специальные комиссии, создаваемые, как правило, партийными комитетами и политпросветами, занимаясь подготовкой праздников и кампаний, оговаривали вопросы репертуара. Так, в апреле 1921 года при проведении месяца «Красного пахаря» Барнаульский уездный политпросвет поручил заведующему подотделу искусств выработать репертуар пьес и дать определенные задания всем театрам . Созванная в 1922 году в Томске для проведения праздника 1 мая губернская комиссия постановила: предложить губполитпросвету 1 мая не ставить никаких пьес старого репертуара, кроме специально подобранных3. На заседании агитколлегии одного из райкомов РКП(б) Томска в 1923 году отмечалось о необходимости отметить 1 мая во всех клубах и театрах района постановкой революционных спектаклей. Для этого поручалось райкому РКСМ в порядке союзной дисциплины привлечь членов комсомола к подготовке проведения первомайского праздника в комсомольском клубе постановкой пьесы, популяризирующей 1 мая1.
Праздничные мероприятия проводились независимо от того, сдавался театр в антрепризу или нет. В марте 1923 года в Барнаульский Гостеатр, в котором на тот момент работала антреприза А.Н. Ванина, было направлено из губполитпросвета письмо с указанием поставить две пьесы революционного содержания в честь проведения торжественного совещания по поводу 25-летней годовщины РКП(б). Для постановки рекомендовались «Красный петух», «Железная пята» или «Жрец Тарквиний» .
Поскольку для организации агитационной работы требовался более или менее подготовленный аппарат, отделы народного образования пошли по пути мобилизации лиц, имеющих профессиональное музыкальное, художественное образование или имеющих опыт литературной и театральной деятельности. Так, в Томской губернии в феврале 1922 года за подписью заведующего подотделом художественной агитации вышел документ о переводе ряда работников из советских учреждений в подотдел художественной агитации политпросвета. При этом указанные лица разделялись на две категории: работники высшей квалификации и малоквалифицированные. В категорию высококвалифицированных работников попали литераторы с высшим образованием, литературным и театральным стажем не менее года; литераторы, проработавшие не менее трех-четырех лет на литературно-театральном поприще; театралы, окончившие высшие театральные курсы и школы и имеющие стаж не менее трех лет; режиссеры с высшим образованием со стажем не менее трех лет; музыканты-теоретики, окончившие консерваторию или музыкальное училище; музыканты, окончившие специальные классы рояля, скрипки, композиции; дирижеры, окончившие консерваторию и имеющие стаж не менее двух лет; художники, окончившие Академию художеств или высшие художественные курсы. В категорию малоквалифицированных специалистов попали литераторы со средним или ниже среднего образованием, имеющие пятилетний театрально-литературный стаж; театралы, окончившие студии, курсы и имеющие стаж не менее года; режиссеры-практиканты со стажем не менее пяти лет; музыканты с низшим образованием со стажем не менее пяти лет; художники-практиканты со стажем не менее пяти лет. Лица, относящиеся к той или иной категории, мобилизовались для работы в подотделе художественной агитации политпросветов в качестве литераторов (театралов), театралов-режиссеров, музыкантов, художников1.
Деятельность театров в 1920-е гг. не сосредотачивалась на проведении агитационных кампаний. Независимо от политики государственных и партийных органов, театры могли проводить и проводили свою художественную линию. Не случайно этот период называют расцветом советского театрального искусства. В то время в Москве работали столь непохожие друг на друга театры В.Э. Мейерхольда, А.Я. Таирова, Художественный театр со студиями, Малый театр и ряд других театральных коллективов.
Применительно к провинции трудно говорить о разнообразии течений в искусстве. Основная масса провинциальных театров в художественном плане заметно отличалась от столичных театров. Такое положение было характерно для театрального искусства еще с дореволюционного периода. На местах не только не сложилось постоянных трупп, но также иным образом проистекал процесс подготовки спектаклей. Число премьер за сезон было столь огромно, что постановка могла идти с одной-двух репетиций. Поэтому уровень спектаклей часто был не очень высоким. Ориентация на большое число премьер в провинциальных театрах сохранилась на протяжении 1920-х гг., что, безусловно, делало похожими друг на друга постановки различных коллективов. Вместе с тем было бы неверно говорить о полном отсутствии новых направлений в отдаленных от столицы театрах.
Театр и организация досуга населения: опыт, проблемы
Обращаясь к проблемам театрального искусства, важно помнить, что любой театр не может существовать без зрителя. Доставить эстетическое наслаждение аудитории - конечная цель любого творческого коллектива. С другой стороны, во все времена возникала проблема востребованности искусства. Определение роли театра в повседневной жизни населения позволяет оценить степень значимости театрального искусства в том или ином обществе, а также выяснить, насколько государство нормировало такую сторону жизни своих граждан, как досуг.
Исследователи неоднократно обращали внимание, что после 1917 года театры стали доступны самым широким слоям населения. Как уже упоминалось, плата за посещение театров не была отменена, но большое количество билетов распространялось через профсоюзы, в результате чего рабочие, красноармейцы, советские служащие, студенчество получили возможность бесплатного посещения спектаклей. Принимая во внимание недостаточный образовательный уровень значительной части новой категории зрителей, в первую очередь важно остановиться на проблеме восприятия спектаклей театральной аудиторией. В этой связи большой интерес представляют воспоминания актеров. В.В. Гарденин, рассказывая о гастрольной поездке по деревням Бийского уезда, замечал, что сельские жители до приезда его труппы видели только бродячих акробатов и не подразумевали о существовании драматического театра. При этом В.В. Гарденин отмечал, что, несмотря на отсутствие каких-либо знаний о театре, деревенские жители были очень заинтересованными зрителями. «Спектакли смотрятся с напряженным вниманием и принимаются восторженно. После спектаклей потрясенные и возбужденные зрители подходят к актерам, задают много вопросов, беседуют, благодарят», - писал актер1. В.В. Петухова вспоминала, что при постановке в Томске в 1920 году «Капитала» зрительный зал, наполненный солдатами, студентами, матросами, шумно вставал с мест, приветствуя гибель Капитала2. Такое единение зрительного зала и актеров было памятно артистам на протяжении всех последующих лет их творческой деятельности. Заметим, что о подобном интересе к театральным постановкам людей, не имевших даже начального образования, отмечали не только провинциальные, но и столичные артисты. В результате невольно возникает вопрос, что же лежало в основе такого повышенного интереса: действительное осознание всей глубины содержания спектакля или же обычное удивление человека на новое, ранее неизвестное ему явление или событие. На наш взгляд, большую роль в процессе восприятия театральных постановок играл второй фактор. К такому выводу нас подтолкнули следующие размышления.
Ранее указывалось, что по ряду причин уровень спектаклей в сибирских театрах зачастую был невысоким: проявлялись несыгранность труппы, недостаточно удачный подбор артистов, огрехи суфлеров и т.п. Между тем вплоть до начала зимнего сезона 1923/24 гг. западносибирские театральные рецензенты не упоминали о пустых залах. Несмотря на художественные недостатки постановок, население проявляло к театрам неподдельный интерес. Таким образом, в 1920-е гг. зритель в основной своей массе не требовал от театра профессионализма, как сегодня. Театр воспринимался сибирскими горожанами не как лаборатория искусства (тем более что сибирским театрам практически не были свойственны художественные эксперименты), а как место отдыха. Данное явление вполне объяснимо. В небольших провинциальных городах в помещениях городских театров сосредотачивалась практически вся художественная жизнь: спектакли местных и гастролирующих профессиональных и самодеятельных трупп, концерты учеников музыкальных консерваторий, техникумов. Также можно вспомнить, что к середине 1920-х гг. во всех западносибирских губернских городах осталось по одной профессиональной труппе, работавшей в здании городского театра. Этот факт подтверждает значимость театра в культурной жизни горожан. Подобно тому, как в рабочих районах центром отдыха становились клубы, в масштабах всего города подобным центром становился городской театр.
Малозначительные на первый взгляд документальные сведения позволяют сделать вывод, что большая часть зрителей не обладала элементарной культурой поведения в театре, а именно эта культура является одной из составляющих способности осознания содержания и смысла театральных постановок. В письме пожарного управления Алтайской губернии заведующему Гостеатром, датированном мартом 1922 года, говорится: «Губернское пожарное управление ... категорически воспрещает Вам позволять публике производить курение табаку как в залах, так и [в] фойе, на сцене. Заведующий театром должен отвести для курения табаку отдельную комнату, но отнюдь не в зале»1. Судя по упомянутому письму в 1920-е гг., подобные явления были обычным делом. О невысокой культуре поведения в театре свидетельствуют и заметки корреспондентов. В одном из сообщений указывалось: «10 декабря на спектакле в 1-ом Государственном театре, когда шла пьеса «Разбойники» Шиллера, мальчики, находившиеся на галерке, хулиганили: бросали снежками во время действия на сцену и в партер и шумели». О маловоспитанности зрителей отмечали периодические издания и в дальнейшем. «...не успеет окончиться последний акт, как зрители вскакивают со своих мест и мчатся к дверям. Такие «перебежки» страшно нервируют сидящих на местах и желающих досмотреть пьесу до конца. Говорят, что причиной этого является вешалка. ... До которых же пор около нее будет такой Содом и толкучка? Один мой знакомый говорит, что ему в такой схватке у вешалки однажды оторвали дюжину пуговиц. И я ему сочувствую, потому что самому однажды оборвали карманы»1, - писал в 1927 году корреспондент журнала «Томский зритель». Принимая во внимание столь нетеатральное поведение аудитории, можно с большей долей уверенности констатировать, что массовый зритель посещал спектакли не с целью интеллектуального развития, а для развлечения и отдыха. Театр был для такой категории людей лишь одним из способов провождения свободного времени.
Степень подготовленности массового зрителя к восприятию театральных постановок могут характеризовать анкетные данные опросов, поведенных в начале 1923 года среди студентов рабфака в Томске. Показательно, что в сводках о посещениях спектаклей практически отсутствует анализ актерской игры и режиссерской работы. Типичным является следующий отзыв: «Впечатления публика вынесла весьма хорошие, потому что постановка, а также и обстановка была весьма интересна как с картинной, а равно и с типичной и художественной точки зрения. Точно описать и передать свои удовольствия не могу» . Случалось, что молодежь шла на спектакль лишь для того, чтобы в общих чертах ознакомиться с известным классическим произведением. «Ты знаешь, какая это толстая книга («Анна Каренина» - прим. О.Л.), надо читать целый месяц. А здесь все в один вечер!»3, - такое объяснение посещения театра услышал омский критик. «Рядовой интеллигент знает фамилии до полудесятка композиторов, и умеет отличить вальс от похоронного марша, и знает, пожалуй, что оперу «Евгений Онегин» сочинил не Пушкин, а Чайковский»4, - с горечью отмечал в 1926 году управляющий Сибгостеатром Н.М. Милеант о художественной культуре горожан.
Между тем было бы неверно изображать всех театральных зрителей 1920-х гг. малообразованными и не способными к глубокому восприятию искусства людьми. Безусловно, во всех сибирских городах существовало определенное количество театралов. При отсутствии такой категории зрителей бессмысленным становилось бы издание театральных журналов, тем более, что первый журнал такого рода в сибирском регионе вышел в Омске еще в 1920 году. Одна из местных газет писала: «В городе Барнауле имеется «театральная публика», т.е. любящая театральное искусство в более широком понятии этого слова. Ей не надо фарсов и пустых «легких» пьес. Она еще не испорчена кафе и шантанной жизнью, «легким жанром», а потому задача Гостеатра поддержать в ней интерес к театральному искусству, повлиять на воспитание в зрителе здорового чувства и художественного восприятия правды жизни»1. Разумеется, что в таких городах, как Томск и Омск, где издавна были сильны культурные традиции, любовь к театру среди определенной части населения была не менее развита, чем в Барнауле.
Документальные материалы не дают возможности точно представить социальный состав зрительской аудитории в процентном соотношении, поскольку в 1920-е гг. не собирались подобные статистические данные. Сведения, сохранившиеся в источниках, представляют порой противоречивую информацию. Несмотря на эти обстоятельства, попытаемся сделать несколько выводов.