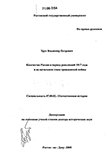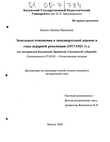Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Политическая элита и перспектива революции (конец 1916 г. февраль 1917 г.) 49
1.1. Традиционные идейно-теоретические представления о революции и фактор мировой войны : 49
1.2. "Патриотическая тревога" и рост оппозиционных настроений политической элиты 66
1. 3. Феномен "внутреннего врага" в сознании политической элиты 84
1. 4. "Заговоры" и "призрак революции" в психологи политической элиты накануне Февраля 1917 г 108
Глава 2. Февральский переворот и его восприятие политической элитой 138
2. 1. Вооруженное восстание в Петрограде и политико-психологическая адаптация представителей политической элиты 138
2.2. Политическая элита и начало становления политических ритуалов и символики Февральской революции 173
2.3. Политическая элита в процессе создания новой системы власти 193
Глава 3. Февральский переворот и попытка формирования "общенациональной идеологии" 220
3.1. Предпосылки возникновения "общенациональной идеологии" и ее политико-психологическая основа 220
3.2. "Свободный народ" как главный субъект "общенациональной идеологии" 242
3.3. Проблема национальной легитимации революции и мифология "революционного мессианства" 252
3.4. Революция как "торжество права" в послефевральской политической мифологии 285
Глава 4. Политическая элита в системе властных отношений после Февральского переворота (март-апрель 1917 г.) 310
4. 1. Формирование публичного образа новой государственной власти и политическая элита 310
4. 2. Приоритеты деятельности Временного правительства в контексте "общенациональной идеологии" .350
4. 3. Критический образ системы власти "Свободной России" в представлениях политической элиты 391
Заключение 450
Список использованных источников и литературы 471
- Традиционные идейно-теоретические представления о революции и фактор мировой войны
- Вооруженное восстание в Петрограде и политико-психологическая адаптация представителей политической элиты
- "Свободный народ" как главный субъект "общенациональной идеологии"
- Критический образ системы власти "Свободной России" в представлениях политической элиты
Введение к работе
Актуальность исследования. Историческая наука проявляет значительный интерес к изучению различных аспектов российской политической истории периода революции 1917 г. Однако, исследователи традиционно наибольшее внимание уделяли проблемам внутренней и внешней политики царизма и Временного правительства, истории классов и политических партий и их участию в событиях Февральской революции. Зачастую за рамками исторических работ оставались действовавшие в сложных и драматичных условиях русской революции политические и общественные деятели, руководители партий, популярные думские лидеры -люди, оказывавшие заметное влияние на развитие политических процессов в стране. Между тем, без изучения такого фактора, как «роль личности в истории», невозможно создание адекватного представления о событиях и явлениях, определявших характер Февральской революции. Стремительные и радикальные перемены, связанные с крушением самодержавия и возникновением нового политического режима «Свободной России», сопровождались неоднозначными процессами в сфере общественного сознания, отразившимися на психологическом облике представителей всех социальных слоев населения. Политическая элита не была исключением, более того, психологические явления оказывали существенное влияние на деятельность политиков, на характер их отношений друг с другом, на специфику публичного поведения. Важность исследования политической элиты определяется и тем, что в значительной мере именно от действий ее представителей и их способности достигать взаимопонимания в своей среде зависело обеспечение стабильности в обществе, проведение органами государственной власти политики, адекватной условиям мировой войны и динамичным социально-политическим процессам периода Февраля 1917 г. Особенности сознания и психологии политиков, активно функционировавших накануне и во время Февральской революции до сих пор не являлись предметом специального исторического исследования.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования избрана политическая элита - специфический слой общества, включавший деятелей, которые принадлежали к различным политическим течениям и персонифицировали ключевые стили поведения и сознания. Характерной
особенностью представителей политической элиты является то, что они смогли достигнуть значительного авторитета, известности в общественных кругах, приобрели возможность оказывать влияние на политическую жизнь публичными выступлениями и предпринимаемыми акциями и участвовать в формировании общественного мнения, «узнавались» достаточно широкими слоями населения.
Необходимо отметить, что в данной работе не ставится знак равенства между понятиями политическая и правящая элита. Вследствие особенностей развития российской государственности и политико-правовой культуры правящая элита вплоть до Февраля 1917 г. отличалась «замкнутостью», доступ в среду высшей бюрократии был строго регламентирован, что препятствовало вовлечению в процесс государственного управления представителей «общественности». Это обстоятельство способствовало тому, что образованная часть общества, имеющая необходимый интеллектуальный потенциал для участия в выполнении государственных управленческих функций, изначально была ориентирована на оппозиционную по отношению к власти модель поведения. Исходя из своеобразия российской политической жизни накануне Февральской революции в диссертации в качестве политической элиты рассматриваются представители всех политических сил, действовавшие в Петрограде фактически легально. В соответствии со статусом и профессиональной принадлежностью в среде политической элиты можно выделить ряд групп: руководители, идеологи и активисты различных партий и общественных организаций; депутаты Государственной думы; журналисты и писатели; представители деловых кругов; отдельные военные деятели.,
В дни Февральской революции произошло стремительное «стирание» грани между правящей и политической элитой. Многие яркие представители политической элиты приняли на себя выполнение непривычных для них властных функций (в качестве членов Временного правительства, деятелей Временного комитета Государственной думы, думских комиссаров в министерствах, учреждениях и воинских частях). Подобное перераспределение политических ролей накладывало на политиков груз дополнительной ответственности, требуя от них адаптации к новым реалиям практической деятельности.
Объект исследования ограничен рассмотрением представителей политической элиты, функционировавших в Петрограде. Выступая по сути в
роли политиков общероссийского масиггаба, они при этом отличались от региональной политической элиты специфическими характеристиками своего менталитета и социального облика.
Предмет исследования - политико-психологические особенности политической элиты, выражавшиеся в процессе восприятия явлений политической жизни, межличностного взаимодействия, публичной деятельности и, в частности, целенаправленной пропаганды определенных идеологических установок и стереотипов. Представители политической элиты рассматриваются в диссертации как носители специфического менталитета, содержащего характерные убеждения, установки, стереотипы, настроения, чувства и определявшего их политико-психологический облик. Таким образом, в данной работе прослеживается влияние конкретных исторических условий периода Февральской революции 1917 г. на формирование особенностей сознания и психологии политической элиты.
Хронологические рамки диссертации. Исследование хронологически охватывает период с конца 1916 г., когда у действовавших в Петрограде представителей политической элиты уже сформировался менталитет, свойственный им к моменту Февральской революции. «Верхней» границей диссертации является апрель 1917 г. - к этому времени у политиков окончательно сложилось достаточно полное представление о происшедшем перевороте и установившемся политическом режиме «Свободной России».
Цель и задачи работы. Целью исследования является реконструкция на основе конкретно-исторического материала особенностей сознания, психологии и поведения представителей политической элиты накануне и во время Февральской революции 1917 г.
Достижение этой цели предполагает решение ряда исследовательских задач:
-
Определение факторов, оказывавших влияние на политико-психологический облик политической элиты накануне Февральской революции.
-
Анализ представлений о революции, существовавших в среде политической элиты.
-
Рассмотрение своеобразия психологии и поведения политической элиты во время Февральской революции.
4. Изучение механизма политической адаптации элиты к новым реалиям
«Свободной России», возникшим вследствие свержения самодержавия.
-
Характеристика функций, структуры и основных элементов «общенациональной идеологии», предложенной обществу политической элитой после крушения царизма.
-
Анализ восприятия представителями политической элиты системы государственной власти послефевральской России и особенностей их участия в исполнении властных функций.
-
Рассмотрение специфики механизма политического лидерства накануне и во время Февральской революции.
-
Определение степени соответствия между доминантами публичной деятельности политической элиты и ее самосознанием.
Теоретико-методологическая основа работы. Методологической основой диссертации являются принципы историзма и научной объективности. В работе используются методы традиционного исторического исследования - в частности, сравнительно-исторический анализ фактов, системный подход к рассмотрению явлений и событий. Так же для достижения поставленной цели и задач исследования автором применялись отдельные концептуальные подходы и методологический инструментарий других гуманитарных наук - психологии (политической, социальной, исторической), социологии, политологии.
Степень изученности проблемы. Анализ имеющейся в настоящее время историографии свидетельствует об отсутствии специальных работ, в которых функционирование политической элиты в Петрограде накануне и во время Февральской революции рассматривалось бы с точки зрения особенностей ее сознания и психологии. Однако отдельные аспекты изучаемой проблемы затрагивались в исторических исследованиях, преследовавших иные цели и задачи.
В 20-х гг. в исследованиях Февральской революции основной акцент делался на рассмотрение борьбы классов и выражающих их интересы партий. Изучение политических процессов осуществлялось через призму «исторической правоты» большевистской партии, преувеличивалась степень «организованности» и «сознательности» революционных масс. На общем фоне исследование Э. Б. Генкиной «Февральский переворот» отличалось объемом привлеченного фактологического материала, использованного не только для
скрупулезного восстановления хронологии событий, но и для их внимательного осмысления. Автор стремился представить в живой, яркой форме участие в событиях различных политиков, показать их настроения и переживания1. Несмотря на появление множества научно-популярных книг и брошюр о Февральской революции, конкретным политикам было посвящено лишь несколько специальных работ (в частности, их героями стали А. Ф. Керенский, В. В. Шульгин, В. М. Пуришкевич)2. Особое место занимает книга А. А. Блока «Последние дни Императорской власти»3. Применительно к цели и задачам диссертации работа А. А. Блока, являвшегося в 19І7 г. редактором в ЧСК Временного правительства, интересна как по сути первая серьезная попытка осмысления психологии, сознания, мотивов поведения деятелей царского режима и оппозиции накануне крушения самодержавия (именно через понимание этого он рассчитывал уяснить феномен Февраля 1917 г.).
Историография начала 30-х гг. - середины 50-х гг. несла на себе отпечаток внутриполитических процессов, происходивших в СССР и связанных с функционированием системы личной власти И. В, Сталина. Для историографии характерна, например, бескомпромиссная оценка Й. И. Минцем политического поведения лидеров меньшевиков - партии, являвшейся «последним барьером на пути пролетарской революции, последней баррикадой, за которой отсиживалась контрреволюция, собирая и концентрируя силы для наступления»4. В исторической науке наблюдалось сознательное изменение приоритетов - на смену изучению революции 1917 г. пришло исследование прежде всего истории гражданской войны.
Период в развитии советской историографии, начавшийся в конце 50-х
гг. и продолжавшийся до конца 60-х гг., характеризовался стремлением
историков компенсировать издержки эпохи господства «Краткого курса
истории ВКП(б)». Это коснулось и переоценки значения Февральской
революции, которой ранее уделялось весьма незначительное внимание.
1 Генкина Э. Февральский переворот // Очерки по истории Октябрьской революции. -
М.;Л„ 1927.-Т. II.-С. 3-110.
г Сверчков Д. Три метеора. Г. Гапон. Г. Носарь. А. Керенский. -Л., 1926. - С. 151-252; Он
же. Керенский. - Л., 1927; Заславский Д. Рыцарь монархии Шульгин. - Л., 1927; Любош С.
Русский фашист Владимир Пуришкевич. - Л., 1925.
а Блок А. Последние дни Императорской власти. -Пб., 1921.
4 Минц И. И. Меньшевики в интервенции. - М.;Л., 1931. - С. 4.
Исторические работы, вводившие в научный оборот огромный массив архивных материалов, преследовали своей целью прежде всего воссоздание событийной стороны периода Февральской революции, в том числе реконструкцию адекватной картины политической жизни России в период крушения царизма, определение места и роли различных сил. В изучение политической элиты значительный вклад внесло двухтомное исследование Э. Н. Бурджалова5. Рассматривая Февральскую революцию не в виде изолированного исторического эпизода, а как важнейший этап единого революционного процесса, автор попытался показать, в частности, реальную роль в событиях Февральской революции наряду с политическими и классовыми силами многих активно действовавших политиков, дал им выразительные характеристики. Нетрадиционным для отечественной историографии являлось указание на фактор «руководящей роли» Государственной думы в ходе вооруженного восстания, что обуславливалось ее популярностью и привлекательностью для масс в качестве главного оппозиционного центра.
В 60-е гг. наметилась сохранявшаяся в последующем тенденция к рассмотрению исторических процессов Февральской революции сквозь призму борьбы политических партий. Ряд содержательных работ (К. В. Гусева, Н. Г. Думовой, В. В. Комина, Н. В. Рубана, Л. М. Спирина, С. В. Тютюкина, В. В. Шелохаева и др.) отражал в своей совокупности процесс формирования в России спектра политических сил, активно участвовавших в событиях революции 1917 г. В этих исследованиях авторы в различной степени касались идеологии, политических настроений и психологии политических деятелей периода Февральской революции. На общем фоне выделялась монография С. В. Тютюкина6, в которой благодаря анализу огромного материала, в том числе архивного, показывались особенности идеологических и политических ориентации представителей различных течений социал-демократии как внутри России, так и в эмиграции. В условиях характерного для советской историко-партийной литературы схематичного подхода к описанию противоречий между большевистским и меньшевистским
5 Бурджалов Э. Н. Вторая русская революция. Восстание в Петрограде. - М, 1967; Он же.
Вторая русская революция. Москва. Фронт. Периферия. -М., 1971.
6 Тютюкин С. В. Война, мир и революция. Идеологическая борьба в рабочем движении
России 1914-1917 гг. -М., 1972.
течениями социал-демократии исследование С. В. Тютюкина отличалось стремлением к объективности и глубокому осмыслению существовавшей в период войны и Февральской революции идеологической дифференциации в РСДРП.
Политическая элита становилась объектом исследований и в работах, посвященных системе властных отношений накануне Февраля 1917 г. и после свержения царизма (необходимо особо отметить монографии А. Я. Авреха, П. В. Волобуева, В. С. Дякина, В. Я. Лаверычева, В. И. Старцева, Е. Д. Черменского). Одним из дискуссионных вопросов являлась оценка историками степени оппозиционности и решительности либеральной оппозиции в борьбе с царизмом. В. И. Старцевым вполне обосновано был выдвинут тезис, что требования к царизму со стороны буржуазии, направленные на введение реальной Конституции и создание полноправного парламента, а также попытки добиться своего участия в деятельности исполнительной власти достигали максимальной силы во время нарастания революционных кризисов (то есть в 1905-1907 гг., и в 1915-1917 гг.)7. Напротив, А. Я. Аврех, доказывая, что буржуазия неизменно страдала болезнью «властебоязни» и всячески стремилась избежать принятия на себя властных функций, объяснял это «контрреволюциошюстью русской буржуазии, обусловленной ее страхом перед народом», желанием «жить под защитой царизма, несмотря на все связанные с этим неудобства и ограничения»8. В предпринятых В. И. Старцевым исследованиях проблем организации новых институтов государственной власти и политической системы в послефевральский России нашло отражение поведение политиков и характер их политических представлений. Автором также был заявлен принципиально новый для отечественной исторической науки взгляд на процесс интеграции оппозиционной самодержавию политической элиты, происходившей, по мнению В. И. Старцева, в значительной степени в рамках русского политического масонства. Этот фактор повлиял на формирование менталитета представителей политической элиты, предопределил состав
7 Старцев В. И. Русская буржуазия и самодержавие в 1905-1917 гг. (Борьба вокруг
«Ответственного министерства» и «Правительства доверия). - Л., 1977.
8 Аврех А. Я. Распад третьеиюньской системы. - М, 1985. - С. 252; Он же. Царизм и IV
Дума (1912-1914). -М, 1981; Он же. Он же. Царизм накануне свержения. - М, 1989.
9 Старцев В. И. Внутренняя политика Временного правительства первого состава. -Л.,
1980; Он же. Революция и власть. - М, 1978.
первого Временного правительства, характер взаимоотношений между его членами и, в целом, он объясняет многие мотивы поведения видных политиков в период Февральской революции10. Анализ поведения представителей политической элиты присутствует в оригинальной работе В.
A. Демина, посвященной политико-правовым аспектам функционирования
Государственной думы как властного и политического института".
В связи с теоретико-методологической спецификой диссертации важное значение имеют работы, использующие подходы других гуманитарных наук, особенно психологии. Следует отметить исследования Г. Л. Соболевым социальной истории и, прежде всего, сознания и психологии рабочих и солдатских масс Петрограда в 1917 г., включавших также восприятие актуальных проблем «текущего момента» и фигур видных политических деятелей12. О. Н. Знаменский в своей монографии13 воссоздал картину настроений интеллигенции, их взгляд на происходящие события, попытки участия в общественной жизни, отношение к различным политическим силам. В контексте предпринятого в диссертации изучения сознания и психологии политической элиты интересно стремление автора рассматривать не только «звездные» фигуры представителей интеллигенции, но и самый многочисленный слой интеллигенции - учителей, преподавателей, деятелей науки, литераторов, журналистов и т. д. Психологические характеристики как в целом российской военной элиты, так и конкретных представителей военных верхов, игравших заметную роль в событиях 1917 г., содержатся в монографии
B. Д. Поликарпова14. В появившихся в последнее время работах
В. П. Булдакова, Б. И. Колоницкого, В. В. Шелохаева и др. на конкретно-
историческом материале анализируются проблемы соотношения между
Старцев В. И. Русские политические масоны начала XX века: Пособие к спецкурсу. -СПб., 1996. - С. 4; Он же. Российские масоны XX века // Вопросы истории. -1989. - N 6. - С. 33-50; Он же. Русское политическое масонство в правящей элите Февральской революции 1917 года. // Россия в 1917 году: новые подходы и взгляды. Сб. научных статей. Второй выпуск. - СПб., 1994. - С. 18-23.
11 Демин В. А. Государственная дума (1906-1917). механизм функционирования. -М., 1996. '* Соболев Г. Л. Революционное сознание рабочих и солдат Петрограда в 1917 году. Период двоевластия. Л., 1973; Он же. Петроградский гарнизон в борьбе за победу Октября. - Л., 1985; Он же. Пролетарский авангард в 1917 году: революционная борьба и революционное сознание рабочих Петрограда. - СПб., 1993 и др.
u Знаменский О. Н. Интеллигенция накануне Великого Октября (февраль-октябрь 1917 г.). -Л., 1988. 14 Поликарпов В. Д. Военная контрреволюция в России. 1905-1917 гг. - М, 1990.
сознанием и психологией политической элиты и массовым сознанием, их воздействия друг на друга, делаются попытки изучения политического языка периода Февральской революции1 .
Следствием возросшего в последние годы осознания важности проблематики, касающейся «роли личности в истории», стало появление исследований, посвященных фигурам отдельных политиков (они все чаще рассматриваются под углом анализа психологии и политического сознания)16, а также содержательных справочных изданий17.
Источниковая база диссертации включает опубликованные и неопубликованные источники различных видов.
Опубликованные источники могут быть рассмотрены в рамках пяти групп.
Первая группа состоит из документов, касающихся деятельности в Петрограде представителей политической элиты во властных структурах, а так же в политических и общественных организациях. Эти источники свидетельствуют о выработке политиками «официально» провозглашавшихся идей и установок, позволяют реконструировать стиль их публичного поведения, психологический настрой. В работе использованы стенографические отчеты IV Государственной думы, протоколы заседаний Прогрессивного блока, материалы деятельности Земского и Городского союзов, Рабочей группы ЦВПК, документы, собранные в двух томах
15 Булдаков В. П. Октябрьская революция как социокультурный феномен // Россия в XX
веке: Историки мира спорят.- М, 1994.-С. 156-163; Он же. Кровавая смута. -М, 1998;
Колоницкий Б, И. Антибуржуазная пропаганда и «антибуржуйское» сознание//Анатомия
революции. 1917 год в России: массы, партии, власть. - СПб., 1994. - С. 188-202; Он же.
Язык демократии: из истории перевода на русский // Звезда. -1997. - N 11. - С. 3-7; Он же. К
изучению механизма десакрализации монархии (Слухи и «политическая порнография» в
годы Первой мировой войны) // Историк и революция. - СПб., 1999. - С. 72-86;
Шелохаев В. В. Либеральная модель переустройства России. - М., 1996; Он же. Русский
либерализм как историографическая и историософская проблема // Вопросы истории. -
1998.-N 4.-С. 26-41 и др.
16 Исторические силуэты. - М., 1991; Политическая история России в партиях и лицах. - М.,
1993; Иоффе Г. 3. Семнадцатый год: Ленин, Керенский, Корнилов. - М, 1995; Соболев Г. Л.
Александр Федорович Керенский (штрихи к портрету) // Александр Керенский: любовь и
ненависть революции: Дневники, статьи, очерки и воспоминания современников. -
Чебоксары: Издательство Чувашского университета, 1993. - С. 6-53; Колоницкий Б. Загадка
Керенского // Звезда. - 1994. - N 6. - С. 163-171; Шелохаев В. В. Николай Виссарионович
Некрасов //Вопросы истории. - 1998. -N 11-12. -С. 80-95 и др.
17 Политические деятели России 1917: Биографический словарь. -М., 1993; Политические
партии России. Конец XIX- первая треть XX века: Энциклопедия. - М., 1996.
фундаментального издания «Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 году. Протоколы и материалы», стенографические отчеты Всероссийского совещания Советов рабочих и солдатских депутатов, Первого Всероссийского Торгово-промышленного Съезда, частных совещаний членов Государственной думы, опубликованные в сборнике «Буржуазия и помещики в 1917 году» и другие источники. Для анализа психологии и настроений участвовавших в событиях Февральской революции политиков важна публикация стенографических отчетов показаний, данных ЧСК, - «Падение царского режима».
Вторую группу источников образует периодическая печать. В работе рассматриваются издания различной политической ориентации («Речь», «Современное слово», «Новое время», «Биржевые ведомости», «Русская воля», «Известия», «Рабочая газета», «Единство», «День», «Воля народа», «Дело народа», «Новая жизнь», «Правда» и др.). Кроме того, используется материалы популярных, так называемых «желтых» газет и журналов, а также сатирических изданий, ярко выражавших ориентации массового политического сознания («Петроградский листок», «Маленькая газета», «Газета-копейка», «Биржевые новости», журналы «Огонек», «Нива», «Лукоморье», «Сатир», «Бич» и др.).
Третья группа состоит из публицистических работ представителей политической элиты. Во-первых, это популярные брошюры и книги, адресованные массовому читателю (в том числе такие своеобразные просветительские издания, как «общедоступные политические словари», «толковники политических слов и политических деятелей» и т. п.). Во-вторых, «программные» публицистические работы, доклады, прочитанные на партийных мероприятиях, тексты выступлений на митингах, собраниях.
В четвертую группу опубликованных источников входят дневники, изучение которых чрезвычайно важно для реконструкции психологического облика представителей политической элиты, стиля их мышления, восприятии своего места в происходящих политических процессах и, в целом, актуальной «картины мира».
К пятой группе относится большой массив воспоминаний, анализ которых способствует выявлению специфики сознания и психологии политиков в период Февральской революции. Значительную ценность представляют воспоминания В. С. Войтинского, И. В. Гессена, А. И, Гучкова,
A. Ф. Керенского, П. Н. Милюкова, С. Д. Мстиславского, В. Д. Набокова,
B. А. Оболенского, М. В. Родзянко, В. Б. Станкевича, А. В. Тырковой-
Вильямс, И. Г. Церетели, В. В. Шульгина и др.
Среди неопубликованных источников следует выделить три группы документов.
Первая группа включает в себя материалы органов государственной власти, общественных, профессиональных и политических организаций. Важное значение имеют документы парламентской деятельности представителей политической элиты (прежде всего хранящиеся в фонде Государственной думы - РГИА, ф. 1278): журналы и стенограммы заседаний думских комиссий, дела по депутатским запросам, личные дела депутатов, распоряжения, а также обращения председателя Думы и членов Временного комитета, материалы деятельности его комиссий, доклады комиссаров, стенограммы частных заседаний членов Думы, приветствия и обращения, поступавшие в адрес Думы и ее руководителей. В связи с деятельностью органов власти использовались документы личных фондов - в частности А. С. Зарудного (РГИА, ф. 857) и А. И. Шингарева (РГИА, ф. 1090). В работе также рассматриваются документы, хранящиеся в фондах структурных подразделений революционной исполнительной власти, в том числе Петроградской городской милиции (ЦГА СПб, ф. 131) и Комиссариата Временного правительства в Петроградской губернии (ЦГА СПб, ф. 8309.). Для достижения цели и задач исследования значительную ценность представляют материалы общественных организаций: Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов и его Исполкома (ЦГА СПб, ф. 7384, оп. 9; ф. 1000, on. 74.), Петроградского общества фабрикантов и заводчиков (РГИА, ф. 159; ЦГА СПб, ф. 1127), Совета съездов представителей промышленности и торговли (РГИА, ф. 32), Центрального бюро профсоюзов (ЦГА СПб, ф. 6276, оп. I.), Религиозно-философского общества (ОР РНБ, ф. 814.). Кроме того, анализировались содержащиеся в различных фондах документы, характеризующие деятельность Военно-промышленных комитетов и Рабочей группы ЦВПК, Всероссийского земского и городского союза и Бюро Петроградского областного Комитета Всероссийского союза городов.
Во вторую группу неопубликованных источников входит обширная деловая и частная переписка представителей политической элиты, деятелей культуры. Следует отдельно отметить переписку председателя
Государственной думы и ее Временного комитета М. В. Родзянко с министрами царского и Временного правительства, с военными деятелями, российскими и зарубежными политиками, руководителями Исполкома Петросовета, представителями иностранных государств и т. д. Значительный интерес вызывают материалы переписки, в частности, М. В. Алексеева, Е. К. Брешко-Брешковской, А. А. Брусилова, 3. Н. Гиппиус, Ф. А. Головина, А. И. Гучкова, А. С. Зарудного, А. В. Карташева, А. Ф. Кони, А. И, Коновалова, Г. Е. Львова, Д. С. Мережковского, Ф. И. Родичева, Б. В. Савинкова, Н. С. Чхеидзе, С. И. Шидловского, хранящиеся в фондах РГИА, ОР РЫБ и ЦГА СПб.
Третью группу источников составляют использовавшиеся в работе неопубликованные или публиковавшиеся фрагментарно воспоминания и дневники, в частности, В. Б. Лопухина, Д. А. Лутохина, И. X. Озерова, А. Ф. Пешехоновой, Н. Ф. Финдейзена, Б. А. Энгельгардта (ОР РНБ), а также А. С. Зарудного, И. С. Клюжева, П. Н. Малянтовича, Н. Н. Суханова (РГИА).
Всего при подготовке диссертации автором использованы материалы 31 фонда РГИА, ЦГА СПб и ОР РНБ.
Научная новизна исследования. В работе предпринята нетрадиционная для отечественной историографии попытка комплексного анализа политических процессов периода Февральской революции через призму сознания и психологии их наиболее активных и влиятельных участников. Психологические составляющие революционных событий 1917 г. ранее практически не исследовались историками. Научная новизна диссертации состоит в том, что центральное место в ней занимает изучение влияния психологических факторов на характер сознания и поведения деятелей, принадлежащих к различным политическим течениям. Исследование проблем, связанных с крушением самодержавия и возникновением режима «Свободной России», осуществляется в контексте российской политической культуры, выразителем которой являлась политическая элита. Реконструкция политико-психологического облика политических и общественных деятелей, расширяя научные представления о таком феномене, как Февральская революция 1917 г., позволяет с новых позиций подойти к анализу и интерпретации богатого конкретно-исторического материала.
Практическая значимость исследования. Диссертация способна стать основой при разработке специальных курсов в вузах и подготовке семинаров
по политической истории России начала XX в. и ее материалы могут быть включены в курс по истории России XX в. для студентов. Полученные результаты работы могут использоваться представителями различных гуманитарных наук (историками, психологами, социологами, политологами, философами и др.), а также действующими политиками, их консультантами и экспертами при осмыслении актуальных общественно-политических проблем, связанных, в частности, с вопросами структурирования многопартийной системы в России, формирования слоя политической элиты, особенностями психологии современных политических деятелей.
Апробация работы. Основные положения диссертации нашли отражение в выступлениях на научных конференциях, в научных и научно-популярных публикациях.
Традиционные идейно-теоретические представления о революции и фактор мировой войны
Анализ особенностей поведения и психологии политической элиты, активно участвовавшей в Февральской революции 1917 г., невозможен без рассмотрения процесса формирования менталитета ее представителей в предреволюционный период и, особенно, в годы Первой мировой войны. Именно тогда у политиков самой различной ориентации складывались установки, которые предопределяли особенности их восприятия революции, возникало видение своего места и роли в революционных событиях, что оказало непосредственное влияние на характер их участия в революции. Появившиеся в преддверии революции мифы и стереотипы политического сознания сохранились и после Февраля, оказывая влияние на поведение политической элиты в различных ситуациях. Изучение этих особенностей сознания и психологии столичных политических деятелей в дореволюционных период способствует созданию адекватной картины их мышления во время Февральской революции и пониманию механизмов мотивации поведения.
Исследование политической элиты под таким углом зрения чрезвычайно важно в плане достижения цели и задач диссертационной работы. Оно позволяет ответить на вопрос о том, в какой мере политическая элита была психологически готова к возможности революционных событий и падению царизма, что предопределило затем достаточно легкое и массовое признание нового политического режима "Свободной России". Иными словами, можно ли говорить, что революция для столичных политиков стала по сути реальным элементом их политического сознания еще задолго до начала массовых уличных выступлений в февральские дни 1917 г.?
Представление, что революция в России, в конечном счете, неотвратима - эта своего рода апокалипсическая установка - складывалось в сознании политической элиты под воздействием различных факторов. Во-первых, оказывали влияние элементы ее исторического сознания, посредством которых опыт развития западной цивилизации она пыталась экстраполировать на российскую государственность. Во-вторых, особую роль играли конкретные обстоятельства текущей политической жизни, воспринимавшиеся как свидетельства кризиса существующего в России режима, его неспособности к модернизации. Они рассматривались, таким образом, как предпосылки возникающей в стране "революционной ситуации".
Особую идеологическую значимость вопрос о "революционной перспективе" имел для политиков, принадлежавших к лагерю "либеральной буржуазии" и исповедовавших либеральные взгляды. По мнению В. В. Шелохаева, ядром этого лагеря являлись партии кадетов, прогрессистов и октябристов, которые сближала общность либеральной политической идеологии. Впрочем, "основные функции идеологов российской буржуазии как класса в целом выполняли кадеты, выступавшие носителями "новейший" и "моднейших" теорий и концепций". Что же касается октябристов и прогрессистов, то они, "не претендуя на широкие обобщения и даже демонстрируя неприязнь к различным "теоретическим отвлечениям", уделяли особое внимание сиюминутным интересам - и их "система идей... не выходила за рамки обыденного буржуазного сознания и не носила теоретически оформленного характера"[1]. Однако если кадеты были наиболее близки к идеологии западноевропейского либерализма, то в политическом менталитете октябристов и прогрессистов оказывался более заметен консервативный элемент. В отличие от кадетов, которые свою основную опору видели в интеллигенции, политики "либерально-консервативной" ориентации делали ставку прежде всего на интересы крупной буржуазии. Но в вопросе о признании революции и кадеты, и полемизировавшие с ними "веховцы", по-разному оценивая значение событий 1905-1907 гг., исходили концептуально из общего принципа эволюционности как основы социального развития - необходимость комплексных реформ признавалась ими как гарантия от обострения социальных антагонизмов [2].
Примечательно свойственное политикам-либералам представление о революции как феномене, который не зависит непосредственно от субъективной воли людей - ее "виновников" или "героев". В этом взгляде на революцию отчасти проявилось изначально характерное для них ощущение своего собственного бессилия, неспособности активно влиять на ход событий. Наиболее колоритно эту установку политического менталитета выразил уже после Октябрьского переворота кадет А. И. Шингарев -находясь в заключении в Петропавловской крепости, он пытался осмыслить логику русской революции. Размышляя о революции, Шингарев не ограничивал ее какими-то конкретными хронологическими рамками, не пытаясь даже определить некий рубеж, который мог бы считаться ее началом: "Она (революция - И. А.) происходит и начинается вне зависимости от воли отдельных людей. Сколько раз ее пробовали делать и погибали от равнодушия окружения и преследования врагов. Она приходит как ураган и уходит чаще всего тогда, когда никто не подозревает ее близости или все верят в ее прочность. Задержать революцию - такая же мечта, как и продолжить или углубить ее. Кто задержит бурю и кто ее остановит? Многие предчувствовали ее возможность, многие предчувствовали ее появление у нас, особенно начиная с осени 1916 года; никто не волен был ее предупредить, ни даже изменить ее формы. Это не фатум и не детерминизм. Это логическое развитие событий в громадном масштабе иод влиянием громадной величины движущих сил"[3].
Либералы справедливо усматривали залог "объективного" характера революции прежде всего в историческом прошлом, которое наложило свой специфический отпечаток на характер российской государственности. Например, П. Н. Милюков образно представлял ее в качестве "колоса на длинных ногах" - внизу "темные народные массы", "безгосударственные и анархические элементы", "лишенные понимания общественности и идеалов интеллигенции", а на верху - изолированная от них элита. При этом слабость государственности связана с тем, что "пришедшая извне государственность постоянно, при Рюрике, как и при Петре Великом, как и в нашем "императорском" XIX и XX веках, - опережает внутренний, органический рост" [4]. Непрочность "верхних социальных слоев" объяснялась неразвитостью класса буржуазии - несмотря на "широкое применение революционной клички "буржуй" ко всякому, кто носит крахмальный воротничок и ходит в котелке"[5]. Нарушению этого баланса между социальными слоями способствовало и то, что столыпинская аграрная реформа, нризванная создать независимый от государства "мелко буржуазный класс", была проведена слишком поздно, да еще и не в полном объеме. "Как будто равнодушный к вопросам "свободы" и "права", Столыпин на деле этим отстаивал "личность" против поглощения ее "государством", - пояснял В. А. Маклаков. - В этом была не для всех понятная основа его политической мысли. Если бы его реформа была сделана раньше - Революция 1917 года не приняла бы такого разрушительного характера. Реформа сделала бы из массы "крестьянства" опору нового порядка, а не орудие дальнейших революционных стремлений" [6].
Начавшийся после 17 октября 1905 г. процесс стремительного развития "государственного самосознания народа" идеологи российского либерализма связывали с "дефектами" предпринятых царизмом политических реформ. Как отмечал Ф. Ф. Кокошкин, "несовершенство представительских учреждений" оказывалось в течение 11 лет "великолепной школой для русского народа". Чем более несовершенным был политический режим, "искажавший" сам институт парламентаризма, тем стремительнее происходило политическое развитие населения - "оно совершалось гораздо быстрее, чем развитие, совершавшееся при аналогичных обстоятельствах во многих других государствах". В результате этой модернизации произошла по сути десакрализация самого института самодержавной власти (которую еще ранее, во время первой русской революции, В. В. Розанов назвал "ослабнувшим фетишем")[7]. Кокошкин писал: "По мере выяснения в народном сознании идеалов государства, личный символ становился все менее и менее нужным, в конечном результате этого процесса, когда русский народ встал перед миром во весь своей рост, неожиданно для многих выяснилось, что он перешел ту стадию политического развития, когда представление о государстве для населения невозможно без личного символа" [8].
Вооруженное восстание в Петрограде и политико-психологическая адаптация представителей политической элиты
Начало уличных выступлений в -столице и, главное, их размах, оказалось полной неожиданностью как для легальной политической элиты, так и для революционеров-подпольщиков. В значительной мере это объясняется установкой, которая выработалась у тех и других в последние месяцы перед революцией, в том числе в ходе многочисленных полуконспиративных совещаний с целью обмена мнениями. Нод их влиянием у лидеров различных политических сил возникла уверенность, что никто - и прежде всего деятели социалистической ориентации - не намерены сознательно делать что-либо для организации революционных выступлений. Даже в первые дни уличных "беспорядков" сохранялась убежденность, что ведущие левые политические лидеры не причастны к ним. Как вспоминает об одном из таких совещаний О. А. Ерманский, "высказывались все, и никто не сообщал о таких настроениях, которые заставили бы ожидать скорого взрыва революции, никто не высказывал никаких таких ожиданий" [1]. Народный социалист А. С. Зарудный на вопрос "Был ли заговор?" отвечал: "Со стороны большинства революц[ионных] и социалистических] партий -нет. Революция почти для всех оказалась неожиданностью". Так же, ссылаясь на Н. Д. Соколова, он утверждал о "незначительности" влияния крайне левых и о том, что революцию были склонны предрекать прежде всего правые: "Как ни странно, но предсказания революции слышались не в революционных] кругах, а в публичных заседаниях]. Гос. Д[умы]."[2]. На "неосведомленность" политиков-социалистов о грядущих революционных выступлениях ориентировались и лидеры Прогрессивного блока. В. В. Шульгин отмечал, что не было оснований не верить "умиротворяющей" информации, исходившей, в частности, от Соколова, более того, революционный взрыв произошел помимо "организационных" усилий левых вождей: "Они - революционеры - не были готовы, но она -революция - была готова. Ибо революция только наполовину создается из революционного напора революционеров. Другая ее половина, а может быть три четверти, состоит в ощущении властью своего собственного бессилия"[3-4]. В. Б. Шкловский, близкий к социалистам-революционерам -накануне Февраля он являлся инструктором школы броневых шоферов в Петрограде, считал, что "революция была решена. Знали, что она будет, полагали, что она произойдет после войны, которая кончится поражением". И он свидетельствовал об отсутствии сколько-нибудь заметной работы революционеров: "Агитации в частях было мало, так я, по крайней мере, могу сказать про свою часть, где я проводил с солдатами все время - с пяти часов утра до вечера... Агитировать в тыловых частях было почти что некому, партийных людей в наших частях очень мало: очевидно, все большевики были на фронте, на заводах; большевистская агитация шла осторожно, скрытно"[5]. Информированные современники, тесно связанные с революционными кругами, констатировали безынициативность их лидеров, особенно заметную на фоне интуитивных ожиданий неких "событий". Характерна в этой связи общая оценка психологического состояния политической элиты, данная П. П. Сухановым: "Ни одна партия не готовилась к великому перевороту. Все мечтали, раздумывали, предчувствовали, "ощущали""[5а]. Аналогичным образом представлялось настроение в различных "кругах" Р. В. Иванову-Разумнику: "Ожидая нового, не слишком надеясь на хорошее, не предвкушая худшего, не зная еще форм и выявлений мировой катастрофы, но чувствуя ее приближение... Согласны все были только в одном: "что-то будет"... Все ждали событий - каких?"[6 .
Следует отметить, что ощущение представителями политической элиты своей "оторванности" от начинающихся "событий" по-разному влияло на стиль их поведения. Так одни - прежде всего политики-либералы -первоначально стремились не замечать уличных выступлений, пребывая в состоянии апатии, растерянности. В. Б. Лопухин отмечал, что многие представители либеральной политической элиты просто "не узнали" в происходящем революции: "Когда началось то предчувствовавшееся, неминуемое, мы сразу не поняли, что это именно то "[7]. Психологический настрой в среде кадетской партии колоритно охарактеризовал И. В. Гессен: "24 февраля мы, по обыкновению, праздновали день рождения "Речи", на этот раз в ресторане "Медведь", и празднество было больше похоже на панихиду... Не о чем было спорить и говорить, и неловко было смотреть в глаза друг к другу, поставить вопрос, что значит доносившиеся с улицы выстрелы, пытавшиеся рассеять народное скопление". На этом фоне, когда даже "шампанское не могло разогнать угрюмого настроения, развязать языки", просто каким-то абсурдом казалось выступление К. И. Чуковского, декламировавшего новую басню "Мойдодыр"[8]. 25 февраля, находясь в "Новом клубе", октябрист Б. А. Энгельгардт фиксировал мрачное духорасположение представителей буржуазной элиты: "Настроение там было подавленное, даже обычных партий в покер и бридж не составилось... в сдержанной клубной среде слышались речи, непривычные для нее. Открыто осуждалась позиция, занятая Николаем П"[9]. Активистка кадетской партии А. В. Тыркова-Вильямс, воспроизводя психологический настрой в думских кругах, свидетельствует о появлении все более апокалипсических прогнозов. Например, 25 февраля: "Уже два дня улицы Петрограда были залиты толпой. Она ничего не нредпринимала, никаких требований не провозглашала, никаких плакатов не носила. Ее никто не разгонял. Мы с мужем завтракали в ресторане Таврического Дворца, вместе с Шингаревым, Степановым, Милюковым, Родичевым и ломали себе голову, что это - революция или только преходящие уличные беспорядки, с которыми еще можно справиться? Родичев молчал. Этот мастер слова не был болтлив. Он умел слушать и прислушиваться к чужим мыслям. К нашему столику все время подбегали вестники, приносившие сбивчивые городские новости. Родичев внимательно слушал и наконец тихо сказал: "Если это революция, царю не сносить головы"[10 .
Впрочем, в Думе продолжала звучать стереотипная политическая риторика. В частности, тот же Родичев взывал: "Мы требуем призыва к ней (власти - И. А. ) людей, которым вся Россия может верить, мы требуем прежде всего изгнания оттуда людей, которых вся Россия презирает"[11]. Но существенного общественного резонанса думские выступления уже не вызывали, а сами лидеры Прогрессивного блока, не до конца уяснившие еще смысл "текущего момента", и не склонные форсировать какие-либо политические выступления Думы, высказались 25 февраля против "суеты" и переноса заседания с 28 на 27 февраля! Со стороны складывалось впечатление, что Дума оторвана от участия в начинающихся событиях. 3. Н. Гиппиус 25 февраля ядовито отмечала: "Дума "заняла революционную позицию...", как вагон трамвая ее занимает, когда поставлен поперек рельсов. Не более. У интеллигентов либерального толка вообще сейчас ни малейшей связи с движением. Не знаю, есть ли реальная и у других (сомневаюсь)..."[12]
В левых политических кругах также болезненно и с тревогой воспринимали движение, понимая свою неспособность как-то воздействовать на него. Поскольку "партийные организации были раздроблены, бессильны и не поспевали за бурно поднимающимся народным движением", то их лидеры обрекались на пассивное восприятие происходящего: "Заходили друг к другу, встречались у М. Горького, толкались в редакциях, передавали слухи один другого диковиннее, и ничего не делали. Настроение становилось все более возбужденным у одних, все более тревожным - у других"[13]. (Р. Ш. Ганелин, скрупулезно восстановивший ход событий 25 февраля 1917 г., подтвердил распространенное тогда мнение о безынициативности петроградских большевиков, стремившихся вести себя осторожно и избегавших какого-либо "вооруженного" оттенка в своих действиях)[13а]. Социалистическим лидерам не оставалось ничего иного, как констатировать с трибуны Думы факт стихийных выступлений, опережающих какие-либо действия политически организованных сил. Так, например, М. И. Скобелев сетовал, что "страна с катастрофической быстротой стремится навстречу каким-то грозным событиям.
"Свободный народ" как главный субъект "общенациональной идеологии"
Важнейшим элементом "общенациональной идеологии" - точкой отсчета при возникновении и пропаганде многочисленных политических мифов, - была установка на восприятие происходящих событий как "национальной", "всеобщей", "надклассовой" революции. Так осуществлялась своего рода "национальная легитимация" революции и возникшего в результате нее нового политического режима. Революция представлялась как акт, отвечающий интересам всего населения, направленный против царизма, неспособного организовать не только "победу" над военным противником, но и "оборону" от него и, следовательно, законным в глазах большей части общества. Кроме того, тезис о "национальной революции", получивший развитие в целом ряде "вспомогательных" мифов, облегчал внедрение в массовое сознание установки на идентификацию всего населения с единой общностью -"свободным народом". Пропаганда идеи о силе "свободного народа", которым отныне являются все "граждане" избавившейся от царизма России, была направлена на формирование и поддержание у населения психолого-политического состояния "хозяина новой жизни", чувства гордости, осознания своей причастности к происходящей "демократической" перестройке и "исторической важности" для страны переживаемого периода. В то же время мифология "свободного народа" должна была вызывать у людей чувство ответственности, позволяющее соотносить свое поведение с интересами "Свободной России", стратегически связанными с "закреплением завоеваний" и "защитой свободы от врага внутреннего и внешнего".
Определение революции как "национальной" несло в себе универсальный смысл, заменяя все иные "партийные" и "классовые" характеристики революции ("буржуазная", "революционно демократическая", "социалистическая"). Либеральный идеолог князь Е. Н. Трубецкой предложил ставшее сразу же классическим название - "народно-русская революция": "Это - революция единственная или почти единственная в своем роде. Бывали революции буржуазные, бывали и пролетарские. Но революции национальной в таком широком понимании слова, как нынешняя русская, доселе не было на свете"[75]. (Кстати, как вспоминала А. В. Тыркова-Вильямс, символичным был приход в партию кадетов после Февральского переворота таких мыслителей, как Е. Н. Трубецкой и А. В. Карташев, оказавших заметное влияние на формирование "общенациональной идеологии". Их сближало "родственное вдохновение", а пафос публичных выступлений "вносил новые ноты в нашу идеологию": "Так велико было потрясение, так невозможно было переживать все происходящее только с узко материалистической, политической меркой, что появление в нашей среде двух православных христиан было своего рода началом если не возрождения, то хотя бы пробуждения духа"[75а]). Против признания революции буржуазной или социалистической выступал Милюков: "Я готов защищать мнение, что наша революция не есть ни то, ни другое, ни третье. Она есть революция национальная, революция всенародная, т. е. объединяет в себе все классы и все общественные группы и ставит перед собой задачи, которые должен осуществить весь народ, которые только весь народ может осуществить" [76]. Керенский в первоначальном влиянии установки о "надклассовости" революции видел залог того, что Февральская Россия не сразу "потонула в хаосе": "На какой-то момент все групповые, классовые и личные интересы были отброшены в сторону, а все разногласия забыты. Как писал в те дни князь Е. Н. Трубецкой, Февральская революция стала уникальным явлением в истории, поскольку в ней приняли участие все слои общества. То был исторический момент, породивший "мою" Россию - идеальную Россию, которая заняла место России, оскверненной и загаженной Распутиным и ненавистной всем монархией"[77].
Преобладающий мотив в политической риторике о "свободном народе" - признание его "величия", "гражданской зрелости", способности и далее играть решающую роль в судьбе страны, оставаясь неизменно преданным идеалам "свободы". В. Я. Брюсовым эта идея была сформулирована следующим образом: "Народ, испытавший однажды // Дыханье священной свободы // Пойти не захочет назад..."[78]. Подобные проникнутые наивной, идеалистической верой в народ утверждения, бесконечно тиражируемые политиками в своих выступлениях и периодической печатью, должны были вызвать у "граждан" набор позитивных чувств и установок, поддерживающих общий оптимистичный настрой. Здесь, как и в других мифах, ключевую роль играли элементы "историчности". Например, Г. Е. Львов в своих высокопарных "одах" в честь "свободного народа" постоянно подчеркивал, что "сознательность", доказанная им в ходе революции, является своего рода продуктом исторического развития: "Не меня поздравляйте, господа, - говорил Львов на встрече с журналистами, - а великий русский народ; это великий русский народ совершил чудеса, честь ему и слава. Мы черпали силу из народного источника и она дала результат, ошеломивший весь мир своим величием и своим великодушием к прошлому... Великий исторический переворот уже за нами. Старые устои рухнули и мы должны приступить без всякого промедления к созидательной работе"[79]. Ссылаясь на то, что "едва ли в истории другого народа такой великий процесс, который перевернул в корне исторические основы России,., совершался, как у нас, то есть почти без жертв", М. М. Федоров делал радостный вывод: "Только зрелый народ с сознанием важности данного момента мог совершить то, что он сделал" [80]. В отдельных образцах подобной политической риторики содержались даже попытки анализа феномена превращения "обывателей" в "граждан": "Тот самый деспотизм, который так долго развращал в России одних, превращая малодушных из граждан в обывателей, он же в суровой школе масштабной борьбы с царским произволом воспитал других для свободы. Не у тысяч, а у миллионов людей впиталось в плоть и кровь отвращение ко всякому произволу и окрепла в них готовность к борьбе с нарушителями Народной Воли"[81].
В основном восторженные заверения о почтении к "свободному народу" носили ритуальный, условный характер, более того, зачастую подкреплялись ссылками на "культовый" авторитет Львова (главу Временного правительства современники воспринимали как своего рода победителя в "соревновании" по искусству политической риторики). Такой характер носят выступления М. В. Родзянко в течение марта 1917 г., практически повторявшие вслед за Львовым политические клише и стереотипы, содержавшиеся в его речах: "Я преисполнен, так же, как и князь Г. Е. Львов, твердой верой в те сокровища русского сердца[82] и в мощь русского духа... Он (то есть "свободный народ" - И. А. ) взял на себя и огромную ответственность за все свои последующие действия перед будущими нашими поколениями" [83]. Как признавал позже Керенский, даже на него производила впечатление риторика Львова, обращенная к сознательности народа и пронизанная верой в него. Представителям политической элиты она казалась необходимым средством: "Слушая Львова, я впервые осознал, что его великая сила проистекала из веры в простого человека, она напоминала веру Кутузова в простого солдата. Нам действительно не оставалось ничего другого, кроме веры в народ, терпения и отнюдь не героического понимания того, что назад у нас дороги нет..."[84] Стереотипные рассуждения о "свободном народе" были и у Керенского одной из излюбленных тем политической риторики: "Я верю в разум народа. В народных массах неисчерпаем кладезь государственной мудрости и творческой силы. Свободный народ поднимает уважение к человеческой личности и к труду на недосягаемую высоту..."[85]
Наряду с этим провозглашалась необходимость, не останавливаясь на достигнутом, и далее способствовать формированию у "граждан" нового мышления. То, что это сложная задача, невыполнимая в короткий промежуток времени, признавал даже "благодушно" настроенный Львов: "самое трудное, - это внедрить в умы новый образ мыслей, искоренить старые понятия"[86]. Считалось особенно важным создать в массовом сознании установку, что изменились функции государства и характер его взаимоотношений с "гражданами". Как разъяснял Сорокин в эсеровской газете "Воля народа", при полицейском государстве существует "господская власть и бесправный обыватель", а при правовом государстве, каковым пытались представить "Свободную Россию" - "социально-служебная власть". В результате складывается принципиально новая ситуация: "всякое должностное лицо, носитель власти - гражданин, и всякий гражданин -должностное лицо". Однако, "сознание своих прав вошло в правовую психику, а сознание связанных с ними обязанностей не проникло вовсе или проникло в недостаточной мере"[87].
Критический образ системы власти "Свободной России" в представлениях политической элиты
Наряду с "парадным", "праздничным" образом новой системы власти, содержавшимся в публичных выступлениях представителей политической элиты, в печати и в пропагандистской литературе, существовал и "теневой" взгляд на происходящее. Применительно к проблеме функционирования системы власти в первые после Февральского переворота месяцы сохранялась характерная для психологии политиков тенденция к "раздвоению" их восприятия: публично высказывавшиеся оценки и идеи, соответствуя общему стилю "общенациональной идеологии", заметно отличались от картины, возникавшей в сознании на самом деле. Вопрос о власти - об ее механизме, о конкретных представителях новой правящей элиты, принимаемых решениях и в целом о преимуществах и недостатках избранного ими стиля поведения - имел принципиальное значение. Естественно предположить, что через призму взгляда па властные отношения у политиков по сути формировался законченный образ "Свободной России" и определялся их психологический настрой, в том числе относительно перспектив дальнейшего развития страны.
И либералы, и социалисты испытывали определенное разочарование и даже неудовольствие конструкцией власти, сложившейся в результате падения царизма. Воспринимая ее в качестве объективной реальности, они, в то же время относились к ней критически, исходя из таких критериев, как легитимность в глазах населения, авторитетность, прочность и т. д. Эти оценки оказывали существенное влияние на настроение представителей политической элиты, на их повеление в различных ситуациях.
Так у либералов - октябристов и кадетов - чувство тревоги и беспокойства за последующий ход событий вызывал отказ от монархической формы правления. С учетом "царистской" традиции, которая, как они вполне обосновано полагали, играла большую роль в политической культуре, упразднение старого "символа власти" изначально ослабляло позиции Временного правительства. Например, Гучков вспоминал о своих переживаниях в мартовские дни 1917 г.: "Временное правительство осталось без какой бы то ни было санкции сверху в смысле отсутствия монархического престижа и преемственности власти и в смысле отсутствия опоры снизу, когда не было ни законодательных учреждений, ни опоры в организованном общественном мнении и настроении масс. Мы буквально повисли в воздухе: не было почвы и наверху не было исторического знамени". И Временное правительство, в отличие от монархической власти, не обладало особым "притяжением", мобилизующим вокруг себя своих сторонников: "Надо было обладать высоким разумом для того, чтобы через эту группу людей обычного склада прозревать Государство, Отечество, страну..."[302а] В наличии "привычного для масс символа власти" видел Милюков залог появления сильной власги, в противном же случае "Временное правительство одно, без монархии, оказывается "утлой ладьей", которая может потонуть в океане народных волн", просто не дожить до созыва Учредительного собрания[303]. Управляющий делами Временного правительства Набоков, внешне сохранявший оптимизм и сам пытавшийся поднимать в обществе "энтузиазм" восторженными газетными статьями, испытывал при этом сожаление по поводу возникшей системы власти. Он полагал, что принятие Михаилом престола сохранило бы "преемственность аппарата власти и его усгройства" и, сделав возможным переход к конституционной монархии, позволило бы избежать "великого потрясения всенародной психики"[304].
Политики демонстрировали растерянность, вызванную развитием событий по неожиданному для них сценарию, в условиях полного крушения самодержавия. Прежде считалось, что будет все-таки переходный период, когда монарх, обеспечивая стабильность, используя свою власть, начнет полигическое реформирование и доведет страну до Учредительного собрания[305]. К примеру, Тыркова-Вильямс вспоминала испыганный в дни Февральского переворота шок, ибо вместо государственной власти обнаружилась "пустота": "когда упала корона, многие с изумлением заметили, что она (власть - И. А.) закончилась, на ней держится центральный свод русской государственности"[306]. Кадетский идеолог Кокошкин публично обосновывал причины пессимистичности многих полигиков-либералов относительно перехода от одной системы власти к другой: "Парламентарная монархия - историческая переходная ступень от абсолютизма к последовательному и полному осуществлению народоправства. История показывает, что скачки от абсолютизма к народоправству редко бывают удачны; часто они вызывают весьма мучительные и опасные рецидивы личной власти. Парламентарная монархия была в наших глазах прежде всего такой переходной ступенью..." Теперь же процесс государственного строительства сопряжен с неопределенностью [307 .
Критические оценки новой системы власти также были связаны с отсутствием у правительства твердой юридической почвы. Позже Маклаков так обрисовал правовой вакуум, в котором пришлось действовать новой власти вследствие ошибок представителей "неопытной русской общественности"; "они его (царя - И. А.) убедили отречься и объявили трон вакантным до изъявления своей воли Учредительным собранием; Государственную думу они созывать не хотели; новое правигельство признали назначенным не государем, а созданным "волей народа". Конституция этим была полностью упразднена. Всякая связь между новой властью и старым порядком была разорвана. Это и было уже подлинной революцией, сдачей власти "революционным Советам", что прямой дорогой привело к октябрю"[308]. Впрочем, в атмосфере "мартовской России" публично подобная критика (особенно заставляющая усомниться в целесобразности отречений Николая и Михаила) не высказывалась; лишь позже, и то очень осторожно, начали звучать упреки в адрес Временного правительства.
Прежде всего они сводились к обвинению новой правящей элиты в том, что она ослабила свою позицию, особенно в правовом смысле, отмежевавшись от Думы. Например, Маклаков, выступая на частном совещании членов Думы, сокрушался; "можно горько пенять, как я пеняю, что Временное правительство не поняло в свое время, какую поддержку ему могла бы оказать Государственная дума (голоса; "правильно!", рукоплескания), можно говорить, что оно не оценило значения того, что Государегвенная дума была упразднена и заменена классовым представительством Совета рабочих и солдатских депутатов, можно упрекать тех, которые молчали..."[309] Примечательно, что правительство за его дистанцирование от Думы обвиняли прежде всего те политики, которые сами оказались не "востребованы". Так Шидловский, говоря об утрате Правительством "твердой юридической почвы", указывал: "Принятие правительством теории Керенского и Милюкова о полноте его власти было, разумеется, громадной ошибкой, так как лишало правительство единственной опоры, притом совершенно законной, для противодействия влиянию Совета, слугою которого в конце концов и стало Временное правительство" [310]. Позже, уже после создания коалиционного правительства, генерал М. В. Алексеев в частном письме вице-адмиралу А. И. Русину в весьма резких выражениях выступал в качестве защитника Думы против "беззаконий" Временного правительства: "Строй этот объявлен с нарушением воли человеческих законов, с нарушение обязательств, принятых Временным правительством... Разгон Думы - нарушением прав народа. Игра на дурных инстинктах массы путем несправедливого решения земельного вопроса - преступление"[311].
Следствием этого стало явление, названное уже в первые дни "двоевластием". Сначала политики, в целом, стремились поддерживать иллюзию, что "вся полнота власти" принадлежит правительству. А. С. Изгоев объявлял ошибкой то, что двоевластие "считалось домашней тайной и несчастьем, которые надо скрывать, хотя бы для видимости, от всех непосвященных" [312]. Однако, на практике для представителей политической элиты было очевидно стремление Совета оказывать "давление", "контролировать", "подталкивать". (И действительно, как отмечал Суханов - советский идеолог соглашения с "цензовиками" о создании новой системы власти - задачей было "поставить цензовую власть в такие условия, в которых она была бы ручной"[313]). На политиков, не принадлежащих к лагерю "революционной демократии", психологически тяжелое впечатление производили публичные действия Совета, враждебные Временному правительству.