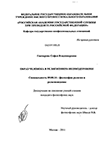Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Конституирование человека 24
1.1. Радикализация образа человека в философской антропологии подходы к проблеме (Г. Андерс, А. Гелен, С. Вейль) 24
1.2. Понятие экстремальной трансгрессии в авангарде 1 и в авангарде 2: Б.А. Пильняк, Г.В. Иванов, А.П. Платонов, Б.Ю. Поплавский 55
1.3. Время и пространство человека у М. Хайдеггера и А.П. Платонова 82
1.4. Фикциональное и экзистенциальное в антропологии: В.Я. Пропп, Э. Юнгер,К. Шмитт 108
Глава 2. Человек как зрелище 126
2.1. Смех и зрелище в исторической антропологии X. Плесснера и М.М. Бахтина 126
2.2. Запрос на игру: Homo ludens 1930-40-х гг. как предвосхищение общества развлечений 1960-х гг 179
2.3. Зоософия и театральность в антропологических теориях Н.Н. Евреинова, X. Плесснера и Р. Кайуа 195
2.4. Интермедиальная антропология И.И. Иоффе 213
Глава 3. Антропология сакрального 240
3.1. Ресакрализация мира в 1930-40-х гг. (М.М. Бахтин и Коллеж Социологии) 240
3.2. Мистическая антропология «второго авангарда» (Обэриу и французский (пара)сюрреализм) 271
3.3. Диалектика дара и жертвы в техномагическом тексте (На примере двух фильмов А.И. Медведкина) 306
3.4. Мистическая антропология в немом и звуковом фильме («Энтузиазм» Дзиги Вертова vs. «экстаз» СМ. Эйзенштейна) 325
Глава 4. Историко-антропологические идеи мыслительниц середины 1920-50-х гг 348
4.1. Негативный феминизм Симоны де Бовуар 348
4.2. Тотальность vs. парциальность: С. Вейль, X. Арендт, Э. Штайн 356
4.3. Блокада человека у Л.Я. Гинзбург и О.М. Фрейденберг 388
Заключение 395
Библиография 401
Иллюстрации 445
- Радикализация образа человека в философской антропологии подходы к проблеме (Г. Андерс, А. Гелен, С. Вейль)
- Смех и зрелище в исторической антропологии X. Плесснера и М.М. Бахтина
- Ресакрализация мира в 1930-40-х гг. (М.М. Бахтин и Коллеж Социологии)
- Негативный феминизм Симоны де Бовуар
Введение к работе
Актуальность исследования. В последнее время стал очевидным поворот гуманитарного мышления к философской антропологии. Это связано с постепенным отказом от постмодернистской парадигмы, строившейся во многом на идее «смерти человека». Современная антропология стремится не просто «оживить» свой объект и зарезервировать для себя определенные позиции в научном пространстве, но и захватить место фундаментальной философской дисциплины, стать синонимом «истинной» философии1. Наблюдается проникновение антропологии в смежные дисциплины, так что любая гуманитарная наука наших дней считает должным продемонстрировать свои «антропологические основания»: появляются «литературная», «культурная», «политическая», «религиозная», «феноменологическая», «диалектическая», «социальная» и прочие антропологии. Использование человековедения как базиса для других наук следовало бы признать парадоксальным, если учесть тот факт, что до сих пор понятие «человек» не имеет инвариантного для всех дисциплин содержания и, подобно хамелеону, меняет свою семантическую окраску в зависимости от ракурса рассмотрения.
Антропология пролиферирует в различных областях гуманитарного знания, и этот процесс требует выяснения традиции, которая лежит в его основе. Само слово «антропология», судя по всему, вошло в употребление лишь в XVI веке . Однако проблема человека ставилась уже гораздо раньше. Любая теология, решая вопрос о Боге, не могла обойти вопрос о человеке. Мистика требовала выявления места человека по отношению к трансцендентному в обязательном порядке, пусть даже не становясь при этом антропологией. Но если в теологии человек рассматривался как бесконечно малая креатура Бога, то в антропологии образ человека выдвигается в центр картины мира. От «теологического» подхода учение о человеке унаследовало многое: в частности, разделение на «апофатическую» и «катафатическую» традиции. «Апофатическая» ан-
1 О началах этого процесса см.: Marquard 1982, 122-144.
2 Об истории понятия «антропология» см.: Marquard 1982, 122-123.
5 тропология стала основой для формирования «радикального» образа человека,
о котором и пойдет речь в данной диссертации. В дальнейшем я буду исходить из того, что именно радикализация антропологии - ее обращение к предельным формам человеческой трансгрессивности - послужила предпосылкой современной «антропологизации» гуманитарных наук. Трансгрессивность была свойственна человеку всегда и служила своего рода дифференциальным признаком рода homo. Во все времена человек тяготел к тому, чтобы покинуть рамки повседневности и ощутить свое другое. Однако именно с середины 1920-х и вплоть до 50-х гг. трансгрессивность осмысляется как экстремальная и вопрос о человеке ставится с особой остротой.
Антропология середины 1920-х- конца 1950-х гг. зиждется на таком представлении о человеке, согласно которому он не может быть определен как некая себе тождественная величина. Человек этой эпохи обнаруживает себя там, где его нет, узнает себя в том, кем он не является: ему свойственна предельная трансгрессивность, которая может принимать как созидательные, так и деструктивные формы. Подобное понимание человека как существа, стремящегося к крайностям, перешагивающего самые разные границы, будем назвать «радикальным»3.
Актуальность предлагаемого исследования определяется, в первую очередь, отсутствием в современной отечественной науке специальных работ, посвященных самому интенсивному периоду в истории философской антропологии - середины 1920-х - конца 1950-х гг. Не эксплицировано особое значение этого периода для развития философии и культуры, не найдены точные термины для определения процессов, происходивших в антропологическом дискурсе этой эпохи. Между тем, в современной научной ситуации растет необходимость оценить по-новому опыт антропологии тех лет, чтобы наметить путь к формированию такого взгляда на человека, который отвечал бы нашей современности. Основная проблема данного исследования заключается в том, чтобы
3 О радикальном человеке см.: Смирнов 2000, 329. И.П. Смирнов подчеркивает, что «радикал» может быть не только разрушителен, но и созидателен — «на реставрационный лад (пытаясь восстановить то, чего уже нет) или революционным образом (стремясь к тому, чего еще нет)» (Там же).
6 проанализировать феномен радикализации антропологических идей в тот период европейской истории, когда тоталитаризм стал господствующим в государственной политике и во многом, хотя и не полностью, обусловил культурные практики. Подобный анализ призван показать вариантное развертывание радикального образа человека в истории мысли. Теоретико-методологические трудности, возникающие из-за недостаточной определенности понятий «радикальность», «тоталитаризм», «трансгрессивность», «экстремальность», «негативность», «невозможное» и т.п. указывают на необходимость пересмотреть эти термины в их отношении к философско-антропологической парадигме середины 20-х - конца 50-х гг. XX в.
Радикальное понимание человеческой природы и попытки разного рода экспериментов над человеком, вплоть до его отрицания, - общая тенденция европейской культуры, начиная с середины 20-х и вплоть до конца 50-х гг. XX в. Русская революция принесла с собой множество авангардистских проектов по конструированию нового человека. К парадигме 1910-20-х гг. относится утопия биологически небывалого существа: именно тогда разрабатывались разнообразные модели, служившие улучшению человеческой природы4. Если с конца 1910-х гг. до середины 1920-х гг. общество стремится разными путями создать искусственного человека, «гомункулуса», то со второй половины 1920-х вплоть до 1940-х гг. планы по изменению человека принимают новое содержание и новую форму: возникают разные модели, радикально преодолевающие утопический оптимизм революционной эпохи. Рассматриваемая тенденция в развитии философской антропологии продолжалась и в 1950-е гг., когда возник, так сказать, новый виток экзистенциалистской мысли.
Хотя антропология середины 1920-х - конца 1950-х гг. в целом представляла свой объект как некую негативную величину, это отношение к человеку менялось с течением времени. Для антропологии середины 1920-х- 1930-х гг.
4 О переделке человека писали Лев Троцкий, Алексей Гастев, Николай Кольцов (Троцкий Л. Литература и революция. - М., 1923; Гастев А.К. Как надо работать. Как изобретать. - М., 1922; Кольцов Н.К. Омоложение организма по методу Штейнаха. - Пб., 1922), русские космисты (Муравьев В.Н. Овладение временем как основная задача организации труда. М., 1924; Циолковский К. Монизм вселенной. Конспект. Калуга, 1925) и многие другие деятели науки, политики и искусства.
7 характерно «утверждающее отрицание», ясно эксплицируемое, к примеру, в
антропологических учениях Г. Андерса, X. Плесснера, А. Камю. Если в 1920-30-е гг. негативность мыслилась конструктивно, и «ничто» рассматривалось как ресурс для трансформации мира, то после второй мировой войны возникает осторожность в обращении с негативным образом человека. Антропология 1940-1950-х гг. оборачивается апотропеической магией, нацеленной на то, чтобы предотвратить некую угрозу. В «Играх и людях» Р. Кайуа утверждает, что определенные типы игр - mimicry и ilinx («маска и одержимость») - несут в себе столь сильную угрозу для человеческого существования, что их необходимо держать под контролем. В работах А. Гелена 1950-х гг. социальные институты выполняют функцию «оберега», предостерегающего от опасности, которую несет в себе субъективность, и служащего для стабилизации субъекта во «внешнем мире». В противоположность немецкому мыслителю Ж. Батай рассуждает об опасности, которая исходит от объективно данной власти, угрожающей отменить субъектную суверенность, причем роль апотропея играет в данном случае искусство: суверенность в современности оказывается достижимой почти исключительно в художественном творчестве. Часто философский апотропей обладает амбивалентностью фармакона: его предохраняющее действие сочетается со смертельным риском. В послевоенной философии М. Хайдеггера человек, раскрывающий «потаенное» при помощи техники, подвергается крайней опасности; при этом, чем сильнее он рискует, тем ярче высвечивается возможность спасения, которую следует искать в самой же технике.
Во многих философско-антропологических текстах, начиная с конца 1940-х гг., чувствуется неуверенность человека в себе самом, основанная на страхе перед собственной деструктивностью. Этот страх не спадает с течением времени и сохраняется вплоть до наших дней, когда в политической сфере человеческую деятельность оценивают как загрязнение окружающей среды или как (потенциальный) террористический акт. Возможно, именно тот факт, что сам человек воспринимает себя как угрозу, обусловливает актуальность его исследо-
8 вания и, как следствие, просачивание современной антропологии за пределы
отдельной дисциплины.
Степень разработанности темы. Современная философская парадигма реанимирует человековедение на новый лад, не только заново «открывая» человека, но и обнаруживая антропологические горизонты в самых разных дисциплинах. Подобные подходы намечаются в работах западных ученых Дж. Агамбена, П. Слотердайка, X. Летена, А. Кульмана, О. Маркварда, Г. Бёме5. В России «расширение» антропологии и ее сферы влияния заметно в исследованиях В. Д. Губина, А. А. Королькова, Б. В. Маркова, В. А. Подороги, В. В. Савчука, И. П. Смирнова, С. А. Смирнова, А. В. Чечулина и дрб.
Однако истоки этой антропологической экспансии отрефлексированы пока недостаточно.
Существуют разные точки зрения на то, когда именно зародилась «философская антропология». Б. Грейтхойзен отсчитывает ее от Платона, О. Мар-квард возводит современное понимание человека к Канту, Ф. Дехер и Й. Хен-нингфельд полагают, что «антропологический поворот» совершился в XIX в., когда появились учения о человеке И.-Г. Фихте, Л. Фейербаха, К. Маркса, С. Кьеркегора, Ф. Ницше (Decher / Henningfeld 1992). М. Бубер подчеркивает, что антропологическая проблема была признана и стала предметом обсуждения как самостоятельная философская проблема лишь в XX в. (Бубер 1995, 192).
Большинство историков сходится на том, что «философская антропология» в виде университетской дисциплины возникла в Германии 1910-20-х гг. и что этот этап связан с именами М. Шелера, П. Альсберга, X. Плесснера7. «Антропологический поворот» XX в. был во многом реактивным: с одной стороны, это была реакция на кризис метафизики, на «смерть Бога», а с другой стороны, он явился откликом на кризис человека, потерявшего контроль над собственными творениями и глубоко осознавшего во время и после Мировой войны
5 Agamben 2002; Sloterdijk 1983; Lethen 1994; Kuhlmann 1991; Marquard 2004; Bohme 1985; Bohme
2003.
6 Подорога 2006; Губин 2001; Губин 2000; Смирнов С.А. 2004; Чечулин 2005; Марков 1997.
7 См. об этом: Landmann 1979; Schopf 1978/79.
9 собственную «силу-бессилие», используя выражение М. Бубера (Бубер 1995,
193).
Образ человека радикализовался не только в философской антропологии, но и в эстетике, политологии, социологии, этнологии, а также в литературе и в изобразительных искусствах рассматриваемого времени. Если в Германии антропология расцвела как философский жанр, то во Франции преобладали пограничные формы философствования о человеке, представленные текстами французских «радикальных» мыслителей середины 20-х - конца 50-х гг. XX в. Ж. Батая, Р. Кайуа, М. Лейриса, М. Бланшо, которые комбинировали в своих сочинениях философию, эстетику, политику, экономику, биологию, этнологию и социологию . Что касается Советской России, то там антропологические идеи развивались преимущественно не в философском дискурсе, а в эстетической теории, литературе, кино и архитектуре.
Существует обширная научная литература о человеке 1920-х гг. (И. Бохов, О. Булгакова, Г. Кюнцлен, Э. Найман, Р. Стайте, М. Хагемайстер и др.)9, однако вопрос о человеке 1930-50-х гг. до сих пор не был рассмотрен в достаточно полном объеме. В упомянутой выше монографии И. П. Смирнова антропология 1930-х гг. проанализирована слишком бегло, в рамках общего обзора человековедения, который нацелен на то, чтобы показать, какие предпосылки формировали постмодернистскую идею «смерти человека». В других случаях к интересным результатам приходят исследователи, обсуждающие антропологические идеи 1930-х гг. в работах, посвященных иным проблемам (X. Гюнтер, К. Кларк, В. А. Подорога, М. К. Рыклин, В. В. Савчук, М. Б. Ямпольский). Учения о человеке первой половины XX в. являются предметом монографии А. В. Чечулина «Негативная антропология», однако ученый концентрирует свое внима-
8 Стоит подчеркнуть, что исследователи слишком мало занимались (со)противопоставлением немец
коязычного и франкофонного дискурсов о человеке этого периода. Одно из немногих исключений в
этой области — сопоставление Беньямина и Батая, проделанное в следующих работах: Weingrad 2001;
Horisch 1986.
9 Naiman 1997; Stites 1989; Kuenzlen 1994; Groys 2005; Bochow 1997; Булгакова 2005.
10 ниє на немецкой антропологической традиции10, оставляя за скобками французскую радикальную философию.
В последние годы в отечественной науке начали появляться исследования, посвященные отдельным западноевропейским мыслителям 1920-50-х гг". В западной Европе таких работ гораздо больше, перечислю лишь некоторых авторов: Х.-П. Крюгер, М. Макропулос, Б. Маттеус, М. Сюриа, Р. Сафрански, О. Фельжин, Й. Фишер12. Предпринимались попытки сравнительного анализа избранных учений о человеке, однако эти работы ограничивались сопоставлением 2-3-х философов, как правило, из Западной Европы. Результаты такого рода исследований содержатся в книгах М. Азиана, Р. Крамме, Т. Корты, Э.В. Орта, К.-З. Реберга, К. Тиза, М. Штальхута13.
Но реконструкция антропологических идей, вырабатываемых в науках о культурной практике и в эстетической деятельности, не обрела к сегодняшнему дню влиятельности и распространенности. В определенном смысле, выбранный в диссертации подход должен продолжить работу по изучению радикальной антропологии в немецкой культуре 1920—40-х гг., проделанную X. Летеном в книге «Поведенческие доктрины холода». В своей работе ученый сопоставил формы проявления «холодной личины», обнаруженные им и в философии (X. Плесснер, К. Шмитт, В. Беньямин, Э. Юнгер) и в литературе (Б. Брехт, В. Зер-нер, А. Броннен). Однако Летен ограничил свой материал немецкой культурой, взятой к тому же выборочно, в данном же диссертационном исследовании внимание сконцентрировано на сравнительном изучении континентальных европейских культур в их дискурсивном и медиальном разнообразии.
Как в зарубежной, так и в отечественной науке пока отсутствует общее компаративистское исследование европейского человековедения в эпоху тоталитаризма и позднего авангарда, но есть ряд сравнительно-аналитических работ, которые обсуждают определенные параллели между западноевропейскими
10 Обоснование этого подхода см.: Чечулин 1999, 29.
11 Фокин 1998; Матутите 2001; Логинов 2001; Трубачев 2006; Герасимова 2000; Михайловский 2001.
12 Felgine 1994; Fischer 2000; Kruger 2000; Makropoulos 1989; Mattheus 1984-1995; Safranski 1994; Surya
2002.
13 Stahlhut 2005; Rehberg 1994; Orth 1990/91; Thies 1997; Korta2001; Asiain 2006; Kramme 1989.
11 мыслителями и русскими писателями и учеными антропологического толка.
Сопоставление Ж. Батая и А. П. Платонова предпринимали Т. Зейфрид и С. Н.
Зенкин14; сравнительный анализ работ Д. Лукача и М. М. Бахтина проводил Г.
Тиханов (Tihanov 2000).
Существует обширная литература о философии, политике и антропологии западноевропейских мыслительниц первой половины XX в.: здесь следует назвать, прежде всего, книги Р. Виммера, А. Най, С. Куртен-Денами15. Однако в этих научных трудах не выявляется тендерная специфика мышления данной эпохи в Европе в целом, включая Советскую Россию, к тому же «женский» философский дискурс рассматривается в них безотносительно к «мужской» философии.
Как бы то ни было, эти, и многие другие, не упомянутые работы, создают научную базу для дальнейших исследований, формируют предпосылки для воссоздания антропологической парадигмы середины 1920-х - конца 1950-х гг. XX в.
Важно подчеркнуть, что понятие «радикальной антропологии» фактически отсутствует в современной истории философии. В качестве феномена, близкого по содержанию, можно встретить термин «негативная антропология», который употребляется с разными оттенками значения в разных философских традициях. Русский философ Б. П. Вышеславцев писал, ссылаясь на Григория Нисского, что если существует негативная теология, «указывающая на последнюю тайну Божества», то должна существовать и «негативная антропология, указующая на тайну самого человека» (Вышеславцев 1955, 246). В немецкой традиции понятие «негативная антропология» впервые появляется, по-видимому, у М. Шелера, и означает нечто иное - попытку определить человека как недостаточное существо. Сам Шелер относился к «негативным теориям человека» крайне критически: развитие этих теорий было делом следующего поколения. Тот подход, который критиковал Шелер, оказался вполне приемлемым в конце
14 Зенкин 1999; Зейфрид 1998; Seifrid 1992.
15 См., например: Wimmer 1990; Nye 1994; Courtine-Denamy 2000.
20-х - 40-х гг. XX в. для М. Хайдеггера, Г. Андерса, А. Гелена, Ж.-П. Сартра и др.
Вопрос о негативной антропологии был заново поднят в конце 1950-х -начале 1960-х гг., что было связано с постепенным формированием постмодернизма, основывающего свои построения на представлениях о «конце субъекта» и «конце человека». В работах Франкфуртской школы (Т. Адорно, Г. Маркузе, У. Зоннеманн ) антропология определялась как наука без предмета . Как писал Т. Адорно, слово «человек» можно рассматривать лишь как составную часть «демагогического жаргона». Причины этой ситуации философ видел в предыстории человековедения, когда были определены не столько качества человека, сколько его деформации. Сходным образом рассуждал Г. Маркузе, заявивший в «Одномерном человеке», что в современности человек может осуществиться лишь как «большой отказ». Как бы подытоживая эту тему, У. Зоннеманн выпустил в 1969 г. книгу под названием «Негативная антропология», где раскритиковал понятие «позитивной антропологии», - он указал на то, что существует «различие между притязаниями позитивных антропологических тотальных теорий и их эмпирическим обоснованием: наука, которая не обеспечивает определяющие характеристики своему предмету, а напротив - как явление - сама делается понятной из его заданной прозрачности, остается неизбежно несоизмеримой ему» (Sonnemann 1969, 137). Согласно Зоннеманну, любая антропология негативна. Задача этого философа состояла в том, чтобы возвеличить «спонтанность» революционного действия и развенчать «метафизику» человековедения. Антропология, по Зоннеманну, не только не может стать фундаментом философских наук, как считали в первой половине XX в., но и, более того, оказывается своего рода паразитарной дисциплиной, понимаемой лишь с помощью своего объекта.
В отличие от Зоннеманна, обнаружившего негативность антропологического дискурса уже у Аристотеля, я придерживаюсь той точки зрения, что «не-
16 См., в частности: Adorno 1966; Marcuse 1964; Sonnemann 1969.
17 Представитель англо-саксонской философской традиции Х.П. Рикман также проблематизирует
возможность существования философской антропологии: Rickman 1985.
13 гативная антропология» в ее радикальном изводе возникает во второй поло-
вине 20-х гг. XX в. Зоннеманн критикует антропологию, чтобы оправдать политические действия современного ему человека (его спонтанно-революционный порыв), между тем в предлагаемом диссертационном исследовании ставится задача понять историческое развитие антропологических идей.
Объектом исследования в диссертационном исследовании является философская антропология в ее историческом и социокультурном развитии.
Предмет анализа - радикальный образ человека в антропологии и смежных ей дискурсах и медиа с середины 20-х и вплоть до 50-х гг. XX в.
Цель данного исследования состоит в реконструировании антропологической парадигмы середины 20-х - конца 50-х гг. XX в. На основе принятого в диссертации междисциплинарного подхода к предмету, определяются принципы «радикальной» концептуализации человека как в философской антропологии, так и в эстетической теории, литературе и кинематографе. На этом исследовательском пути выявляются вариативность и инвариантность в развитии антропологических идей в Советской России, Германии и Франции.
Для достижения поставленной в работе цели требуется решение следующих задач:
определить понятие «радикальной антропологии» и охарактеризовать его место в эволюции философских идей; установить хронологические рамки «негативной антропологии» и определить объем этого понятия;
реконструировать общеевропейскую антропологическую парадигму середины 20-х - конца 50-х гг. XX в. и ее индивидуальную, а также ареальную вариативность;
выявить связи негативной антропологии с негативной теологией и с мистической антропологией; охарактеризовать место «сакрального» в человековедении;
18 Именно такую периодизацию вырабатывает И. П. Смирнов: Смирнов 1999, 42. Как показывает Смирнов, на дефицитарность человека указывали многие до прихода тоталитаризма: к примеру, Гер-дер и Ницше. Однако у обоих дефицитарность мотивировала историческое становление человека, его усилия превозмочь себя, тогда как в антропологии, допустим, А. Гелена чем сильнее люди отрицают удовлетворение жизненно-практических интересов, тем более они совершенны.
ввести понятие «экстремальной трансгрессии» для анализа радикального образа человека в философии и в художественной литературе рассматриваемого периода;
установить, что происходит с границами, отделяющими человека от растения, человека от животного, человека от Бога в различных изводах радикальной антропологии этого времени;
наметить пути к анализу антропологизации в искусстве середины 20-х — конца 50-х гг. XX в.;
исследовать функцию «зрелища» в формировании радикального образа человека и ввести понятие «интермедиальной» антропологии;
определить специфику нарративизации философской антропологии в рассматриваемую эпоху и охарактеризовать тенденции историзовать антропологический дискурс;
изучить тендерную специфику антропологического дискурса женщин-философов середины 20-х - конца 50-х гг. XX в.
Методы исследования имеют междисциплинарную ориентированность и базируются на сравнительно-историческом подходе к материалу. Работа развивает те принципы, которые уже были заложены учеными, занимавшимися сравнительным анализом философских текстов. С одной стороны, используются концепции русскоязычных исследователей В. Д. Губина, В. А. Подороги, В. В. Савчука, И. П. Смирнова, А. В. Чечулина, М. Б. Ямпольского. С другой стороны, теоретическую основу диссертации составляют труды таких современных западных ученых, как Д. Агамбен, X. Летен, П. Слотердайк. Учитываются критико-антропологические подходы Т. Адорно, Г. Маркузе, У. Зоннеманна. Хотя «радикальные» антропологические подходы западноевропейских мыслителей середины 20-х - конца 50-х гг. XX в. служат предметом исследования, я сочла необходимым использовать некоторые из определений, данных в их сочинениях, для аналитической реконструкции антропологической парадигмы того времени. Среди «радикальных» философов, чья терминология частично используется в диссертационном исследовании в качестве метаязыка, следует на-
15 звать Ж. Батая, Р. Кайуа, А. Кожева, А. Гелена, X. Плесснера, К. Ясперса, М.
Хайдеггера, Г. Андерса, В. Беньямина, С Вейль, X. Арендт, Э. Штайн.
Особенно ясно радикальные изменения образа человека проступают в философии: в этом смысле она является привилегированным предметом исследования. Однако философский дискурс не может существовать изолированно — он отражает культуру в целом. Кроме того, антропологическая проблематика может привлекать к себе внимание и прочих дискурсивно-медиальных практик. Вот почему междисциплинарный подход выступает в данном случае в качестве наиболее адекватного.
Ввиду того, что после революции возможность свободного философского творчества подверглась в СССР резкому ограничению, антропологические идеи получали здесь развитие по преимуществу в эстетике, литературе, кинематографе и в некоторых архитектурных утопиях. В данном исследовании предпринята реконструкция радикально-антропологических концепций, содержащихся в эстетических теориях М. М. Бахтина, С. М. Эйзенштейна, И. И. Иоффе, О. М. Фрейденберг, в романах и рассказах А. П. Платонова, в творчестве Д. Хармса, в кинематографе Дзиги Вертова и А. И. Медведкина.
Но полидискурсивное и полимедиальное просачивание философской антропологии за свои пределы - это не проблема какой-то одной этнической культуры. Размывание границ философии в рассматриваемый период было характерно для всей Европы. Интернациональность этого и иных процессов в области мышления о человеке обусловливает обращение к материалу разных стран. В центре внимания оказываются схождения и расхождения мыслителей, которые не обязательно предполагают влияние одного автора на другого или их взаимоотталкивание, но требуют допущения определенного историко-типологического сходства между ними (Бахтин и Плесснер, Платонов и Хай-деггер и т. д.). Только после выявления этой общности и можно поставить вопрос о социально-ареальной специфике тех или иных антропологических идей.
Метод данного диссертационного исследования следовало бы охарактеризовать как компаративистский, притом выявляющий в объектах в большей сте-
16 пени сходства, нежели различия. Отдавая себе отчет в том, что в континентальной Европе одновременно существовали разные государственные режимы, я не ставлю себе задачу их изучения. Мне важно понять, в чем состоит сравнимость М. М. Бахтина, А. Гелена, X. Плесснера, Г. Андерса и других авторов этой эпохи, чтобы создать возможность исследования разных вариантов парадигмы, к которой они принадлежали.
При первом взгляде на 30-50-е гг. XX в. кажется, что проблема тоталитаризма здесь главная, но при этом забывается, что у философии есть своя политика, далеко не всегда совпадающая с партийной и государственной. Существует политический мэйнстрим эпохи, который не может быть полноценно философичен, потому что он преследует прагматические цели. Существует также философский контекст мэйнстрима, который иногда легитимирует политику, но чаще всего решает свои собственные задачи. Я занимаюсь той философией человека, которая не вырождалась в апологию расы или класса, а имела самоценное содержание, хотя и была связана с главными тенденциями своей эпохи. При этом я не решаю проблему различий между итальянским фашизмом, немецким нацизмом или русским коммунизмом, также как здесь отсутствует и (со)противопоставление Дж. Джентиле, советских марксистов и А. Розенберга. Оправдание vs. обличение политических режимов не является задачей данной работы, в центре которой - философская антропология и история антропологических идей.
Таким образом, материал исследования включает в себя как западноевропейские философско-антропологические работы с середины 20-х по конец 50-х гг. XX в. («Рабочий» Э. Юнгера, «Человек и сакральное» Р. Кайуа, «Ступени органического и человек» X. Плесснера, «Человек» А. Гелена, «Теория религии» Ж. Батая и др.), так и русскоязычные имплицитно философические тексты, в которых выражалось представление о человеке. Поскольку радикально-антропологическое мышление в сталинистской культуре проявлялось не столько в рамках философского дискурса, сколько в других дискурсивных (а также медиальных) формах, радикально-антропологические идеи в этом случае
17 реконструируются на примере текстов М. М. Бахтина («Автор и герой в эстетической деятельности», «Проблемы поэтики Достоевского», «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессана»), О. М. Фрей-денберг («Поэтика сюжета и жанра»), С. М. Эйзенштейна («Неравнодушная природа»), А. П. Платонова («Котлован», «Чевенгур», «Счастливая Москва»). Радикальный образ человека изучается также на примере фильмов Дзиги Вертова («Одиннадцатый», «Энтузиазм»), С. М. Эйзенштейна («Генеральная линия», «Иван Грозный»), А.И. Медведкина («Счастье», «Чудесница»).
О том, как развивалась философская антропология в качестве университетской дисциплины существует достаточно много работ. Подробный анализ отдельных «классиков» философско-антропологической мысли содержится в ряде отечественных и зарубежных трудов. Новизна предлагаемой диссертации состоит в том, что в ней исследуются своего рода не-классические учения о человеке: так, оставлена в стороне проблематика школ в немецкой философской антропологии, но зато в материал включены произведения литературы и кинематографа середины 20-х - 50-х гг., выстраивающие радикальную концепцию человека. Сопоставление философии с другими дискурсами и медиа продиктовано задачами диссертации и обусловлено внутренней логикой исследования.
Хронологические рамки привлекаемого материала - с середины 20-х по конец 50-х гг. XX в. - заданы исторической спецификой этой эпохи, когда «радикализация» антропологических идей достигла высшей точки. Антропология исследуется в диссертации как исторически подвижный комплекс представлений о человеке. То, как меняются представления человека о самом себе, и составляет, в сущности, динамику культуры. Эта динамика прослеживается на примере перехода от раннеавангардистской культуры к культуре середины 20-х - конца 50-х гг. XX в., которая, в свою очередь, распадается на субкультуры тоталитаризма и позднего авангарда. В диссертации используется стадиальный подход к истории философии: если брать «синхронный» срез антропологических идей рассматриваемой эпохи, то в один ряд придется ставить представителей разных диахронических систем. Между тем, кажется недопустимым сопос-
18 тавлять, к примеру, X. Плесснера с П. А. Флоренским или Н. А. Бердяевым
только потому, что они написали что-либо в одном и том же году: если Флоренский и Бердяев принадлежат парадигме 10-х гг., то Плесснер - «человек тридцатых», и именно мыслители этой последней формации служат объектом исследования.
Необходимо различать между авторами одного поколения, начинающими новую парадигму, и их, так сказать, мнимыми современниками, продолжающими рассуждать в духе предыдущей эпохи. Радикализация образа человека начинается во второй половине 1920-х гг., когда происходит сдвиг в т.н. постсимволистской парадигме. В результате этого сдвига происходят изменения в континентальном культурном пространстве Европы: с одной стороны, возникает «вторая волна» авангарда, а с другой, - зарождаются тоталитарные эстетика и философия. Названный процесс продолжается с некоторыми вариациями вплоть до конца 1950-х гг., сменяясь постмодернистской парадигмой в 1960-е гг.
В качестве аппарата для анализа диахронических аспектов радикальной антропологии мной выбрана концепция постсимволизма, разработанная И. П.Смирновым и др. В соответствии с этой концепцией, я рассматриваю постсимволизм как отдельный мегапериод, внутри которого дифференцируются, в частности, такие подсистемы, как ранний авангард, поздний авангард и тоталитарная социокультура (в том числе и художественная). Ранний и поздний авангард условно именуются в диссертационном исследовании, соответственно, авангардом 1 (1910 - 1920-е гг.) и авангардом 2 (с середины 1920-х по конец 1950-х гг.). Ранее понятие постсимволизма применялось в основном к художественной прозе и к поэзии, но в данной работе ставится задача распространить его на все культурное пространство, включая дискурс философской антропологии19. В исследовании утверждается, что во второй половине 1920-х гг. произошел сдвиг в постсимволистской парадигме, в результате чего возникла
19 Последние дискуссии на тему о границах постсимволизма см. в сборнике: Постсимволизм как явление культуры. Вып. 4. Материалы международной научной конференции. Москва, 5-7 марта 2003 г. / Отв. ред. И.А.Есаулов. - М., 2003.
19 «вторая волна» авангарда, с одной стороны, а с другой — зародились тоталитарные эстетика и философия. Так как именно во второй половине 1920-х гг. начинается радикализация образа человека, это время принято за точку отсчета для предпринятых анализов.
Научная новизна исследования состоит в следующем:
философская антропология рассматривается здесь не отдельно, а в контексте других дискурсов и медиальных средств;
впервые сравниваются между собой антропологические теории, получившие распространение в России, Германии и Франции середины 20-х - конца 50-х гг. XX в.;
выявляется антропологическая составляющая в произведениях авторов, не называвших себя антропологами, но тем не менее занимавшихся проблемой человека вплотную. Таковы тексты Ж. Батая, Р. Кайуа, М. Лейриса, А. Кожева, С. М. Эйзенштейна, И. И. Иоффе, М. М. Бахтина и др.;
предлагается философско-антропологический анализ произведений литературы и кино, подтверждающий наличие единой антропологической парадигмы середины 20-х - конца 50-х гг. XX в.;
дается новое толкование таких ключевых понятий, необходимых для концептуализации эпохи, как «трансгрессия», «радикальность», «экстремальность», «тотальность».
Научно-практическая значимость диссертации заключается в том, что ее результаты могут быть использованы при разработке учебных курсов по философии, философской антропологии и культурологии, а также такой, неразвитой пока в России, дисциплины, как медиальные исследования. На материале данной работы в рамках международного проекта «Инновационные технологии» (Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена) был разработан спецкурс «Философско-антропологические подходы М. Бахтина и X. Плесснера» (2007). В рамках проекта «Методология гуманитарного знания: компаративистика и риторика» (Российский государственный гуманитарный университет) был разработан спецкурс «Жизнь in extremis: радикаль-
20 ный образ человека в литературе и кино 1920^40-х гг (Россия, Германия,
Франция)» (2007).
Основные результаты исследования отражены в следующих положениях,
выносимых на защиту:
Любая антропологическая теория радикальна, ибо смотрит в «корень» философии, демонстрируя познание мира через человека. Особенность антропологии середины 20-х - конца 50-х гг. XX в. в том, что она не только сама радикальна, но и свой предмет понимает как радикальный, определяя человека через его Другое. В рассматриваемый период человек сосуществует со своей противоположностью, разыгрывая из себя Другого, существуя в эксцентрической позиции, пребывая в утопическом местоположении (X. Плесснер), оказываясь в чрезвычайной ситуации (К. Шмитт) или экстатически «выходя-из-себя» (СМ. Эйзенштейн).
Главный прием т.н. «радикальной антропологии» - получение образа человека посредством негации - наследовал приему негативной теологии. Секуляризованная апофатика, ставшая инструментом антропологии, способствовала формированию нового образа человека «без свойств». «Радикализованная» антропология превращается в (квази)мистическое учение, ставящее трансгрессирующего человека на место (отсутствующей) трансцендентности (Ж. Батай).
Ключевой категорией при этом служило «сакральное», претендовавшее на статус всеобъяснения и функционировавшее как понятие-джокер, объединяя в себе крайние проявления человеческого: «святость» и «проклятость», «чистоту» и «грязь», «возвышенность» и «ничтожность». Для авангарда 2 и для тоталитарной культуры характерна мысль о «втором начале» (ресакрализации), возникшая как реакция на предпринятые в авангарде 1 попытки начать заново всю историю. Когда во главу угла социокультуры выдвигается «второе начало», сакральное обретает качество воспроизводимости, становится всегдашним - универсальным (Р. Кайуа, М. М. Бахтин).
Важную роль в формировании радикального образа человека играл феномен экстремальной трансгрессии как пребывания на границе между жизнью
и смертью. Абсолютизация такого переходного состояния разрушает предпосылки самосохранения. Предельная трансгрессивность может принимать как созидательные, так и деструктивные формы. Отличие дискурса о человеке середины 1920-х - конца 50-х гг. XX в. от человековедения остальных эпох состоит в том, что он снимает границу между экстремальным и повседневным, конструируя такую форму существования, в которой человек мог бы ежеминутно делать ощутимым собственное Другое.
5. Развитие человечества концептуализуется в антропологических сочине
ниях в форме скрытой нарративизации предмета, которая приписывает сюжет
ность историческому порядку. Специфика нарратива в антропологии рассмат
риваемой эпохи заключена в неразличении «Dichtung» и «Wahrheit», в выдава-
нии фикционального за реальное (X. Плесснер, К. Шмитт).
Трансгрессивность радикально-антропологического дискурса, проникающего за пределы вербального текста и оккупирующего область визуального, приводит к тому, что с середины 20-х по конец 30-х гг. XX в. зарождается «интермедиальная» антропология, ориентированная, прежде всего, на кинематограф, в котором фильм понимается не просто как акт эстетического мышления, но как философия нового человека (И. И. Иоффе). Подобная интермедиальная антропология отражает основные черты антропологического дискурса своего времени, рассматривая в новом ракурсе проблемы сакрального и трансгрессивного (С. М. Эйзенштейн).
Повышенное внимание культурной парадигмы середины 20-х — конца 50-х гг. XX в. к человеку обусловливало тот факт, что трансгрессивность распространялась на половую специфику. Женщин-антропологов интересуют те же проблемы, что и философов-мужчин, но при этом женщины представляют собой другое в «патриархальной» культуре, и эта инаковость часто была связана со стратегией «подрыва» чужой дискурсивности: в своих сочинениях мыс-лительницы не просто осуществляли интеллектуальный мимезис и «разыгрывали» философско-антропологические понятия, как бы витавшие в культурной атмосфере, но и деконструировали их (X. Арендт, С. Вейль, Э. Штайн).
22 Апробация исследования. Материалы работы использовались автором
в течение ряда лет для чтения спецкурсов и проведения семинаров в РГПУ им. А. И. Герцена, в университетах Тюбингена и Констанца (Германия). Разные части диссертационного исследования обсуждались на коллоквиумах в университетах Тюбингена, Констанца и Санкт-Петербургского государственного университета. Основные положения диссертации в виде докладов были представлены на научных конференциях, в частности, на международной научной конференции «Дар и жертва» (2004, Ольденбург, Германия); международной конференции «Reiseriten-Reiserouten» (2005, Констанц, Германия); международной конференции «Медиальная динамика и история русской культуры XVIII - XX вв.» (2005, Констанц, Германия); международной конференции «Документа-лизм и письмо в изгнании» (2006, Прага, Чехия); международной конференции «Начало и архив» (2006, Констанц, Германия); международной конференции «1960-е годы как социокультурный феномен» (2006, РГГУ, Москва); межвузовской конференции «Философская традиция как понятие и предмет историко-философской науки» (2006, РГГУ, Москва); международной конференции «Репрезентации животных в русской культуре» (2007, Лозанна, Швейцария); международной конференции «Немое или звучащее. Кризис и новое самоопределение киноискусства в 1930-е гг.» (2007, Констанц, Германия); международной конференции «Проблемы нарратологии и опыт формализма/структурализма» (2007, СПбГУ, Пушкинские Горы); международной конференции «Русский авангард и идеология» (2007, Белград, Сербия); международной конференции «Апокалипсис, начало, исключение, повседневность. Нарративы о войне XX -XXI вв.» (2008, Констанц, Германия); международной конференции «Соседство» (2008, Тюбинген, Германия); международной конференции «Медиальный синтез и русская философия» (2008, Тюбинген, Германия, совместно с РГПУ им. А.И. Герцена). Результаты исследования представлены в 26 научных публикациях, в том числе в монографии «Эволюция антропологических идей в европейской культуре второй половины 1920-30-х гг. (Россия, Германия, Франция)» (СПб., 2008, 21,5 п.л.). Ряд смежных тем обсуждается в первой моногра-
23 фии автора «Anima laborans. Писатель и труд в России 1920-30-х гг.» (СПб.,
2005, 18,1 п.л.).
Структура диссертации определена поставленными задачами и порядком их решения. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка литературы. Объем диссертации составляет 400 страниц основного текста, библиография включает 592 наименование, в том числе 294 на английском, немецком и французском языках.
Радикализация образа человека в философской антропологии подходы к проблеме (Г. Андерс, А. Гелен, С. Вейль)
В работе «К критике гегелевской философии права» Карл Маркс обращается к понятию «человек», чтобы продемонстрировать «снятие» философии: «Теория способна овладеть массами, когда она доказывает ad hominem, а доказывает она ad hominem, когда становится радикальной. Быть радикальным — значит понять вещь в её корне. Но корнем является для человека сам человек» (Маркс 1955, 422) . Доводя мысль Маркса до предела, следовало бы признать, что любая антропологическая теория радикальна, ибо смотрит в «корень», демонстрируя устройство мира через человека. Особенность антропологии середины 20-х - конца 50-х гг. XX в. состоит в том, что она не только сама радикальна, но и свой предмет понимает как радикальный, определяя человека через его Другое21, в каковом тот берет свое начало.
В рассматриваемый период человек сосуществует со своей противоположностью. Хельмут Плесснер (1892-1985) утверждал, что человек всегда разыгрывает из себя Другого, пребывая в двойственной эксцентрической позиции, в «утопическом местоположении» (utopische Standort). Карл Шмитт (1888-1985) поставил в центр своей политико-антропологической теории понятие чрезвычайного положения (Ausnahmezustand), в котором нарушаются правила повседневной жизни и открывается своего рода «второй мир», функционирующий против всяких законов, подчиненный логике чуда. Сергей Эйзенштейн (1898— 1948) описал художественное творчество как практику экстатического «выхо-да-из-себя», во время которого творец утрачивает свое обыденное сознание и регрессирует на стадию дорационального мышления. Таким образом, радикализованный образ человека оказывается (со)противопоставлен повседневности, будучи укоренен в «экстремальной» ситуации, мыслимой как квазитрансцендентная.
В 1930-е гг. аргумент ad hominem постепенно становится аргументом ad personam: «экзистенциальная ангажированность» (Олье 2004, 26) мыслителей того времени приводит к тому, что ученый оказывается частью объекта своего исследования; на первом плане философии проступает Я философа. Радикальная антропология, рассматривающая человека в экстремальной ситуации, становится экспериментальной. Представители парадигмы середины 1920-х - конца 1950-х гг., занимавшиеся проблемой человека, экспериментировали зачастую на самих себе. Однако это не были эксперименты по созданию новой биологической особи по примеру 1910-х - 1920-х гг., как у А. А. Богданова. В 1930-е гг. на главную позицию выходит «внутренний опыт», получаемый субъектом в процессе повседневной жизни. Производимые в эту эпоху философские и антропологические тексты нередко эго-историчны, существуют лишь в контексте биографических реалий своих авторов. Мыслитель такого рода балансировал на границе философского дискурса и собственной экспериментальной жизни, которая была призвана воплотить собой систему абстракций. По этой причине биографии «людей тридцатых» представляют не меньший интерес для истории идей, нежели теории этой эпохи. История жизни во многих случаях служит неизменным дополнением к теории или системе мышления. Радикальные мыслители использовали не только чисто научные методы, но и такие «инструменты», как погружение в самосозерцание, экстаз и риск. Подобные биографические опыты могли быть столь же опасными, как и научные эксперименты. В качестве примера можно привести военные дневники Эрнста Юнгера (1895-1998), мистико-психоделические опыты Бориса Поплавского (1903-1935), Александра Введенского (1904-1941) и Рене Домаля (1908-1944). Жорж Батай (1897-1962) создал такую систему философствования, центром которой оказалась его собственная личность. Как писал Батай, «зияющая пустота» и «открытая рана» его жизни являются лучшим опровержением замкнутой философской системы Гегеля.
Радикальный подход к человеку либо «вырывал» последнего из повседневности, подчиняя условиям рискованного эксперимента, либо превращал саму повседневность в череду экстремальных ситуаций. Подобное положение дел нередко осознавалось антропологами как «бездомность» и «неукорененность» их объекта, не имеющего жесткой привязки к какому-либо месту в земном пространстве.
Уже в «Теории романа» (1916) Дьердь Лукач (1885-1971) указал, что «форма романа представляет собой [...] выражение трансцендентальной бездомности» (transzendentale Obdachlosigkeit) (Lukacs 1977, 35), которая может проявляться в безумии или в преступлении (Ebd., 59). Роман, по Лукачу, описывает разрушение тотальности, показывая человека, меняющегося по ходу истории. То, что было выводом из художественной фикции, стало позднее утверждением, отсылающим к жизненной реальности. Возможно, именно концепцию Лукача имел в виду Плесснер, когда подчеркивал, что человеку в его изменчивости свойственна «конститутивная неукорененность». Ту же метафору бездомности/неукорененности использовал Гюнтер Анд ере (1902-1992), писавший, что человек, по определению, не стабилен и «вырван» из пространства-времени, как растение, отрезанное от своих корней. В книге «Служащие» (Die Angestellten) Зигфрид Кракауэр представил немецких служащих как «духовно бездомных» („geistig obdachlos" [Krakauer 1930, 117]), живущих без ценностей и без цели. Эту тему резюмировал Мартин Бубер в «Проблеме человека», указав на чередование двух эпох в истории человечества — эпохи «домашности» (Behaustheit) и «бездомности» (Hauslosigkeit). Именно эпоха бездомности, как считает Бубер, способствует философской постановке вопроса о человеке: «антропологический вопрос, подразумевающий человека в его специфической проблематике, прозвучал в ту пору, когда был расторгнут изначальный договор Вселенной и человека, и человек почувствовал, что он в этом мире пришелец и одиночка. Конец этого образа мира и, следовательно, его надежности повлек за собой и новые вопросы беззащитного, бездомного и потому проблематичного для самого себя человека» (Бубер 1995, 170).
С середины 20-х по конец 50-х гг. XX в. проблема «конститутивной неукорененности» человека не просто актуализуется, но делается парадоксальной. С одной стороны, тоталитарная культура делает попытку «привязать» человека к его «корням» (осуществляя лозунг «кровь и почва»), а с другой стороны, человек отрывается от «корней», исключается из нормальной ситуации и ставится в экстремальные условия . Таким образом, человек этой эпохи мог потерять себя, как растворившись в тесном коллективе тоталитарной «общины», основанной на кровной и/или территориальной близости, так и отказавшись от общества и от себя самого в стремлении выйти за границу повседневности. Радикальный образ человека в названное время характеризуется диалектическим колебанием между сближением людей в коллективном - расовом, национальном, империальном - единстве и крайней степенью отчуждения, вплоть до трансгрессии за пределы человеческого23.
Смех и зрелище в исторической антропологии X. Плесснера и М.М. Бахтина
В 1920-х - 1940-х гг. европейская философия оказалась в двойственном положении. В книге «Духовная ситуация времени» (Die geistige Situation der Zeit, 1932) К. Ясперс предположил, что в ситуации духовного кризиса и соблазна уйти от сознания к стихии бессознательного («кровь», «почва», «вера», «душа») философствование должно стать основой подлинного бытия человека (Jaspers 1965). В своей ректорской речи «Самоутверждение немецкого университета» (1933) Хайдеггер признал, что философия есть внутренняя необходимость подлинного бытия-в-мире (Heidegger 1983а, 13). Через пару лет Э. Гуссерль в докладе «Философия в кризисе европейского человечества» (Die Philosophie in der Krise der europaischen Menschheit, 1935 - см. Husserl 1976), прочитанном в Вене, констатировал разрыв философии с жизнью. С точки зрения Гуссерля, кризис европейского образа жизни предполагает только два исхода: закат Европы в форме отказа от духовности и впадения в варварство или все же возрождение Европы из духа философии. Несмотря на то, что политические установки этих трех деклараций были противоположны, философия в них понималась одинаково - как возможность спасения Европы. Именно к философии предъявлялись требования по выводу из кризиса европейского сообщества и реставрации человека, обладающего самосознанием. Однако подобная задача оказалась не по силам философскому дискурсу, что было осознано практически одновременно с призывами привлечь философию к делу возрождения интеллектуализма. В том же 1935 году в Цюрихе выходит книга Плесснера «Судьба немецкого духа на исходе буржуазной эпохи»148, в которой философ признает полную социально-политическую беспомощность философии в той ситуации, которая сложилась в современной ему Европе. «Философия распалась в себе и отпала от себя»149, - пишет Плесснер, характеризуя культурное пространство 1920-30-х гг.
Обращение философских дисциплин к антропологии и истории можно толковать как ответ на кризис философского мышления, возникший после первой мировой войны150 и усугубленный в эпоху тоталитаризма. Можно предположить, что постановка вопроса о conditio humana, с одной стороны, и возрождение гегельянства, с другой, знаменуют обращение к prima философии: выходом из ситуации поражения философии становятся ее историзация и антропологизация. Обе тенденции заметны в творчестве таких мыслителей, как Бахтин и Плесснер.
Стоит отметить, что третьим путем преобразования философии стала ее эстетизация. Обращение Плесснера к театральности, интерес Бахтина к литературе и к карнавалу - все это служило размыванию границ философского дискурса. При этом если у Плесснера эстетический подход был интегрирован в философскую манеру письма, то у Бахтина философия оказалась зачастую поглощена, если не подавлена эстетикой: политические факторы также способствовали трансгрессии философии в литературо- и искусствоведение. Если в Германии Плесснер разрабатывал свое антропологическое учение практически одновременно с целым рядом конкурирующих подходов Шелера, Ротакера, Гелена, Портмана и др.151, то в Советской России возможность свободного философского творчества подверглась резкому ограничению, и философская антропология Бахтина реализовывалась, по преимуществу, в рамках эстетики и литературоведения . Философско-антропологические системы можно реконструировать и в эстетических трудах других советских мыслителей (С. М. Эйзенштейн, И. И. Иоффе). Однако несмотря на разные контексты, в которых развивались учения Плесснера и Бахтина, варианты исторической антропологии, предложенной этими авторами, оказались во многом сопоставимы.
Плесснер, вероятнее всего, ничего не слышал о текстах Бахтина, и, пожалуй, нельзя точно доказать, что Бахтин читал Плесснера в 1920-40-е гг. и вел с ним (как с Лукачем) скрытый диалог. Поразительные переклички между их сочинениями объясняются тем, что тексты Плесснера и Бахтина восходят к одним и тем же источникам. С одной стороны, в набор «общих» цитируемых авторов входят Гегель, Ницше, Гюйо, Дильтей, Коген, Липпс, Шелер и др. С другой стороны, антропология Бахтина восходит к тому же научному контексту, который имел определяющий характер и для Плесснера: оба пытались преодолеть господствовавшие после 1900 г. экспрессивную эстетику и теорию «вчув-ствования». Исходя из интеллектуального контекста той эпохи, Х.-Р. Яусс подчеркнул сходство между понятиями бахтинской вненаходимости и плесснеров-ского эксцентризма 5 .
Позднее, уже в конце 1990-х гг., составители «Собрания сочинений» Бахтина обратили пристальное внимание на философский подтекст бахтинской эстетики и упомянули в комментариях, в ряду прочих, имя Плесснера155. Однако никто не предпринимал специального исследования связей между Плесснером и Бахтиным. Между тем как компаративистский анализ антропологических идей Бахтина и Плесснера тем более заслуживает внимания, что оба мыслителя пытались решать одинаковые проблемы, но при этом пришли к противоположным результатам.
По ту сторону «здесь» и «теперь» В исторической перспективе особого внимания заслуживает важное для Плесснера понятие «эксцентрического позиционирования» (exzentrische Positionalitat), поскольку в своей основополагающей работе по философской антропологии «Ступени органического и человек» философ напрямую связывает эксцентрическое позиционирование с историчностью. Современные историки философии уже пытались наметить подходы к изучению эксцентрического156 позиционирования как категории, конституирующей исторического человека (см.: Dux 1994, EBbach 1994, Pietrowicz 1994). По мнению некоторых исследователей, историческая семантика плесснеровского понятия включает в себя самоописание модерна (Pietrowicz 1994, 45-63).
Ресакрализация мира в 1930-40-х гг. (М.М. Бахтин и Коллеж Социологии)
В своей книге «Человек и сакральное» Р. Кайуа писал: «Любое начало таит в себе деликатную проблему. Ясно, что им нарушается равновесие, вводится некий новый элемент, который нужно интегрировать в мировой порядок с как можно меньшими возмущениями. [...] Он по праву принадлежит порядку божественного - он освящен уже тем, что он первый, что с него начинается новый распорядок вещей» (Кайуа 2003, 160).
В этих рассуждениях Кайуа отметил важнейшую черту категории сакрального, признаваемой многими учеными неопределимой и противоречивой256. Выделяя области бытия, воспринимаемые сознанием как принципиально отличные от обыденной реальности и исключительно ценные, сакральное знаменует начало противостояния профанному - пункт дифференциации мира, время космогонии, момент творения. Р. Отто в известной работе «Das Heilige» (1917) заметил, что сакральное есть «совершенно Иное» («das ,Ganz Andere »), при этом для религиозного сознания оно есть не просто иная реальность, но также реальность абсолютная, вечная и первичная по отношению к преходящему миру. В религиозной онтологии сакральное мыслится началом бытия, истоком и основой существования. В научном дискурсе XX в. сакральное отразилось, как в зеркалах, во множестве терминов: сакральное включали в состав гетерогенного (Ж. Батай, М. Элиаде); амбивалентного (М. Мосс, 3. Фрейд); социального (Э. Дюркгейм), нуминозного (Р. Отто). Во втором авангарде под сакральным часто понимались объекты двойственной природы, коими когда-то были не только короли, но и отбросы, менструальная кровь, трупы, изгои, проститутки, палачи — в общем, все инородное, исключенное из общества, ведь sacer переводится с латинского и как «святой», и как «проклятый». Однако нас здесь будет интересовать отнюдь не многообразие значений сакрального. Не «святость» и не «проклятость», не «чистота» и не «грязь», не «возвышенность» и не «ничтожность», а именно «начинательность» сакрального сыграла, возможно, решающую роль в том, что этот феномен оказался широко обсуждаем в философии, политологии, социологии, этнологии и эстетике 1920 40-х гг. - времени, устремленному к радикальному обновлению человеческой истории.
Понятие сакрального получило большой резонанс во втором авангарде постольку, поскольку тот пытался переосмыслить «начало» новой культурной эпохи. Авангард 1 показал, что любое социальное или культурное явление может возвыситься из низов. Авангард 2 продемонстрировал, что возвышенное может быть изолировано и оценено как ничтожное. Таким образом, авангардисты второго призыва не могли отказаться от самоиронии и автонегации в дискуссиях о возможности «второго начала»: стремясь познать начало, они в то же время его отрицали; пытаясь выделить из повседневности священные объекты, они профанировали избранное ими . Так, в 1930-е гг. сакрализация мира оказалась одним из самых парадоксальных предметов обсуждения во французской радикальной философии. Необычные теории сакрального реконструируются и в других версиях второго авангарда - в Советской России (М. М. Бахтин, С. М. Эйзенштейн) и в Германии (К. Шмитт, Э. Юнгер).
Категория сакрального формировала официальные культуры тоталитарных государственных образований. Если тоталитарные власти «сакрализо-вали» действительность, используя практику массовых жертвоприношений, то в авангардистской культуре шло альтернативное внедрение сакрального в жизнь на уровне ритуализации культурного поведения, создания интимных кругов общения: к примеру, парижский Коллеж Социологии (College de Sociologie, 1937-1939 гг.) занимался «регенерацией» сакральных феноменов в современном мире, привнесением в жизнь «активного сакрального», которое стало бы чем-то большим, нежели «просто действие» . Это «сверхдействие» осознавалось как интерсубъективная активность, «причащающая»259 современного человека «тотальному существованию» (l existence totale), утраченному им с тех пор, как сакральное фактически исчезло из повседневной (буржуазной) жизни, оставив в ней лишь свои рудименты. Теоретическими манифестами Коллежа послужили такие тексты, как «Ученик колдуна» Батая, «Сакральное в повседневной жизни» Лейриса и «Теория праздника» Кайуа.
Примерно в то же время в Советской России сакральный модус существования был теоретически эксплицирован Бахтиным в его книге «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» . Подобно Кайуа и Батаю, Бахтин конструировал теорию сакрального времени, на протя-жении которого индивидуумы «причащаются» целокупному бытию .
Актуальность сакрального определялась не только политическим контекстом, но и общей атмосферой того времени, в которой активно проявилась ностальгия по началам. Эта ностальгия стала осознанной во втором авангарде: «Золотой век» становится темой антропологических штудий («Миф и человек» Кайуа) и киносценариев («Золотой век» Л. Бунюэля); тоску по «тотальному существованию» можно найти в текстах А. Бретона и Ж. Батая. В своей книге «Поиск: история и значение в религии»262 М. Элиаде анализирует варианты «религиозной ностальгии» , обнаруживая ее элементы в любой творческой деятельности вообще, но особенно в авангарде (Eliade 1984, 65).
Следует отметить, что в социологии, в этнологии и в философской антропологии сакральное традиционно осмыслялось как основа бытия. Мир начался с того, что был сакрализован: сущее оказалось разделено на сакральные и про-фанные области264. Производя дифференциации между доступным и запретным, постижимым и непостижимым, «чистым» и «нечистым», человек сакрали-зует мир, организует его заново — в том порядке, который следовало бы считать человеческим. В книге «Элементарные формы религиозной жизни» (1912) Э. Дюркгейм отмечает, что пространство и время не однородны и что для формирования пространственно-временных представлений требовалась первоначальная координация между данными чувственного опыта, которая была бы невозможна, если бы все части времени и пространства были равноценны (Durkheim 1981, 30).
Негативный феминизм Симоны де Бовуар
В период символизма понятие «женственность» служило важным культу-рогенным фактором: начиная от превознесения «Вечной Женственности» у русских символистских поэтов и заканчивая радикальным отрицанием женщины в сочинениях О. Веинингера. Феминизм занимал важное место в культурной парадигме 1910-х гг.: о женской эмансипации писали А. М. Коллонтай и Р. Люксембург. Ситуация меняется в конце 1920-х гг., когда общее внимание переключается с «женского вопроса» на «проблему человека». Важнейший «разделитель» человечества, тендер, становится в эту эпоху предметом культурного сопротивления: дискурс о половых различиях должен был быть снят в ментальном поле, ориентирующемся на принцип тотальности. В частности, в советской тоталитарной культуре интенсивно формируется образ маскулинизованной женщины, тиражируемый различными медиа, от литературы (производственные романы) до кинематографа396.
Антропологов интересовала не женщина, но человек как таковой: даже то-гда, когда антропологами были женщины . Тем не менее, антропологический дискурс женщин 1930-х - 1950-х гг. имел свою специфику. Обнаружить ее - задача данной части исследования.
Существует обширная литература о философии, политике и антропологии западноевропейских мыслительниц398 первой половины XX в. Однако в этих значимых для истории идей научных трудах не представлена парадигма женского мышления 1930-х гг. в Европе в целом, включая Советскую Россию; к тому же, биографический аспект в этих исследованиях часто доминирует над историко-философским: работы на эту тему посвящены скорее социокультурной интеграции мыслительниц в тоталитарный контекст (Wimmer 1990, Courtine-Denamy 2000). Работы о тендерном самоопределении женщин-философов, как правило, не учитывают исторической специфики эпохи (Nye 1994). В этой главе я пытаюсь не просто рассмотреть «женский» философский дискурс в его общеевропейской перспективе, но и определить его место рядом с «мужской» философией. С этой целью я включаю в свое исследование ряд имен, до сих пор не появлявшихся рядом в рамках одной работы: Ханна Арендт (1906-1975), Эдит Штайн (1891-1942), Симона Вейль (1909-1943), Симона де Бовуар (1908-1986), Ольга Михайловна Фрейденберг (1890-1955), Лидия Яковлевна Гинзбург (1902-1990).
Попытка проанализировать женское мышление 1930-х гг. в области человековедения показывает, что женщины-философы не были зачинателями какого-либо дискурса и практически всегда мыслили в русле, уже проложенном до них. «Женское» радикальное человековедение первой половины XX века существовало в неразрывной связи с «мужским». В частности, негативная антропология, господствующая в философских учениях Гелена, Плесснера, Батая, Кай-уа, присутствует в определенной форме и в «женских» текстах: в «христианской» антропологии С. Вейль и Э. Штайн человек определяется как страдающее существо; в феминистском учении, предложенном С. де Бовуар, «женский удел» описывается как крайний вариант человеческого самоотрицания; в своих блокадных записях Л. Я. Гинзбург признает «вытеснение страдания страданием» общечеловеческим качеством.
Запутанный узор концептуальных схождений и расхождений между «мужским» и «женским» типами философствования демонстрирует полемика (в том числе скрытая) таких «пар» (зачастую диахронически неравноценных), как Э. Штайн и Э. Гуссерль, X. Арендт и М. Хайдеггер, Л. Я. Гинзбург и Ю. Н. Тынянов, О. М. Фрейденберг и М. М. Бахтин, С. Вейль и Ж. Батай, С. де Бовуар и Ж.-П. Сартр. Однако «женская» подчиненность «мужским» дискурсам часто была связана со стратегией «подрыва» чужой дискурсивности: в своих сочинениях мыслительницы не просто осуществляли интеллектуальный мимезис и «разыгрывали» философско-антропологические понятия, как бы витавшие в культурной атмосфере, но деконструировали их. Невзирая на обусловленное временем внимание к «негативному» образу человека, мыслительницы 1930-40-х гг. создают гендерно-специфический антропологический дискурс, размышляя о границах «тотальной войны» и мечтая положить конец взаимной деструкции человеческих сообществ тоталитарной эпохи. Стратегии этой (критики) негативной антропологии и будут предметом дальнейшего изложения. В книге Симоны де Бовуар «Второй пол» (Le deuxieme sexe, 1949) женщина описывается как некое недостаточное существо, не могущее называться человеком - то есть тем «человеком», который и так определялся в негативной антропологии 1930-40-х гг. при помощи минус-признаков. При этом работа Бовуар работает на «подрыв» негативного человековедения, поскольку пафос книги состоит в том, чтобы обрисовать перспективы возможного самоутверждения женщины. Именно этот «утверждающий» пафос и способствовал популярности книги Бовуар среди современных феминисток.
Свою книгу Бовуар начинает с перечисления мужских антропологических учений, в которых женщина была представлена как гипогуманное существо: ««Самка является, самкой в силу отсутствия определенных качеств, - говорил Аристотель. - Характер женщины мы должны рассматривать как страдающий от природного изъяна». А вслед за ним святой Фома Аквинский утверждает, что женщина - это «несостоявшийся мужчина», существо «побочное». Именно это и символизирует история Бытия, где Ева представляется сделанной, по словам Боссюэ, из «лишней кости» Адама»399 (Бовуар 1997, 27). Бовуар фрейдистски понимает женскую «недочеловечность» как
Penisneid. Отношению женщин к этой нехватке посвящено немало страниц второго тома книги. Любопытно, что немецкий антрополог А. Гелен также рассматривал человека как недостаточное существо, не располагающее возможностями тела, необходимыми для удовлетворения все возрастающих потребностей: в центре его антропологии стояло понятие органэрзаца. Тоталитарная антропология трактовала мужчину-человека как quasi-женщину по принципу лишенности органов. Женская антропология эпохи обращает эту трактовку на женщину, но ищет пути к преодолению негативных последствий биологической ситуации.