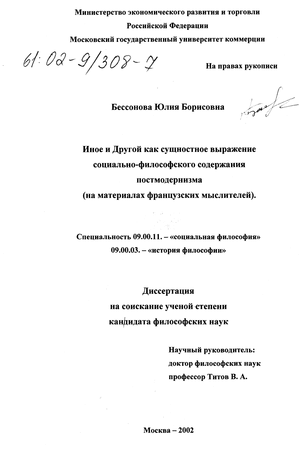Содержание к диссертации
Введение
Раздел 1: Критика западно-европейского логоцентризма . 36-53
Раздел 2: Маргинальность постмодернизма: имморализм и трансгрессия . 53-82
Раздел 3: Сверхрационализм как единство разума и безумия . 82-112
Раздел 4: Идея коммуникативного существования с Другим . 112-128
Раздел 5: Проблема псевдокоммуникации как реакция на современный видеоцентризм . 128-142
Раздел 6: Постмодерн как выявление связи между этикой и эстетикой. 142-158
Заключение: Постмодернизм и перспективы его развития. 158-165
Библиография 165-170
- Критика западно-европейского логоцентризма
- Маргинальность постмодернизма: имморализм и трансгрессия
- Сверхрационализм как единство разума и безумия
- Идея коммуникативного существования с Другим
Введение к работе
Актуальность диссертационного исследования.
В конце XX века, трактуемого как «конец времен», постсовременность, многие мыслители начинают остро чувствовать необходимость завершить историю, переосмыслить все традиционные ценности. Европейская цивилизация на протяжении уже нескольких веков упорно возвещает о своем закате, полагая, что достигла глубин декаданса. «Кризис Духа» начала XX века был ознаменован полной потерей доверия и к гуманизму, и к рационализму, как к абсолютно спекулятивным, более чем подозрительным идеалам. Две мировые войны,тоталитарные режимы, массовые убийства, разрушение городов, идейный хаос поставили человека перед лицом всепоглощающего космического безразличия. Высокие моральные принципы трансформировались часто в цинизм, познавательный идеализм- в технические манипуляции. В искусстве имел место переход от создания шедевра к шоковому, скандальному произведению. Сегодня видеосфера, фабрика грез заменяет место реальности, государства сливаются с мафиозными структурами - возникает угроза Всеобщей Фальсификации. Все эти тенденции реальной жизни становятся объектом острых дискуссий современных мыслителей.
Главная задача современной французской философии-«диагностика настоящего», по выражению М. Фуко. В сущности, экстремизм французских постмодернистов заключается в их твердом намерении разрушать все очевидности и универсальности, обновлять, прежде всего, образ мысли, -осуществлять «вечный заговор против всемирной посредственности». (D. Janicaud). Французские философы конца XX века смогли вынести уроки из всех кризисов, уже провозгласивших смерть Бога, метафизики, истины, искусства, субъекта; они продуцируют новое знание, переживают фактически вторую
молодость. Они пытаются примирить прежде оппозиционные рационально-аналитическую и герменевтико-феноменологическую традиции («вкус к очевидности» и «ощущение двусмысленности», как мечтал М. Мерло-Понти), научиться думать во взаимосвязи элементов, принимая в себя Иное и Другого на фоне царящих сегодня ксенофобии, медиатической агрессии и общего упадка духа.
Постановка проблемы исследования: Постмодернизм является одним из самых важных объектов исследования современной духовной культуры Запада. При этом во всех трудах, посвященных рассмотрению своеобразия постмодернизма, в основном делается акцент на анализ его различных аспектов: философского, художественного, социологического, культурологического и гуманитарного. Замысел данной работы состоит в попытке раскрытия органического единства многообразия социально-философского содержания постмодернизма на основе заложенных в нем исходных принципов. Проблемы постмодернизма рассматриваются диссертантом не сами по себе, а в их системном синтезе. Прежде всего, интерес автора сосредоточен на проблеме Иного и Другого, как определяющей в концепциях сверхрационализма, нового гуманизма, нового языка, новой этики и эстетики в современной философии.
Авторская гипотеза. По мнению диссертанта, постмодернизм не является непосредственным и догматическим продолжением нигилизма и иррационализма XIX-XX веков, а представляет собой симбиоз последних с широкой палитрой гуманитарного знания, на базе которого достигается оригинальное освещение традиционных социально-философских проблем.
Степень разработанности проблемы:
Прежде всего, нужно учесть, что, несмотря на то, что термин «постмодернизм» впервые возник еще в 1917 году, само явление можно
считать недавним и более того неоконченным. Далеко не все также признают его существование как оригинального духовно-культурного феномена. Некоторые философы полагают, что постмодернизм крайне типичен как обычная «болезнь века», кризис, неизбежно переживаемый обществом в конце каждого столетия. Можно в целом без преувеличения сказать, что в философском плане тема постмодернизма остается пока мало изученной и чаще всего ассоциируется с модной эстетической концепцией. В основном исследованиями постмодерна в нашей стране занимаются филологи, искусствоведы, среди которых можно назвать И. Ильина, В. Ерофеева, М. Эпштейна, В. Курицына, М. Рыклина и других. Надо, впрочем, заметить, что в связи с интересом современной философии, прежде всего к языку, к логосу, филологи существенно потеснили профессиональных философов. В настоящее время в России можно однозначно ощутить недостаток исследований по данной проблематике в среде философов.
Однако в последние годы стали появляться многочисленные переводы европейских теоретиков постмодернизма, что существенно расширяет границы восприятия интеллектуальных стратегий постмодернизма и усиливает интерес к анализу данной философской проблематики у отечественных авторов.
В 2000 году вышла в свет монография Н. Маньковской по неканонической эстетике XX-XXI веков и ее теоретическим основам, где, в том числе, выдвигаются гипотезы относительно перспектив постмодернистской эволюции. В 2001 году появился словарь основных терминов современной философии, социологии,, психологии и искусства, синтезом которых и является постмодернизм, составленный И. П. Ильиным. Словарь был написан на базе его предшествующей работы: «Постмодернизм от истоков до наших дней. Эволюция научного мифа» (1998). В том же 1998 году было издано учебное пособие Д. А.
Силичева, посвященное проявлениям постмодерна в экономике,
политике и культуре. Необходимо отметить появление «Энциклопедии
постмодернизма» (2001), куда вошли оригинальные тексты,
охарактеризованы персоналии, рассмотрен категориальный аппарат и
даны тематические проекции постмодернизма, хотя, конечно,
представляется невероятно трудной попытка заключить
«неисчерпаемую и неопределенную» современность в
энциклопедическую структуру.
Вместе с тем, следует подчеркнуть изначальную роль русских исследователей в процессе возникновения постмодернизма. Так, французский филолог и философ А. Компаньон считает, что до 60-70х годов, когда зарождались структурализм и семиология, у французов не было «теоретического ума», способного осмыслить эти явления. Формированию французского структурализма и теории коммуникации способствовало влияние русского формализма и взглядов, в частности, русского лингвиста Р. Якобсона. Заслуга Р. Якобсона состоит в том, что в отличие от своих западных последователей он стремился выйти за рамки терминов исключения и альтернативы, культивируя идею «сосуществования и доминанты». В его творчестве подчеркивалась тесная связь языка, литературы и внешнего мира. Современные мыслители как раз пытаются вывести язык из сферы дихотомического мышления, не разъединяя грубо язык и реальность, слова и вещи. Чтобы разрешить этот конфликт, уместно было рассматривать язык хотя бы умеренно ирреальным, так как внешний мир нам доступен благодаря тому, что мы рассказываем о нем более или менее вымышленные истории. И хотя Р. Якобсон апеллировал к «языку-в-действии», его концепция коммуникации предполагала одинаковый код, объем памяти и контекст восприятия общающихся. Русский семиотик Ю. Лотман углубил эту абстрактную схему: ввел в нее идею о неограниченном
семиозисе, процессе порождения значения, об общении, строящемся на сложных и запутанных отношениях кодов и субкодов, вовсе не подразумевающих абсолютную адекватность. За исходную точку знаковой системы он взял не отдельный знак, слово, а соотношение между двумя словами, что уже являлось неким целым семиотическим пространством, и заложенные в культуре альтернативные коды делали его диалогическим. Один из оригинальных философов нашей эпохи М. Мамардашвили полагал, что не столько знак, сколько символ указывает на бытийную структуру и не требует референта, знак является лишь предметным содержанием сознания. Размышляя над вопросом: «что есть понимание», философ особое внимание посвятил теме Другого и Иного, теме «высвобождения жизни для чего-то большего, чем мы сами», а также теории антропологической катастрофы и возможной имитации существования новым типом человека, определяемого им как «странный», «неописуемый». (Мой опыт нетипичен. Спб.: Academia; 2000.-С.7) К этим аспектам творчества М. Мамардашвили приковано сегодня пристальное внимание зарубежных философов.
Другой наш соотечественник М. Бахтин фактически положил начало постструктурализму во Франции, возвратив реальность, историю, общество в язык, в текст, направляя его во вне, а не замыкая в имманентных структурах. («Скорее я объектен в субъектном мире», писал философ в своих «Литературно-критических статьях». (М.; 1986-с.516)) Суть его «диалогизма» лежит в связности высказывания с другими высказываниями. Многие его французские адепты только недавно пришли к пониманию диалога как динамического конфликта разнородных языков и стилей. В сущности, обращение к диалогу в сфере познания - типичная и специфическая черта русской философии. Как считал П. Флоренский, главное - «диалог, а не захват мертвого объекта хищным гносеологическим субъектом». (Флоренский П. А. Столп и
утверждение истины. М.: ) М. Бахтин пошел дальше: предложил синтез диалогического и герменевтического подходов, который считал более оптимальным для понимания культуры и личности. В этом заключается его близость к поздней постмодернистской парадигме, где антропология сосредотачивается на отношении «Я-Другой» как на основе «новой художественной модели мира», которой присуще эстетическое видение «помимо смысла» и одновременно «вместе» с ним.
Из современных отечественных исследователей языка, как образа мира, не чуждых постмодернистской проблематике, следует отметить психолингвистов Л. Выготского, А. Лурию, психопоэтика А. Леонтьева. Сегодня возрастает интерес к политической психологии и суггестивной лингвистике, существуют проекты по изучению языковых элементов массовой коммуникации, осуществляемые О. Мельниковой, Н. Бойковой. Отечественная патопсихолингвистика, представленная, например Б. Гриншпун, А. Шахнорович, Л. Дергачевой, пришла к выводу, что акоммуникативность как основной признак шизофрении нельзя считать корректным в общем экзистенциальном и эмпатическом взгляде. Это заключение коррелирует с теориями современной западной антипсихиатрии, которые входят в проблемное поле данной работы, в центре которой находится проблема Другого и Иного.
Объектом диссертационного исследования является постмодернизм как современный этап философского нигилизма и иррационализма, «сплавленный» с гуманитарными науками и претендующий на создание новой ментальносте.
Предметом диссертационного исследования является осмысление ряда социально-философских проблем постмодернизма (в частности, особенностей эмпатического познания Другого, соотношения разума и безумия, отрицания логоцентризма и видеоцентризма,
трактовки подлинного смысла существования искусства, необходимости порождения мифологического сознания) на основе сформированного в нем синкретического стиля философствования, органически объединяющего в себе идеи философии, других отраслей гуманитарного знания и искусства.
Цель настоящего диссертационного исследования состоит в попытке, во-первых, раскрыть специфику социально-философской концепции постмодернизма, используя понятийный аппарат социальной философии, психологии, культурологии, эстетики, семиотики и герменевтики, и, во-вторых, осуществить критически предметное осмысление особенностей решения ряда поставленных постмодернизмом философских, прежде всего, социально-философских проблем. Реализация этой цели предусматривает решение конкретных задач.
Задачи диссертации:
Дать характеристику постмодернизма как нового явления социальной философии, основывающегося на неразрывном единстве знаний гуманитарных наук и искусства.
выявить основания интенции постмодернизма, отрицающего рационалистические систем XIX-XX веков.
осмыслить особенности понимания соотношения субъекта и объекта в постмодернизме.
рассмотреть трактовку постмодернизмом диалектики рационализма и иррационализма.
раскрыть место и роль понятий Иного и Другого в философии постмодернизма.
осуществить анализ механизма коммуникативного существования с отчужденным Другим.
осмыслить социально-духовный статус постмодернизма как посредствующего звена между этикой и эстетикой.
Методологическую основу исследования составили исходные принципы социально-философского анализа и научного стиля мышления и, прежде всего, такие, как принцип объективности, детерминизма, системного подхода, единства исторического и логического, абстрактного и конкретного, единства философии, науки и культуры, а также принципы развития, всеобщей связи, историзма, взаимопроникновения противоположностей, преемственности и др. В предлагаемом исследовании использованы работы зарубежных и отечественных ученых, посвященные проблеме Иного и Другого; они анализируются на базе исторического, компаративного и диалектического методов, а также- использования принципов взаимосвязи философии, культуры и науки. В качестве эмпирической базы исследования использованы работы, прежде всего, французских ученых:
Научная новизна исследования:
проанализированы социальные, этические и эстетические параметры постмодернизма как духовно-культурной ситуации, связанной с поиском алогичной и хаотичной сущности мира,
отрицанием принципа бинарности и признания необходимости эмпатического вживания в многообразие мира людей и культур,
критически осмыслен тезис постмодернизма о том, что истина передается не разумом и наукой, а литературой и искусством,
углублены различия понятий аморализма и имморализма,
раскрыта специфика нигилизма постмодернизма, который рефлексирует над тем, как изжить и одновременно сохранить существующий порядок,
эксплицированы понятия болезни и нормы в контексте понимания Иного и Другого,
проанализирована проблема смерти образа и мутаций сознания, как реакция на современный видеоцентризм;
на основе расширения методологической базы и систематизации накопленного материала в рамках различных научных дисциплин дано целостное освещение проблемы Иного и Другого в постмодернизме, который представлен как значительный пласт современного сознания, имеющий свой оригинальный механизм развития.
Положения, выносимые на защиту:
На рубеже XX-XXI веков, несмотря на впечатляющие успехи научно-технического прогресса, человечество все больше осознает глобальные угрозы, перед которыми оно оказалось. Постмодерн, как новый и современный этап развития философии, стремится расширить способы освоения действительности за счет как разума, так и Иного: иррационального, трансцендентального, мифологического.
Отвергая логику Тождественного, постмодернизм в большей мере апеллирует к алогичной, хаотичной сущности мира; доказывает, что мир познается не на основе принципа бинарности, а в результате эмпатического вживания в многообразие мира людей и культуры.
Основным в современной ментальной парадигме является желание сохранить различия, не сводя их к противоречиям, более того культивировать их, сочетать свою идентичность с равноценной уникальностью Другого и Иного во имя подлинной общности.
Постмодернизм отвергает абстрактно-уникальные способы суждений и ценностей. Он с подозрением относится к метарассказам: религии, истории, психологии, науке и. т. п. И в этом заключается
свидетельство не столько нигилизма, сколько- выражение плюральное и терпимости.
Постмодернизм утверждает эзотерику и эклектику во всех формах знания, анархию стилей и направлений мысли, взаимопроникновение вместо обособленности и противодействия. 'Все помещается в единое игровое пространство. Повсеместную игровую тактику, провокации хорошего вкуса они противопоставляют любым социальным, революционным протестам.
Постмодернисты справедливо акцентируют внимание на угрожающих масштабах видеоцентризма. В видеосфере происходит существенный катаклизм, когда слуху отдается верховенство, а зрение становится как бы качеством слуха, визуальное теряет прежнюю независимость взгляда и становится псевдосонорным. Серьезным противовесом видеоцентризму как транслятору массовой культуры может стать искусство как «обретение телесности», как обратное заколдовывание мира.
В конечном счете, постмодернизм стремится «к целостности и мировоззренчески-эстетическому постижению жизни». Он соединяет в себе и культ прошлого, и стихийность настоящего; поэзия и наука, культура и искусство не противостоят друг другу.
Теоретическая и практическая значимость работы: Положения, обоснованные в диссертации, имеют мировоззренческое и методологическое значение для познания человека и человеческого бытия на разных его уровнях: индивидуальном, социальном и культурном.
Идеи и выводы, содержащиеся в работе, могут стать основой для дальнейших исследований в современной социальной философии, а также и историко-философской науке.
В конкретно-прикладном плане данная работа может быть использована в качестве специального теоретического курса в преподавании социальной философии, истории философии, культурологии, этики, эстетики. Апробация работы:
Диссертация обсуждена на кафедре философии Московского государственного университета коммерции и рекомендована к защите. Основные положения диссертации докладывались в виде научных сообщений на заседаниях кафедры философии, на научных конференциях аспирантов, студентов и соискателей МГУК, на философском семинаре в Лионском Университете им. Ж. Мулена.
На рубеже XX-XXI веков, несмотря на впечатляющие успехи научно-технического прогресса, человечество все больше осознает опасность избранного несколько столетий назад пути. Разрушение прежних идеологий и систем ценностей порождает острый кризис в духовно-нравственной сфере, что усиливает понимание зыбкости человеческого существования и приводит постепенно к расширению функционального поля способов освоения действительности с помощью включения в них, наряду с рациональным, иррационального, иного, трансцендентного, в отличие от прежних кризисных состояний, характеризуемых склонностью к религиозному мистицизму или социальному мифотворчеству.
В частности, современная французская философская мысль, которая прежде всегда вела борьбу против финализма, начала постепенно примирять человека и Универсум. Философия по-прежнему ищет свой собственный проект концептуализации мира, так как наука это делает слишком формально. Изобличая иллюзии, развивающиеся на почве прежних концепций, современная философия главной задачей
считает деконструкцию логических систем и логоцентризма в целом. Смысл деконструкции заключается не столько в «всепоглощающем отрицании», сколько в том, чтобы пробить брешь в чрезмерной самоуверенности человека, заставить его думать иначе, «по-другому», не пытаясь преуменьшать или преувеличивать отчужденность Другого и не предпочитая идентичность различиям. Термин «различие» в этой связи означает одновременно снятие диалектического принципа оппозиции и констатацию радикального отличия, «чуждости». На этой почве и возникает всеобщее стремление постмодернистов «отделаться» от логики Тождественного, отказываясь от ложной полноты «присутствия» в пользу «радостных блужданий» ницшеанской традиции. Как отмечал Ж. Деррида, один из вдохновителей постмодернизма, в своей работе «Метафизика и насилие», Другой может открыться лишь в некоторой не-открытости, не-присутствии, а его феномен- это всегда некоторая не-феноменальность. Тем не менее, «поздний» постмодернизм явно предпочитает ситуацию «двойной» приверженности: как к Ницше, так и к Гегелю. Философия постмодерна сейчас считает необходимой корреляцию между физическим миром и духовным, прежде всего, через лингвистику и семиотику, без которых философский мир не обрел бы, прежде всего, форму. Но дело в том, что противостояние Всеобщего и Различного в философии было достаточно серьезным. Начиная с Робеспьера, во Франции абстрактное Всеобщее прокладывало себе дорогу на политическом поприще, игнорируя экзистенциональные «репризы» основного направления философской мысли. Удаляясь от индивидуального опыта человека, в обществе появлялись отчуждающие конструкции цивилизации, облегчающие процесс возникновения тоталитарного общества, а затем и потребительского. Французский философ М. Серр еще в 1974 году призывал отвергнуть Всеобщее, но все более активное взаимодействие
сообществ и культур придало Универсальному оттенок Интеркультурного. Таким образом, оказалась под ударом «неопровержимая» диалектика Всеобщего и Единичного, единственная способная оживить «плюрализованный универсализм». Парадоксально, но только благодаря релятивизму, абстрактное Всеобщее могло отступить перед конкретным всеобщим. Только релятивизируя вклад каждой культуры в ее пространственно-временном контексте, развивая отношения с Другим, между культурами, можно было обогатить человеческую мысль и увидеть в ней нечто всечеловеческое. В современной ментальной парадигме эта тенденция усилилась: желание соединять и сохранять различия, культивировать их, а не унифицировать, сочетать свою идентичность с равноценной уникальностью Другого во имя настоящей общности, а не банальной коммуникации укрепляется. И в итоге это отражается и в философии: напряжение между узкофилософским и экспансивно универсальным все более трансформируется в плодотворное равновесие между мышлением и общением. Философская модерность и постмодерность проявили определенную решимость в направлении самоограничения мысли или даже скорее поиска новых ориентиров для нее. И термину «различие» придается сегодня творческая и релятивистская сила, так как истинная философская мысль, по мнению поздних постмодернистов, начинается с отказа от упрощенного выбора либо в пользу идентичности, либо в пользу иного. Умеряя страсть к познанию, чтобы не быть раздавленной в конечном итоге знанием, которое на фоне бесконечности открывает все новые пропасти, современная философия пытается не потерять контакт с тем, что осталось от природы в нашем мире и в нас самих, какой бы абсурдной она ни казалась, так как именно она порождает нашу витальную энергию, включая желание познавать. Как писал современный французский философ Г. Дюранден: «Созерцать
существующее, «вибрировать» с другими существами без претензии их познать до конца и их изменить есть одна из составляющих мудрости».1 Чтобы избежать солипсизма, необходимо было взглянуть на Другого иначе, чем на Мое представление. Многие видели в солипсизме саму структуру разума, игнорирующего Другого в его бытии; поэтому отказ от познания в постмодернизме подразумевал, прежде всего, отказ от власти, от насилия над Другим, тем более, что все равно доступной оказывается лишь его обманчивая видимость. Ж. Деррида полагал, что путь, открытый Гуссерлем, пытавшимся определить Другого через него самого, способен удовлетворить парадоксальности самого понятия Другого. Парадокс заключается в «отношении без отношения», которое оставляет Другого в его радикальной отчужденности и неукротимости. Понимание Другого достигается именно в непонятности, в разрыве логоса, но это «не начало иррационализма, это та рана или вдохновение, которое открывает слово и потом уже дает возможность любому логосу или рационализму».2 Другой, бесконечно Другой, по словам Э. Левинаса, известного постмодернистского культуролога и феноменолога, - «объективней самой объективности».
Бытие-вместе-с-Другим, выходя за грань просто коллективности, открывает вопрос об этике, в которой необходимость в Другом не предполагает «насыщения», и которую Деррида называл этикой этики. При этом постмодернисты считают, что этика, чтобы сохранить свою чистоту ненасилия, не должна определяться в понятии. Этика парадоксальна и не может быть описана, поскольку принадлежит к сфере бесконечного. Если Левинас видел в Другом единственное существо, которого можно желать убить, то Деррида, развивая эту
1 G. Durandin. Les mensonges en propagande et en publicite. P.: PUF; 1982. p. 67
2 (Деррида Ж. Письмо и различие. М.: 2000.-е.151)
мысль, добавлял, что Другой также единственный, кто приказывает «не убий». Другой становится больше, чем фрейдовское метапсихическое понятие в современной мыслительной парадигме; он рассматривается уже не как объект, то есть нечто, что можно подвергнуть сомнению, а как другой субъект, всегда единственный и несравненный, тот, с которым Я находится в отношении сосуществования и который делает возможной идентификацию этого Я.
Понимание становления человека и развития его сознания всегда представляло актуальную проблему для антропологически ориентированной философии. Особенно поиски этого понимания обостряются в эпоху fin du siecle, в переломные моменты развития европейской цивилизации, связанные с так называемыми «концами веков». Идейная атмосфера сегодня во всей совокупности различных тенденций, обозначаемая не вполне адекватным словом «постмодерн», отражает глубокие трансформации сознания, на сей раз существенно пресыщенного антропоморфизмом. Причем, это явление исходит из сомнения в философии как в мировоззренческом единстве, способном целостно охватить реальность.
Не углубляясь в детали этого сложного гетерогенного феномена, нам хотелось бы исследовать некоторые его конкретные, прежде всего, социально значимые параметры, сквозь призму которых нам представляется интересным и возможным осмыслить постмодернизм как культурную ситуацию, выражающую существенные моменты современной действительности, и прежде всего во Франции, где феномен постмодернизма проявился наиболее отчетливо.
Для начала все же необходимо в общих чертах обрисовать черты этого периода так называемого «послевременья» в отличие от конца предыдущего столетия, именуемого эпохой «безвременья» или «беспризорности». Главным симптомом временного промежутка, когда
формировался постмодерн, считается несоответствие времени самому себе - или нашему представлению о нем, некое парадоксальное «предшествующее будущее».
Импульс для своего развития постмодернизм конца XX века нашел в постструктурализме, он, в сущности, и определял качественное своеобразие постмодернистской философии. Из широчайшего спектра проблем, волнующих постмодернистов можно выделить следующие:
-критика западно-европейской ментальности с ее логоцентризмом и стереотипным сознанием, стремящимся во всем найти «истинный» смысл и насильственно навязать его, отказ от создания концептуально-методологической основы, претендующей на роль современной парадигмы, дискредитирующей идею объективности;
-желание выйти за пределы властных структур, сконцентрированных в слове, поиск свободного пространства, которое неизбежно оказывается за гранью общества и структуры, а значит, маргинальным;
-преодоление бинарных оппозиций как противопоставления
субъекта и объекта, прежде всего, и интерпретация личности как
«самоповествование открытой идентичности»; при этом,
«экзистенциальному индивидуальному субъекту» и
«структуралистскому субъекту как центру пересечения речевых практик» постструктурализм противопоставляет коллективное Я, малую маргинальную группу единомышленников».3
-стремление выразить алогичную, иррациональную сущность мира, установка на хаотизацию, на новое заколдовывание мира, ориентация на игру и пародию, как выход за рамки структуры в зону
3 Современная западная философия. Словарь, с.243
иного: свободы, случайности, безумия, имморализма, трансгрессии как новой витальности;
-постулирование коммуникации, основанной на эмпатии по отношению к Другому, без обязательного содержательно-смыслового плана;
-эклектика в противовес любым «дидактико-профетическим» концепциям в искусстве.
Главное кредо постмодернизма - это «смерть субъекта», то есть смерть человека, закономерно пришедшая после «смерти» Бога. Естественно, это предопределяет во многом и способ восприятия постмодернистами окружающей действительности.
В постмодернизме исчезает принцип бинаризма, для него характерна рассеянность всех смыслов, он отказывается от стремления к конечной истине, которое ассоциируется у него с некой жертвенностью в ущерб своей жизни; постмодернизм признает только эмпатическое вживание в многообразие мира людей и культур - это игровой иррационализм или «смеющееся упадничество», совершенно мирное и безобидное, лишенное всяких попыток эпатировать, сокрушать устои, бунтовать, как это делали модернисты. Постмодернизм - это состояние плюральное, он слабо определим, основан на «максимуме энтропии», на равновероятности и равноценности всех конституционных элементов. Хотя, разумеется, у него есть свои приоритеты. Он с подозрением относится к метарассказам: религии, истории, науке, психологии и т.д. Это объясняется нежеланием, чтобы сознание было автоматически поглощено общепринятой системой ценностей. Это нежелание можно считать в сущности нормальным эпистемологическим сомнением, а не каким-то агрессивным постнигилизмом. Постмодернизм - это эклектика, при том бескомпромиссная, так как консенсус, считает Ж.-Ф. Лиотар, -устаревшая и сомнительная ценность, ибо имеет самые разные
последствия, в том числе, по Лиотару, может выразиться в нулевой степени культуры и привести к тотальной неразборчивости. Постмодернизм как раз и отвергает массовую культуру, хотя она во многом является следствием искаженного восприятия «любвеобильной» постмодернистской плюральное. Поскольку, как известно, идеи имеют свойство при столкновении с реальностью преломляться в сознании самым неожиданным образом, и они часто трансформируются в необоснованный прозелитизм. Существует множество примеров, когда этика того же Ницше, заимствованная и практикуемая людьми посредственными, приобретает совершенно извращенные формы. Как писал французский критик П Судэ: « Заратустра говорил не для всех».4
Цель постмодернизма - в принципе глобальна и амбициозна -изменить привычную манеру думать, преодолеть логоцентризм, избавиться от метафизики, как «банальной, исторически хорошо детерминированной педагогики», по выражению Ж. Дерриды. Постмодернисты хотят фактически создать новую витальность, ничего при этом не сломав, бережно оберегая реальность.
Для более или менее эксплицитного обозначения постмодерна многие исследователи проводят компаративный анализ этого явления, сопоставляя его с модернизмом, используя как бы метод доказательства от противного. Возникновение постмодерна связано с освоением опыта модерна и одновременно с критикой неоклассической философии (марксизма, психоанализа, структурализма) и, конечно же, предшествующей ей классической парадигмы с ее «когнитивным натурализмом». Точнее, это даже нельзя назвать критикой, просто постмодерн достаточно равнодушно и пассивно констатирует их «бессмысленность». Постмодернизм изначально ищет энергию, а потом только знание. Некоторые исследователи сравнивают модерн с
4 P. Souday. Andre Gide. Les documentaries. P; 1927; p. 35
«алкогольной» культурой, а постмодернизм - с «наркотической». Полагая, что для алкогольной культуры характерна навязчиво-агрессивная самоуверенность, а для наркотической свойственно квиетическое миролюбие и «трансцендентальный эмпиризм», желание «слиться с объектом». Постмодернизм возвращается к этимологии слова cultura как заботе о природе. Одновремено он отвергает какую-либо ожесточенную технофобию; техника признается неоспоримым фактом культуры, но должна сдерживаться экопроцессами, сознающими уязвимость естественных природных структур. Современный немецкий философ П. Козловский трактует постмодернизм как «рассеянный, незавершенный» модернизм, признавая, тем не менее, что между ними имеется много существенных стилевых различий. В любом случае, подчеркивает П. Козловский, постмодернизм в отличии от модерна отказывается от претензий на элитарность и от всяких просветительских претензий и сверхнаучных задач. П. Козловски апеллирует к позднему Фихте, по мнению которого, разум не может претендовать на всеохватность и абсолютность, так как всегда соотносится с чем-то иным, что не есть он сам. С другой стороны, постмодерн не стремится грубо и безапелляционно избавиться от гегелевского наследия, которое включало в себя попытку исследовать иррациональное и сделать его составной частью «расширенного разума». М. Мерло-Понти, в частности, считал безотлагательной необходимость вернуть «неблагодарные доктрины», иррационалистов снова к Гегелю, которого они пытаются тщательно забыть.5 Это говорит о попытке современного, сегодняшнего постмодернизма синтезировать противоположное: атеизм и теологию, метафизику и диалектику, Гегеля, Ницше и психоанализ. Одновременно постмодернизм извлек на свет последнюю интерпретацию Гегеля, которой занимался А. Кожев. Согласно новой
5 (М. Merleau-Ponty. Sens et non-sens. P.: Nagel; 1948. p. 109)
трактовке его творчества, по-настоящему диалектическая мысль как раз направлена от разума к противоположному, к Иному, без сведения Иного к Тождественному. Поэтому, по мнению постмодернистов, чтобы впитать органично рациональное и иррациональное, разум должен расшириться и вместить в себя еще и безумие, как «мирское» вмещает «священное». Такой исход превратил бы обыкновенный разум в подлинную мудрость, «абсолютное знание». Концепция Кожева заключалась в стремлении побудить философов перестать быть тиранами духа, подменяющими стремление к знанию, интеллектуальное беспокойство «прагматическими определениями истины». Кожев в своем «Введении к чтению Гегеля» писал, что для того, чтобы выносить любые оценочные суждения, «нужно, чтобы История закончилась». Постмодернизм отрицает любые формы тоталитаризма и догматизма, причем даже, не бросая им вызов, а просто игнорируя их. «Там, где абсолютное приравнивается к конечному, там возникает тоталитаризм, ужас конечного, который искусственно превращается в бесконечное. Это господство ужаса перед реальностью конечного может быть преодолено в рамках агностицизма только с помощью анархизма, то есть, вседозволенности, так как в самом агностицизме нет подлинной духовной опоры для сопротивления конечному, которое притязает стать Абсолютным», пишет П. Козловский, предостерегая вместе с тем, что при анархизме рождается нигилизм, способный закономерно вызвать тотальный общественный упадок.
Абсолютное господство разума, с точки зрения постмодерна, -это неудавшаяся программа модернизма, так как. разум не есть Абсолютное; тем не менее, выдвигая абсолютные притязания над всем отличным от него, рацио устанавливает отношения господства, но не примирения, что особенно важно, так как центральным понятием в постмодернизме является Иное и Другой.
На сегодняшний день видно, насколько Фома Аквинский идеализировал разум, считая, что ему под силу примирить всех своей универсальностью: и язычников, и еретиков, и католиков. Разум слишком ограничен, особенно, что касается восприятия того, что ему не тождественно. Ж.-Ф. Лиотар и А. Глюксман видели тотальный характер господства разума особенно в немецком классическом идеализме. Если в идеализме бытие тождественно познанному бытию, то непознанное бытие, а именно, существование Иного или Другого, естественно, ставится под сомнение. Это и есть солипсизм, в котором бытие Другого неизбежно сводится к представлению. В экзистенциализме, напротив, Иное начинает подвергать опасности Тождественное. Человек воспринимает себя детерминированным извне, и поэтому без конца теряющим свою идентичность. «Негативность резюмирует новый статус сознания..., бытие сознания мыслится как «диалектическое»».6 В итоге утверждаются три взаимосвязанных постулата: позитивность бытия, гуманизация ничто и негативность свободы. Эту «диалектическую» философию, отождествлявшую желание и чистую негативность, оспаривает «философия желания» Ж. Делеза. Ж. Делез утверждает, что немецкий идеализм, с одной стороны, пытался мыслить абсолютное, с другой- воспринимал собственное мышление как абсолютное, то есть, в данном случае, ставил категории мышления выше абсолютного. В немецком идеализме понятие ничего не знает об Ином; чтобы утвердить Иное, нужно выйти за границы понятия. Отсюда - весь тот спектр имплицитных средств, включая вымышленные формы в литературе и искусстве, которые используются в постмодерне для этих целей.
Итак, постмодернизм утверждает эзотерику и эклектику во всех формах знания, анархию стилей и направлений мысли, реализм вместо материализма и идеализма, «одухотворение материи и материализацию
6 V. Decombes. Philosophic par gros temps. P.: Ed. Minuit; 1989.- p. 28
вымышленного», взаимопроникновение вместо обособленности и противодействия. Постмодернисты считают, что открытие новых пространств не играет особенно существенной роли, что истина «скользит», и разум, наука не могут ее ни сохранить, ни передать; это под силу только литературе и искусству как косвенным средствам выражения.
Поэтому представляется интересным в данной работе рассмотреть также проявления идейной атмосферы постмодерна в области литературы и искусства, которые в любую эпоху являются индикаторами состояния общества, а в постмодернизме уже сознательно не отделимы от философии. Отсюда как раз и проистекает эстетизация всех социо-культурных сфер в постмодерне. Постмодернисты не противопоставляют искусство и любую другую реальность, а помещают все в единое бесконечное игровое пространство. Их тактика, по сути, заключается в тотальной игровой практике взамен, в противовес любым революционным протестам. Когда А. Кожев в своей антропологической интерпретации панлогиста Гегеля прочил конец истории и начало постистории, он имел в виду ситуацию, когда уже не происходит ничего нового. Человек перестает меняться, значит, теоретически исчезают философия, революции, войны, значит «больше нет причин менять принципы, лежащие в основе познания мира и Я. Все же остальное может бесконечно меняться: искусство, любовь, игра...Все, что делает человека счастливым».7 Одним из теоретических источников постмодерна, наряду с постструктурализмом, являются идеи так называемых «новых философов», которые также дходили в число почитателей А. Кожева, наряду с Ж. Батаем, П. Клоссовски, Ж. Лаканом, А. Койре, М. Мерло-Понти и А. Бретоном. Как известно, в начале 80-х «новые философы», например, А. Глюксман и Б.-А. Леви, не без
7 Kojeve A. Introduction a la lecture de Hegel. P.: 1947, p.301
некоторого эпатажа утверждали, что бог мертв, природа умерла, политика мертва, наука мертва, экономика мертва, труда больше нет, искусств умерло, философия умерла, Маркс мертв, социализм мертв и, таким образом, «абсолютная смерть - это объективное настоящее человечества»8 Их философия тяготела к полному разрушению границ между эстетикой, литературой и искусством, что оборачивалось своего рода пародией на эссеистику, карикатурным вариантом облегченной «эстрадной» философии, суперполитизированным «философско-эстетическим вестерном». «Новым» философам были присущи фрагментарность, отсутствие систематичности и каких-либо приоритетных тем. В политическом плане они, пользуясь изобретенным Б.-А. Леви методом «симптоматического чтения» Маркса, утверждали, что пролетариат - это «невозможный класс», он не существует, не существовал и не может существовать никогда. Не существуют и народные массы как субъект истории, есть только «безответственный плебс». По мнению «новых философов», история движется по замкнутому кругу, так как в самой природе человека заложена двойственность: предустановленное деление: хозяин и слуга», «учитель и ученик». Причем, роль «хозяина» отдается тем, кто обладает капиталом; отсюда и вывод, что «капитализм непреходящ, капитализм -это конец истории».9
Что касается гносеологических проблем, то «новые философы» утверждали, что рациональное познание мира практически невозможно, так как мир существует лишь в фантазиях, фантастических видениях, символах, воображаемом, потустороннем; есть только слова, понятия, образы, идолы и мифы. Они провозглашали «культурную революцию», но, с их точки зрения, - это - революция в душах, «борьба внутри
8 Levy В.-Н. Labarbarie a visage humain. P.; 1977, р.138.
9 Levy В.-Н. Ibid., p. 132
каждой души», которая и приведет к возникновению «новой культуры» или «антикультуры», освободившейся от «сатанинского наваждения» науки и разума. Утверждая, что «всякая эрудиция тщетна», «новые философы» поставили под сомнение необходимость даже всеобщей грамотности, видя в ней лишь «власть алфавита», якобы подавляющую своим рационализмом витальные порывы. Вся сущность мира виделась им в чувстве, а не в мысли, в вечной бессознательной мировой душе, на их взгляд, образующей фундамент культуры.
Постмодернизм оторвался от «новых философов», пытаясь преодолеть их реакционность и крайности, как и в случае с модернизмом. Представители постисторического рационализма приходят к вполне справедливому выводу, что говорить о Ином Разума, можно лишь, выбирая разум. Дуализм разума и Иного считается ими исключительно логическим, поскольку смысл здесь определяется только непротиворечивостью, а значит, всякое логическое манихейство необходимо свести к абсурду. Философия жестко и радикально выбирающая разум, объявляется враждебной жизни. Но В. Декомб, историк философии проводит следующую линию рассуждений: ложное суждение не могло бы быть таковым, если бы не имело смысла, настолько ясного, чтобы он мог открыть содержание мысли. То есть, считает философ, мы обязаны признать рациональность даже ложного суждения, и невозможно признать что-то иррациональным, не обладая всей полнотой знания. «Энциклопедия как раз представляет объединение того, что каждый считает истинным, не будучи шокирован тем, что в большинство статей регулярно вносятся изменения», пишет В. Декомб.
Касаясь темы Тождественного и Иного, постмодернисты исходят из желания различить Бытие и Ничто, так как без этого различия не было бы и самого Бытия. Так, впрочем, считал еще А. Кожев. Однако
постмодернисты полагают, что тождественное не всегда является самим собой, оно бывает и Иным. Именно различие позволяет Тождественному быть самим собой. «В более общем виде полагать Тождественное можно, лишь полагая его иным, чем Иное».10 Отличным от вещи является именно понятие. Поэтому, говоря о мире, любой философ говорит об ином, о том, чем он не является. Таким образом, современная философия приходит к вопросу о случайности слова, к мысли о том, что любая попытка синтезировать как-нибудь бытие и сознание обречена на провал. Мысль о различии, отказывающаяся редуцировать Иное к Тождественному, связана с попыткой создать «трансцендентальное поле без субъекта», нейтрализовать его как абсолютное ego, выдвинув на его место нечто безличное. Эта идея обосновывалась в свое время структурализмом. В этом смысле структурную лингвистику Ф. де Соссюра, структурную антропологию К. Леви-Стросса и структурный психоанализ Ж. Лакана также следует рассматривать как теоретические источники постмодернизма. Излюбленным объектом структурного анализа, прежде всего, как метода, являлось Иное и его проявления в мифах, снах, табу и безумии, которые объявляются носителями определенных истин. При этом структуралисты считали, что язык может правильно воспроизвести переживания Иного. Исходя из этого, они стали говорить о дискурсе самой «вещи», что, в свою очередь, способствовало возникновению дискуссий о «смерти человека». Структуралисты, пытаясь отождествить язык с коммуникативным кодом, в результате обнаружили, что в отличие от кода язык не конструируется. Интеллектуально объяснить правильное употребление языка пока невозможно. Так что структуралистам удалось лишь продемонстрировать, что означающее не подчиняется человеку. В конечном итоге они пришли к мысли, что миф и рацио неразрывны: и
V. Decombes. Op. cit, p. 43
тот, и другой в чистом виде не существуют, «мифы исполнены рационального знания, а рациональное знание состоит из грез и иллюзий».11 Из этого следует, что если по мифу реальность нерациональна, то рациональное все равно входит в состав реальности. Миф в принципе учит нас тому, что рациональное - это чудо, пишет М. Серр. Другой видный структуралист К. Леви-Стросс даже ставил своей задачей создание - суперрационализма, объемлющего все то, что «в нас и в других предшествует разуму и превосходит его», так характеризует его концепцию М. Мерло-Понти в одноименной работе. С точки зрения Леви-Стросса, безумие это то, что превосходит разум, а первобытная архаика ему предшествует. Эти идеи структуралистов дали импульс постмодернистам М. Фуко, Р. Барту, Ж. Дерриде, Ж. Делезу, Ф. Гваттари и др. к разрушению традиционной логики тождества, к соединению различного, приданию смысла иррациональному. Именно поэтому один из главных принципов постмодернизма - создание новых способов смыслообразования, новых способов мышления.
Ж. Делез утверждает: «вне текста нет ничего, и все, в конечном счете - политика». Языку власти постмодернизм противопоставляет различия и множественность смыслов, достигаемых с помощью реконструкции текста. Если в свое время Аристотель утверждал, что язык- это репрезентация разума, всего лишь разума, то постмодернист Ж. Лакан отвергает безоговорочный авторитет рацио: cogito ergo sum в его глазах не более, чем «пошлая самоуверенность дантиста»; иронично рассматривает саму философию как литературный жанр, «умение терминологического переключения гештальтов», свидетельствующее об устарелости языка, а не о ложности высказывания. В этой ситуации задачей философии становится в большей степени критика культуры, а не реальности. В любом случае, homo loquens- человек говорящий,
11 М. Serres. La traduction. P.: Minuit; 1974.- p. 259
12 M. Merleau-Ponty. Tristes tropiques. P.: Plon; 1955.-p. 50
лишенный чувств и эмоций, являющийся сгустком языковых структур, исключается постмодернистами. Хотя для постмодернизма в целом характерен антропоморфизм, но уже без самовосхваления присущего гуманистам эпохи Возрождения.
Если с точки зрения традиционной риторики: правдоподобие -это соответствие общественному мнению - доксе, то уже в начале XX века Г. Фреге а потом и приверженцы философии языка проводят различие между смыслом выражения и его объективным значением, денотатом. Р. Барт писал, что будущее за лингвистикой коннотата, поэтому он и исследовал «вторичные системы смысла» - «мифологии». Р. Барт считает, что любое слово, любой текст содержит в себе миф, и любое текстовое пространство всегда конфликтно. Но в мифе смысл предстает в двойственном виде, будучи одновременно и смыслом и формой. «Да, я считаю так, ибо наш мир бесконечно суггестивен. Любой предмет этого мира может из замкнуто-немого существования перейти в речевое состояние, открывающееся для усвоения обществом...». И так как метаязык универсален, он отнимает у вещи ее сокровенную сущность, первозданную интимность, включает ее в бесконечную цепь искусственных отношений, делая ее, вместе с тем, многоликой и подвижной. Смысл явления в реальности всегда заключает в себе целую систему ценностей. В языковой же форме все богатство смысла устраняется, и форма тоже беднеет, ее нужно наполнять новым значением. Хотя, признает Р. Барт, в «полноте» смысла может содержаться опасность. «Новое значение», оторванное от реального смысла явления, в лучшем случае абстрактно, не имеет даже внятного имени, в худшем случае, оно искажает смысл. Все это ведет к тому, считает философ, что язык может стать не только средством политического влияния, но более того - террором. Таким образом, слово
Р. Барт. Семиотика и поэтика, с. 682
для человека отнюдь не такая уж доступная форма экзистенциального выбора. Язык сам может активно производить смысл, ставя человека в зависимое, беспомощное положение.
Это ощущение беспомощности словесного самовыражения ощутил еще А. Арто, один из крупнейших представителей «литературы абсурда», оказавший огромное влияние, как на модернистов, так и на постмодернистов, в свое время принудительно лечившийся на протяжении 9 лет в психолечебнице, а ныне фактически «канонизированный».
Впервые же Французская Революция 1848 г. отбросила претензии классического языка на универсальность; «флоберизация» письма сделала акцент на новую форму, а не на содержание. Затем С. Малларме заявил, что для того, чтобы изменить мир, нужно сначала изменить язык. Необходимо породить письмо и дискурс, которые обратятся к объективному миру, не заслоненному образами, создающимися в ходе исторического и социального общения. Несловарные значения слов должны в постмодернистской философии получить перевес перед общеупотребительными, коннотат должен иметь приоритет перед денотатом. Имея в виду социальный контекст использования языка, отечественный исследователь языка Ю. Лотман подчеркивал: «Именно власть или борьба за нее порождает характерные типы письма. Литературная революционность при этом не совсем соответствует социальной».14 Бесспорно, нужно иметь в виду, что всякий эксперимент с языком упирается в целый ряд социальных величин. Даже индивидуальная асоциальность так или иначе вписывается в различные
*
стратегии социальности. Сама читающая публика побуждает автора отречься от внетекстуального существования.
Ю. Лотман. Семиосфера. с. 333
Яркий предшественник постмодерна, упоминавшийся выше А. Арто, «гений рубежа», один из первых чувствовал мысль как невозможность мыслить. Критики считали, что стихи Арто являют собой крах мысли, который он болезненно предчувствовал и гораздо раньше и острее других воспринимал неуловимость смысла. «Я гоюрю из глубин, безо всякого просвета, из ледяной муки, без единого образа, без единого чувства, это неописуемо, как спазм выкидыша». Он писал к Ж. Ривьеру, своему издателю: « в тот обморочный миг, когда задуманное вот-вот выплеснется, какая-то высшая, злобная сила вдруг кислотой окатывает тебе всю душу, весь запас твоих слов и образов, весь запас чувств и опять оставляет бессильно содрогающимся комком на самом пороге жизни». 5 У Рильке можно найти строки о том, что нет смысла мельчить словами, лучше отдаваться самым крайним испытаниям чувств. М. Бланшо также развивал эту излюбленную постмодернистами тему несовпадения мысли и намерения мыслить; он отмечал, что думать - еще не значит иметь мысли и мышление, мысли как раз предупреждают человека, что думать он еще и не начинал. Бланшо считал, что нет полноты бытия, а есть лишь «раскол, грызущая исподволь разорванность и отрешенность....Нехватка бытия, беспрестанная нехватка, которая делает жизнь ускользающей, недоступной и выразимой только одним: воплем жестоко обездоленного». «Мне отказано в жизни!.... Я так и не дохожу до мысли», цитирует философ А. Арто. 16 Но примечательно то, что в этой беспомощности постмодернисты уже видят беспредельную мощь, в этих страданиях, в конечном счете, доказывают они, и рождается мысль. И если А. Бретон в творениях А. Арто видел словесный дебош (существовало даже такое выражение как «казус Арто»), то современная
15 Портрет в зеркалах/7ИЛ №4; 1997, с. 221
16 Blanche* М. Le livre a venir. P.: Gallimard; 1959.-p. 34
постмодернистская философия признает его стихи, пьесы, театральные манифесты, письма одним из основных источников своего вдохновения. Множественность форм знания оценивается постмодерном как альтернатива сциентизму. П. Козловски полагает, что наука сегодня лежит между ультрареализмом и фиктивностью. С одной стороны, -теория копирует действительность, с другой стороны, - моделирование и конвенция используются как важный метод формирования знания. Поскольку Вселенная состоит из процессов, очевидно, что из процесса изучения или наблюдения Вселенной нельзя исключать изучающего. Это делает познание дедуктивным, что в известной мере, искажает реальность и наносит ущерб познающему. Ю. Лотман в этой связи в своей работе по семиологии отмечал, что тенденция к умственному потребительству, принятие готовых истин в готовых сообщениях о чужих умственных усилиях ведет к социальной пассивности, к деградации интеллектуального потенциала. Получение информации извне опасно, подчеркивал он, мысль всегда внутри нас и наоборот. Ю. Лотман отстаивал положение, принятое еще античными скептиками о том, что истинная природа недоступна познанию именно из-за своей непрерывности; культура же все фрагментирует и вырывает эти фрагменты из потока бытия. Примечательны взгляды на познание самих естествоиспытателей. Многие современные исследователи большое значение придают озарению, которое они воспринимают, как чистое сознание без «я», как освобождение от причинно-следственных связей и бинарных оппозиций. Между тем, до XVII века бинарных оппозиций, мешающих целостному познанию, вообще не существовало: у стоиков, например, была троичная система знаков - означаемое, означающее и случай. Мысль, логически оформленная, в трактовке современных ученых, представляет собой всегда некую «окаменелость» духа. Постмодернисты полагают, что человек может воспринимать реальность
интуитивно как целое вне времени и пространства, они дистанцируются от аналитического восприятия, дробящего мир по аналогиям и оппозициям. В этой связи они апеллируют к восточным, мистическим учениям, в частности, к дзен-буддизму, который также исходил из единства всех вещей и идеи сингулярности мира и пытаются примирить недискретность бытия с дискретностью сознания. Примечательно, что современное естествознание, физика, в частности, все более активно сливается с метафизикой, мистикой, эзотерикой, прежние предрассудки становятся легитимными. Как пишет известный филолог- и публицист А. Генис, «физики без метафизики нам не хватает, а метафизика без физики нам не нужна».17
В этом контексте Р. Генон писал о возможности мирного сосуществования Востока и Запада, как общей суммы сверхчеловеческого знания. Будучи французом и одновременно крупным мусульманским теологом XX века, он довольно саркастично замечает, что «Европа страдает от того, чем она больше всего гордится. Называя европейскую цивилизацию делом Разума, на самом деле пытается скрыть интеллектуальную нищету и убогость европейца, у которого, наоборот, сентиментальность развита настолько, насколько вообще это возможно, а о подлинной, интеллектуальной культуре в Европе давно уже никто не имеет даже самого отдаленного представления».18 Интересно, что Линь в переписке с А. Мальро, которая лежит в основе «Искушения Запада» последнего, замечал, что в душе европейского человека коренится изначальный абсурд, который и сдерживает все жизненные порывы. Поэтому то на Западе сюрреализм и считается «последним проблеском европейского разума, его последней интуицией». Возможно, традиционный культ разума в Европе и
17 А. Генис. Вавилонская башня, с. 163
18 Р. Генон. Очерки по метафизике. Спб.: Азбука; 2000.-е. 10
19 С. Сонтаг. Мысль как страсть, с. 155
объясняется ее исконной сентиментальностью, не дающей ему выйти за свои пределы и больше не скользить «по поверхностям», а проникнуть в «метафизические» глубины познания, опираясь также и на восточную духовно-мистическую практику. К сожалению, внутренняя потребность европейского рацио в восточном квиетизме ограничивается рамками всеобщей моды на восточное, то есть опять же поверхностями, не допускающими «высшего отождествления». Линь, говоря о коренном отличии Востока и Запада, отмечал: «вы подвергаете анализу все, что пережили, мы мыслим, чтобы переживать».20 В качестве примера скольжения «по поверхностям», за которым скрывается политическая цель- замаскировать суть социальных отношений, является, как считает Р. Барт, использование языка буржуазией. Если признать капитализм историческим типом общества, которое стремится предстать в качестве всеобщего и, следовательно, преодолеть себя как конкретную социальность, то борьба с социальностью на деле может оказаться ее усовершенствованием. В своей книге «Мифологии» он отмечал полное исчезновение слова «буржуазия» из политической лексики и идеологии буржуазии, как репрезентации реальности. В то же время это слово выглядит вполне употребительным, когда речь идет об экономике, о мире вещей, но не ценностей. В этике же буржуазия предпочитает анонимность, продолжая активно продуцировать смысл, коллективные образы, маскирующие социальные различия. Постмодерн в этой связи совершенно четко относит язык к сфере политики и с пристрастием анализирует его проявления. Однако социальный радикализм, даже в литературе и философии, постмодернисты отвергают, так как, по их мнению, он делает культуру еще более рациональной, потребление еще более дифференцированным; они предлагают вместо революции более или менее аутентичные образы революционности. «Мне нечего сказать
20 А. Мальро. Зеркало лимба. М.: Прогресс;
21 М. Рыклин. Террорологики. с. 43
об обществе, в котором политики говорят о мире, когда им грезится война, о законе - резня, о благородстве, самопожертвовании и
рыцарстве, когда им грезится бог весть что». В громких словах теряется смысл. Они завораживают своим недосягаемым идеалом как мирские утопии; но, не взирая на утопичность, содержат в себе колоссальную двигательную силу. В «громком» слове заложен как будто бы некий подавленный коллективный фантазм, создавший целую культуру логоцентризма, которым постепенно люди начали тяготиться. Ж. Полан замечал, что военные никогда не узнавали себя в книгах, описывающих их подвиги. Первым человеком, испытавшим на себе войну и облекшим ее в текстуально адекватную форму, является на сегодняшний день «культовый» Л.-Ф. Селин. Характерной чертой его стиля являлись поистине бесконечные многоточия, оборванная предельно натуральная разговорная речь, за что он и был столь презираем представителями изящной словесности. Селин отвергал сакральное: «в начале было слово», справедливо отдавая приоритет эмоциям. Он не понимал, зачем нужно с такой картезианской маниакальностью стремиться к ясности и отчетливости, если подлинный смысл, который во многом удавалось тонко навеять мистикам и романтикам, все равно окажется «за кадром». Селин считал, что в мире настолько все сделалось банальным, включая войну, боль и смерть, что ничего не остается кроме поиска экспрессии, шокирующих красок, желания писать «без фраз». Даже спустя 40 лет после его смерти он остается самым ненавидимым и одновременно признаваемым гениальным «философом отчаяния на грани цинизма». Его законченная благоприобретенная мизантропия, .возможно, была обусловлена желанием вызвать своим творчеством реальное физическое ощущение боли, отвращения, животного страха, которые рождает соприкосновение со смертью, а отнюдь не героически-возвышенные или
22 Ж. Полан. Тарбские цветы, с. 37
индифферентно-сочувствующие ощущения, которые рождает война, как слово. Современники, даже Сартр, Бретон, Камю, видели в нем коллаборациониста, антисемита, дезертира, иногда даже душевнобольного, его судили и держали в тюрьме, но сейчас он признан обладателем «самого могучего лирического дара за всю историю французской культуры», фактически вторым Франсуа Вийоном. Такое посмертное признание для французов далеко не типично. Но все же думается, что оно не связано лишь с чисто постмодернистским эстетским тяготением ко всему «проклятому» в литературе и философии от маркиза де Сада до Ж. Батая. Скорее всего сама эпоха на данном историческом этапе начинает проникаться именно всем неоднозначным, выходит за рамки контрастов, жесткого противопоставления добра и зла, за которые вышеназванные мятежные фигуры вышли раньше всех, олицетворяя собой образ Другого, ставшего в сегодняшней философии самым пристальным объектом интереса и симпатии. Настолько, что даже слово объект звучит здесь неуместно, слишком в духе классической парадигмы. Но ведь очевидно, что трудно создать хорошую философию, литературу, апеллируя только к разуму и добрым чувствам. Этот взгляд в постмодерне стал уже фактически общепринятым. История обычно все в таких случаях расставляет по местам. Достаточно вспомнить Л. Толстого, отрекающегося от «Анны Карениной», и в искупление писавшего брошюры о нравственности и вреде табакокурения, память о которых сохранилась только как исторический анекдот.
Критика западно-европейского логоцентризма
Сегодняшняя проблема социальной пассивности и, зачастую, деструктивности, связана во многом с таким фактором социальной жизни, как власть. Основной признак власти сегодня на западе - это кажущееся отсутствие власти, незаметность, как уже было сказано выше. Это в какой-то мере закономерно, так как теперь контролировать ситуацию вполне можно, лишь впитывая в себя все противоречащее и враждебное. Поэтому, считают постмодернисты, именно мнимые волюнтаристы ведут сегодня борьбу против свободы. Одновременно, чтобы оказывать сопротивление власти, постмодернисты, избегая логики власти, пытаются совершить мистический акт отказа от всякой политики, отождествляя себя со своим противником, как проповедовали стоики, войны Шао-линя и индийские йоги. Возникает, таким образом, достаточно парадоксальная ситуация, когда поиски согласия ведутся вне политики, вне полиса, вне общества. В постапокалипсисную эру, когда все приходит в упадок, природа мстит человеку за себя различными катастрофами, а производству не нужны больше рабочие руки -возникает состояние униженности и потерянности, которое, как известно, порождает традиционно взрывоопасность. Правда, на сегодняшний день, пожалуй, только антиглобалисты играют главную роль субверсивных элементов. В современной повседневности власть научилась создавать некий идеальный противовес своим оппонентам, а именно - коллективный нарциссизм, «стадное самопрославление». И с этого момента рождается homo festivus и новая эра, которой французский социолог Ф. Мюре дал название гиперфестивной. Даже на примере нашей страны можно наблюдать специфическую ситуацию, когда праздники перетекают в праздники, фестивали, дни города, олимпиады и т.д. При этом сложно отделаться от впечатления, что происходит назойливая демонстрация веселья, нарочитой и вынужденной беспечности, которая вовсе не является культом детскости и вселенской ювенильности, за которую ратуют постмодернисты;- это его подделка, психургия, как способ воздействия на массы. Правящий класс по-прежнему пытается «контролировать вульгарную материю, в обмен, давая на откуп массам концепции, идеи метафизического спасения», в которых материальные удовольствия испытываются лишь после смерти; либо предоставляют возможность массам примитивно развлекаться. К сожалению, современный массовый субъект часто предпочитает не индивидуальную свободу, а довольствуется массовыми увеселениями. В результате на Западе праздники уже постепенно превращаются в будни, в тоскливое «дежавю», обесцениваются. Политические акции, предвыборные кампании, манифестации, демонстрации протеста уже напрямую связаны с аниматорством, сопровождаются концертами и увеселениями, которые призваны подспудно давить .на простодушные, «потерявшие политическую бдительность» массы. Безусловное принятие актуальности, лишенное всякой критичности, возможно всегда было присуще большинству, но сегодня оно сильно гипертрофировалось. И все же хотя здоровый сарказм уступает место нездоровой погоне за позитивностью, однако, по словам Ф. Мюре, благородный трагизм человека импонирует, как правило, несколько больше, чем счастливый идиотизм. Во всяком случае, в современных литературе и искусстве снова всплывают мотивы социальной иронии, протеста против того, что такие простейшие проявления жизни, как любовь, работа и т.д. все больше поглощаются экономической конкуренцией. Что касается веселья, то оно должно быть подлинным, а не подменять подлинность; номинализм должен чуть-чуть доминировать над реализмом, в противном случае создаются предпосылки для безнаказанного прибегания к террору, формирования зомбированной личности и зомби-бытия. Собственно этим сегодня занимаются не столько политики, так как они серьезно потеснены на сцене мировой активности, сколько властная структура СМИ - «циркачи телевидения», как называл их пренебрежительно Л. Альтюссер. Писатель и публицист Ж. Бернанос считал, что деспиритуализация возникла не как противоестественное слияние тоталитаризма с демократией, а как синтез трестовского режима с либеральной фразеологией. Власть сейчас принадлежит тем, кто несет слова и видеообразы, достаточно тонко и дипломатично фальсифицируя и пропагандируя. Правда, сегодня люди уже меньше падки на слова как раньше, когда слова «свобода», «республика» могли поднять их на восстание; но власть продолжает добиваться, прежде всего, «сплоченного безмолвия» масс. Она умело играет и на различных страхах человека, так как агорафобия, страх перед толпой, боязнь прикосновений, мезафобия становятся одними из распространенных на сегодняшний день психических отклонений. Слишком мало места остается для самоощущений отдельного человека, - в толпе исчезают все различия.
В этой ситуации в качестве альтернативы массовому человеку появляется другая крайность - самодостаточный, обособленный, сросшийся с компьютером или ТВ, индивид. А завуалированная власть тем временем тривиализирует неординарные мировоззрения «мятежных» поэтов, насаждая одновременно цинизм и довольно жалкий, пошлый морализм. «Под видом нарушения табу, аморального волюнтаризма, притворяясь внуками маркиза де Сада, наследниками Ж. Батая, троюродными братьями А. Арто», власть имущие создают единомыслие, замутняя трезвый взгляд на социальную среду.23
Маргинальность постмодернизма: имморализм и трансгрессия
Целесообразно было бы в контексте «раздробленности» человека осветить вопрос, связанный с проблемой имморализма в XX веке как следствием постфилософской неопределенности и интереса философии к маргинальному, иному и другому. Собственно постмодернизм и есть феномен маргинализма. Свое начало маргинализм берет еще в философии Антисфена, основателя кинизма, первого, кто осознал пограничность нравственности.
Чисто лингвистически маргинальность - это то, что лежит за гранью или находится на грани. В философском смысле маргинализм создает противовес доминирующим правилам рациональности и морали; вместе с тем, это понятие эквивалентно асоциальное и экстремальности одновременно. После Антисфена его «вдохновителями» следует считать Ницше, де Сада, Арто, Русселя, Гельдерлина, Нерваля. Позже феномен маргинализма был переосмыслен, в частности, тайным обществом «Ацефал» Ж. Батая, М. Блашо и др., стремившихся достичь высшей точки внутреннего опыта и познания в запретных и табуированных областях. Очевидно, что и сюрреализм, дадаизм, эпистемологический анархизм М. Фуко и шизоанализ также являются разновидностями маргинальной философии и искусства и теснейшим образом связаны с интересом к злу, ужасу, безумию, демонизму, патологии, отвращению, аморализму, пороку, жестокости, к эстетике безобразного. Приверженцы этих направлений в философии и искусстве считают, что, не взирая ни на что, человек остается деструктивным и именно поэтому нужно анализировать и исследовать все его «опасные» состояния. Более того, философы-маргиналисты полагали, что зло благотворно особенно в искусстве и необходимо бороться с литературной цензурой, так как зло, изгоняемое из искусства, усугубляется в реальности, порождая в частности такие проявления, как жестокость и ксенофобия. В среде обывателей мораль была «инъекцией шоколада», по словам дадаиста Т. Тцара, ее издержек они не замечали. Ж. Батай в своем «Внутреннем опыте» писал, что не будь ночи, все жили бы в одном обманчивом свете. Ночь - это тоже солнце - говорил также ницшеанский Заратустра. Мораль для маргиналистов не представляла никакой ценности без своего антипода. «Я разрушаю выдвижные ящички мозга, равно как и полочки социальной организации, нужно разрушать мораль повсюду, бросать небесную десницу в ад и поднимать глаза из ада к небу, восстанавливая плодотворное вращение мирового цикла в реальных возможностях и в фантазиях каждого индивида», - писал Т. Тцара в Манифесте Дада 1918 года. Действительно, многие этики полагали, что говорить о морали-значит уже ее делать, между тем, проповедовать мораль, в сущности, также аморально, как обличать, не давая панацеи. Маркиз де Сад в свое время заявлял, что счастье конечного существа связано с энергией принципов, а вовсе не с их воздержанием, истинным или ложным. Люди пытаются замаскировать свое предчувствие смерти в вялом процессе старения, но все же каждый хочет, по возможности, увеличить интенсивность жизни, придать ей насыщенность. «Ты жаждешь, чтобы вся вселенная стала добропорядочной и не чувствуешь, что все погибло бы в тот самый момент, когда на земле остались бы одни добродетели, ты не хочешь понять, что, так как пороки обязательно должны существовать, несправедливо было бы тебе карать их - это было бы все равно, что смеяться над одноглазым....Наслаждайся, друг мой, наслаждайся и не суди.... Наслаждайся, говорю я тебе, и представь природе самой вертеть тобой по своему разумению, а Богу - наказывать тебя».36 Источник движения заложен изначально в противоположностях. Ж. Батай писал о «бракосочетании ада и рая» У. Блейка, что для бытия человека необходимы и влечение и отвращение, и мысль и действие, любовь и ненависть. Бог всегда будет наказывать человека за действие. Жизнь представляет собой действие и проистекает от тела, а мысль неотрывно связана с действием и служит ему оболочкой. Действие - это «Вечный Восторг». Зло является утверждением свободы, свобода Зла является ее отрицанием, это своеобразная диалектика, не подчиняющаяся никакой скучной логике. «Неподражаемое безразличие, детскость, непринужденность в «невозможном», тревога, не касающиеся отваги, ...на всем лежит печать возврата к утраченной простоте», считает Ж. Батай. Современные постмодернисты полагают, что опыт литературы в гораздо большей степени, чем опыт философии, выходит за рамки власти, рацио, Тождественного; литература «играет». Власть же всегда, сегодняшняя еще больше, стремится к анонимности, маскируется под свободу, даже под анархию. М. Бланшо считает, что подлинный отказ от власти делает литературу по-настоящему могущественной, так как она выражает философию, где отношения с Другим складываются как отношения «бытия к бытию, а не познания с познанием» - подлинная философия отражает Иное через участие в нем. Власть же всегда претендует на то, что она естественна и имеет только потребительскую стоимость. Р. Барт говорил, что дискурс власти всегда стремится вызвать у адресата чувство вины. Ж. Батай, продолжая эту тему, исходил из мысли о пагубности вины, так как человек, презрев собственную природу, начинает смотреть с высокомерием на всю человеческую природу, и Другой в таком случае закономерно обесценивается. Подлинный опыт в отношении с Другим связан с опытом как таковым, с опытом трансцендентального, свободы и непредсказуемости со всеми позитивными и негативными последствиями. Именно в этом опыте проявляется склонность человека к единству и его извечная конфликтность, но даже когда ему совершенно нечего сказать, он испытывает навязчивое желание общаться. И именно настоящее искусство, литература, выходя за пределы власти, выражают опыт трансцендентального. Искусство всегда отражает новую ступень реальности, что воплощается обычно в резких всплесках либертинажа. Оно оказывается, таким образом, зачастую за гранью общезначимой морали и даже действительности. Как бы это банально ни звучало, но именно искусство предоставляет наибольшие возможности для философской антропологии, вследствие своей стихийности и нетабу ированности.
Сверхрационализм как единство разума и безумия
Чтобы понять Другого, постмодернисты конструируют концепцию расширенного разума, включающего в себя радикально Иное, свою противоположность, и прежде всего- безумие. Проблемой безумия издавна интересовались многие мыслители. Уже Декарт отмечал, что разум может быть даже безумнее безумия.65 У Ж. Дерриды безумие становится и источником, и пределом мысли и языка. Такой двойственный взгляд является вполне философским. И именно современная философия ищет себя как раз за пределами философии, вслед за литературой и искусством видя в безумии нечто подлинное, первозданное и витальное, задавленное разумом. «Привычка видеть вещи как они есть рано или поздно переходит в манию. И тогда человек оплакивает в себе безумца, которым был и никогда больше не будет.66 Таким образом, психиатрические дефиниции безумия сегодня постепенно затушевываются, оно становится проницаемым только эмпатически и меняет всю систему воображения, внутренний мир того, кто захочет понять Другого. Постепенно, именно благодаря безумию, взгляд на умопостигаемые вещи становится, пользуясь выражением А. Арто, не столь «бакалейным» и антипоэтическим. Арто считал, что безумие, воскрешая химеры, первофантазии, выводит человека за грань узкого житейского опыта. Арто даже хотел сообщить всем словам значения, которые они имеют в сновидениях. Он менял символику и даже в бреде искал «интеллектуальный» взгляд, но не разум, а мудрость, которая помогла бы преодолеть безмолвное отчаяние и окружающую абсурдность уже без страха. Ведь на Востоке мудрый стоит выше просвещенного или вдохновленного, так как пока они смотрят на него или друг на друга, он созерцает небо.
По мнению Ж. Дерриды, «философский дискурс, если и несет в себе «нормальность», то она все равно включает в себя обязательно две нерасторжимые грани: когито и безумие».67 М. Фуко, обращаясь к проблеме безумия, придавал важное значение его способности порождать эклектику. Безумие оказало серьезное влияние на распад готической символики, как вертикали, предложив взамен, воспетую постмодернистами «ризому», как символ множественности, гетерогенности. Безумие является скорее всего несвоевременным знанием, не вписывающимся в актуальную ему ментальную парадигму. Поэтому, современная культура, чувствуя связь разума и безумия, предпочла в конце концов компромисс между логосом и мифом, наукой и искусством.
Тема безумия возникла в постмодерне в связи с критикой истории в ее гегельянском варианте. М. Фуко предлагает рассматривать историю безумия как «историю возможности истории». Под историей он понимает «свершенные деяния и циркуляцию осмысленных слов, помещение слов без позитивного значения в область неразумия». Если гегельянцы закономерно трактуют конец истории как апофеоз смысла, то, по мнению Фуко, - это одновременно триумф бессмысленности: если нечего больше делать и говорить, значит, любое действие смехотворно, а любое слово бессодержательно. Разум, возникший из противопоставления себя и своего иного, не способен вернуться к истокам и вместить в себя Иное. Конец истории превращается в бесконечные «блуждания последнего человека», что, собственно равносильно смерти. 68 Так Фуко совершенно явно выразил нигилизм своего поколения. Из осознания неполноценности человека на пике его знаний, из неудовлетворенности собственной удовлетворенностью рождается не диалектическая философия и «литература абсурда». Еще одна важнейшая проблема современной философии маргинализма - это болезнь и норма в контексте понимания «иного» и «другого». С точки зрения постмодернистов, тему безумия, «растрачивания» ума следует оценивать в несколько более широком регистре опыта, чем это подвластно категориям болезни, здоровья и нормы. В свое время П. Валери отмечал, что умопомешательство становится патологией, когда речь идет об одном, и нормой, когда - о многих. Ницше именно в индивидуальности усматривал первоисточник всякого страдания. Иное имеет смысл изучать как равное, а не как миноритарное. «Вовсе не прогресс познания открывает «душевную болезнь» там, где человечество в варварском состоянии полагало, что борется с дьяволом или демоном, но именно появление безумца в его новом образе «душевного больного заставляет научную дисциплину взять на себя заботы о нем», - пишет В. Декомб. 69
Безумие как явление настолько еще не познано, что достаточно посмотреть в словари, как оно определяется, чтобы это бросилось в глаза. Среди дефиниций, как правило, фигурирует безрассудность, бестолковость, несоответствие здравому смыслу, проказливость. У В. Даля оно характеризуется как потеря памяти и нарушение равновесия в жизненных отправлениях. В основном имеют место объяснения сумасшествия как состояния помешанного.
Идея коммуникативного существования с Другим
Такова была реальная ситуация на Западе, на фоне которой постмодернисты разрабатывали коммуникативную теорию. Как полагал еще Н. Бердяев: Бог сотворил мир, ощутив потребность в Другом, в ответной любви. Проблему Другого постмодернисты органично связывают с темой любви, ее поиска и обретения, как выражения своеобразного метафорического безумия, с их точки зрения. В настоящей любви человек обретает самосознание, становится субъектом, подчеркивает Р. Барт. Влюбленный, не будучи асоциальным, - свободен от социальных тревог, общество ему лишь слегка докучает. «В качестве влюбленного субъекта [я ] не протестую и не иду на конфликт, просто не вступаю в диалог с механизмом власти, науки, мысли и т.д. Я даже не деполитизирован- отклоняясь от нормы, я - в том, что «не возбужден»».90 Существенным для сегодняшней Франции является, заявлял далее Барт, тот факт, что любовное чувство- это чувство «унисекс», оно не имеет половых различий, как и само слово «другой» во французском языке неизменно- «autre». В целом,. как очевидно, Барт возвращается в доэдиповский мир и выводит любовный опыт за рамки любых социокультурных перипетий. У Г. Башляра любовь начинается и выявляется как открытие возможного мира, появляющегося то в чарующем субъекте, то в разочаровывающем объекте. Исследователи отмечают последствия мыслительного постижения Другого, неизбежно приводящие к одиночеству и солипсизму. Этот момент был отмечен Ц. Тодоровым, который видел в авторитарном типе мышления европейцев изначальную невозможность коммуникации. Исследуя историю завоевания Америки, Тодоров рисует схему, по которой складывается отношение европейца к другому: «открыть- завоевать- полюбить- узнать», то есть «узнать», как ни парадоксально, оказывается, на последнем месте. Другой воспринимается сразу как идентичный, потому и не столь интересный, или вообще как несовершенный. М. Уэльбек видит мучительную растерянность, доходящую до «пределов шизофрении» во всем наследии XX века, в его плюрализме, индивидуализме, анархизме и маргинализме, которые причиняют человеку реальное страдание, и источник его кроется в психологической, онтологической и социальной раздробленности и неумении любить.
Сегодня в литературе, кино и уже в реальности существует стереотип любви, как возможность переживать ее определенным образом. Поэтому так часто возникает ощущение фальши в проявлениях любви, которая иногда даже распространяется на само чувство. М. Юрсенар в одном из интервью заметила, что во Франции такая ситуация связана, с одной стороны, с литературной традицией. С другой стороны, голливудское кино создает еще более грубые штампы любовного поведения, полные условностей. Для М. Юрсенар чувство любви сегодня лишено идеализации, симпатии как любви в евангельском смысле слова, в которой « конечно, играет роль чувственность, но в нее также входит и большая доля самоотречения».91 Ж. Бодрийар отмечает, что существующая сегодня «прозрачность» всех человеческих отношений разрушает сакральность любого явления, включая чувственные отношения или просто повседневные. Наряду с этим, продолжает философ, нехватка чувственности в предшествующие эпохи приводит к тому, что сегодня плоть становится выражением души и, более того,- к апогею чувственности в современном мире, как к некой тщеславной цели обретения любви. Во всяком случае, любовь все меньше связывается с познанием другой личности в ее естественном несовершенстве.
Изучение «Другого» началось во Франции, прежде всего, с интереса к творчеству «Иного», к произведениям «еретиков», под категорию которых, в частности, подходили и «проклятые поэты» и «левые интеллектуалы». Они вели с культурой сложные сопернические игры, провоцируя ее, но одновременно они развивали, будучи фактически исключенными из социума, как, например, Лотреамон, Бланшо и другие люди «без биографии». Действительно, Бланшо последние двадцать лет вообще никто не видел. Это особая категория людей, «отрекшихся» от культуры и в тоже время, достигших в ней высочайшего совершенства. Как говорил М. Мамардашвили: сентенцию Сократа: «я знаю, что я ничего не знаю» нельзя понимать как пассивную констатацию своего невежества; о невежестве необходимо именно узнать, лишь находясь на неком условном пике познания, когда возникает неудовлетворенность от знания в чистом виде, которое нельзя пережить. Ж. Батай, например, сделал свою философию абсолютно эмпирической, он не достигал письмом отсутствия пережитого, а изведывал еще непережитое в своеобразном гибельном трансцендировании, в реальном выходе за пределы коллективного опыта. Батай переживал этот опыт как реальную сопричастность и самотождественность «Иному» в своем «гиперреальном письме» и в «приступах речи».
А. Юберсфельд, преподаватель философии в Сорбонне, приходит к интересному выводу, что человек любит литературу, театр и кино, так как в данном случае имеет возможность наслаждаться созерцанием человеческих отношений на безопасном расстоянии, видеть, как страдает Другой, а также «проигрывать» свою жизнь во множестве вариантов. Бесспорно, даже при самых сильных анархических соблазнах личности всегда было присуще притяжение ближнего. И все же, обычно, существование другого сводилось к восприятию, Другой для меня был явлением, как и Я для него, не говоря о том, что само «Я- вообще лишь псевдоним», размышляет Ж. Деррида. И всегда в этом случае кто-то оказывался «лишним» на роль субъекта и должен был довольствоваться тем, чем он был для другого.