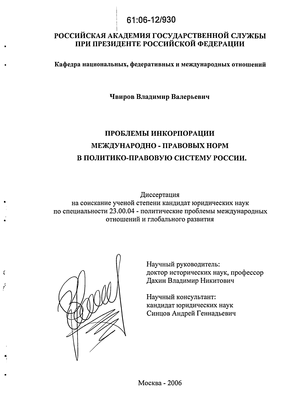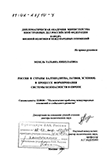Содержание к диссертации
Введение
I Концепции взаимодействия международного и национального права
1.1. Теоретические основы кодификации, инкорпорации, имплементации и систематизации 20
1.2. Международная практика взаимодействия национального законодательства и международного права
1.3. Современные концепции взаимодействия общепризнанных принципов международного права и норм 66 внутригосударственного права в России.
II. Проблемы унификации способов инкорпорации норм международного права в национальную политико-правовую систему .
2.1. Процесс и способы согласования норм внутригосударственного права с нормами международного права 74
2.2. Практические аспекты применения судами Российской Федерации норм международного права . 102
III. Значение международно-правовых стандартов для функционирования и развития судебной и политико-правовой системы России .
3.1. Международные нормы по защите прав человека в области уголовного судопроизводства 110
3.2. Соотношение международного уголовного и национального права 124
3.3. Роль международно-правовых стандартов в развитии политико-правовой и судебной системы России. 140
Заключение 155
Список использованной литературы 164
- Теоретические основы кодификации, инкорпорации, имплементации и систематизации
- Процесс и способы согласования норм внутригосударственного права с нормами международного права
- Практические аспекты применения судами Российской Федерации норм международного права
- Международные нормы по защите прав человека в области уголовного судопроизводства
Введение к работе
Вступление человечества в третье тысячелетие характеризуется резким изменением всех сфер его жизнедеятельности. Ускорение процессов глобализации, появление и стремительное расширение глобального информационного пространства как сферы существования человека, усиление взаимозависимости развития национальных обществ и государств акцентировали возрастание роли личности в международных отношениях.
Объектом современных международных отношений по существу становятся не только межгосударственные отношения, но и непосредственно сам человек, как субъект их творящий. Возникает настоятельная потребность переосмысления места и роли человека в современном мире, его прав и обязанностей в обществе и государстве. Все чаще предпринимаются попытки разработать многомерную систему универсальных характеристик личности, условий реализации ее потенциала и права зашиты ее прав.
Вместе с тем серьезным испытаниям подвергаются основные институты и принципы самого международного права, и деятельность международных организаций в условиях ведения военных действий коалиционными войсками в Ираке. США под предлогом борьбы с терроризмом позволяет себе интервенционные действия, не считаясь с суверенитетом других государств. Таким образом, под сомнение ставятся основополагающие принципы международного права, действовавшие многие годы.
Конец XX столетия ознаменовался введением в научный оборот метафор, призванных обозначить такие грозные явления в развитии цивилиза-ции, как "конец истории" и "столкновение цивилизаций" . С "концом истории",
1 Fukuyama F. "The End of History?" II The National Interest. Summer 1989. № 17;
Fukuyama F. The End of History and the Last Man. L., 1992 (рус. пер.: Фукуяма Ф.
Конец истории и последний человек. М., 2004); Francis Fukuyama's Second Thoughts.
An Essay on the Tenth Anniversary of the publication of "The End of History?" II The
National Interest. Summer 1999. №56. P. 15-44.
2 См.: Huntington S.P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. N.Y.,
1996 (рус. пер.: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2003).
подразумевавшим, по сути, "конец идеологий"1, открывались, казалось бы, перспективы для утверждения в мире любых форм свободы; однако практически сразу стало ясно, что новые попытки самоопределения общностей несут зловещую печать национализма, а обретение новыми странами суверенитета нередко сопровождалось нарушениями прав человека.
Система международных отношений, сложившаяся в итоге Второй мировой войны и пережившая десятилетия ожесточенной борьбы между двумя сверхдержавами, оказалась не готова к ответу на новые вызовы. В 90-е годы минувшего столетия действия ведущих стран отличались, пожалуй, наименьшей системностью и последовательностью. На протяжении пятнадцати лет коалиционные войска дважды вторгались в Ирак - в 1991 г. для защиты попранного суверенитета Кувейта, а в 2003 - вообще без всякой видимой причины. Во имя защиты прав человека Соединенные Штаты в 1992 г. вводили свои войска в Сомали, а в 1999 и 2004 гг. бездействовали, несмотря на чудовищные факты геноцида в Руанде и Судане. Россия все эти годы сочетала возмущение нарушением ее интересов на постсоветском пространстве с фактическим признанием независимости и суверенитета отколовшихся от бывших советских республик анклавов и автономий. Этот ряд примеров может быть весьма и весьма длинным.
Какими же концептуальными соображениями руководствовались - если руководствовались вообще - политики и дипломаты, ученые и эксперты, стремившиеся заложить основы новой системы международных отношений, потребность в которой все эти годы становилась все более очевидной? На наш взгляд, все они пытались балансировать между двумя диаметрально противоположными представлениями о судьбах "пост-Вестфальского" мира - а в том, что такой мир стал реальностью нашего времени, практически все они были, в той или иной мере, убеждены.
Распад Варшавского Договора, СЭВ, СССР, события 11 сентября 2001
1 См. комментарии С. Хантингтона к книге Ф. Фукуямы: Хантингтон С. Трудности... привыкания. О пророчествах сбывающихся и несбывающихся // Свободная мыль-XXI. 2005. №4. С. 15.
года, угроза терроризма, ставшая глобальной проблемой, вереница «цветных реюлюций» на территории бывшего СССР, что в совокупности с другими обстоятельствами ведет к превращению геополитической карты мира из биполярной в униполярную, вносит существенные изменения в существующий миропорядок. Поскольку Россия, в силу своего потенциала, всегда являлась активным участником международных отношений, к сожалению в силу ряда объективных и субъективных причин в период с 1985 по 2000 год значительно утратила свою былую мощь времен СССР. Полагая, что мириться с такой ситуацией нельзя, в настоящее время предпринимаются существенные усилия по исправлению ситуации, в связи с пониманием наследия разрушительной демократии на почве изощренного популизма.
Парадигма развития международных отношений третьего тысячелетия должна базироваться на основе признания универсальности и исключительности жизни человека, его прав и свобод. Все действия акторов международной политики должны осуществляться исходя из интересов не только всего человечества, но и каждого отдельного человека. При этом каждый раз, предпринимая то или иное действие на международной арене или внутри государства, любая страна, организация или объединение должны в первую очередь соотносить его с вопросом неукоснительного соблюдения прав и свобод человека. Только подобный подход при осуществлении международной и внутренней политики позволит построить устойчивую цивилизацию, гарантирующую человечеству решение стоящих мировых глобальных проблем. Тем более актуальным является поиск баланса между интересами конкретного человека, нации и цивилизации, выработки стандартов масштабируемости правового регулирования исходя, прежде всего из реалий жизни, а не декларирования несбыточного.
Что ждет Россию и страны СНГ в будущем? К чему может привести гегемония США в униполярном мире? Как относиться к наличию двойных стандартов существующих в международных отношениях? Каким образом отстаивать национальные интересы в меняющемся мире? Таких вопросов можно задать предостаточно, ответы
б на них сложны неоднозначны, а подчас и неизвестны, но не думать об этом нельзя и поэтому насущно важным и актуальным становится анализ соотношения международно - правовых норм и внутригосударственных стандартов, регламентирующих правоотношения государств, физических и юридических лиц, на основе отдельных международно-правовых аспектов.
Начало XXI века показало, что мир стал менее стабильным и безопасным, речь идет об экстремальных ситуациях социально-экономической, политической, национально-этнической, религиозно-культурной нестабильности, которые нередко выливаются в межгосударственные или внутренние конфликты. Современная тенденция в развитии международной безопасности заключается не только в разработке единообразного понимания норм международного права в обществе и государстве, но и в их закреплении в международно-признанных правовых нормах, что подразумевает создание механизмов их реализации и защиты, ответственности за их несоблюдение или нарушение.
По существу теоретические разработки либо отделяли право от конкретного человека, от его форм существования. Все сводилось к тому, что отдельный индивид должен всегда следовать установкам и правилам, которые созданы без него. Либо все сводилось к тому, что человек тем и ценен, что способен к самостоятельному творчеству, а подчас это творчество превращалось во вседозволенность основанную на «сверхэгоизме», при котором безгранично защищались все интересы отдельно взятой персоны без учета общественных интересов. Именно идея социального, свободного творчества человека должна найти правовое осмысление в рамках правосознания и воплотиться в принимаемых законодательных актах. Переход к идее о правовой свободе есть решающий фактор в становлении юриспруденции норм международного права нового поколения. Ибо «...право стало жертвой отсутствия мировоззрения, и лишь на почве нового мировоззрения оно может
возродиться...»1.
Укрепление роли права, нарастание диапазона и объемов регулирования в международной жизни, поскольку глобализации требуется глобальное правовое пространство, рождают категорию «правового пространства», которая быстро становится центральной в анализе и политических оценках ряда важнейших характеристик современньк государств и международных регионов: меры их демократичности, финансово-экономической прозрачности, гарантий правосудия, инвестиционной привлекательности, защищенности личности и ее прав.
С учетом изложенного, на стыке юридических и политических наук представляется актуальной теоретическая разработка эффективного соотношения степени проникновения, инкорпарационных механизмов, различных форм имплементации норм международного права в национальное законодательство России исходя из реалий развития общества и государства.
Степень научной разработанности проблемы.
Изучение научной литературы, посвященной проблемам международного гуманитарного права, правам человека и механизмам их реализации показало, что как в советской, так и в российской юридической и политической науке основное внимание уделялось широкому толкованию этих проблем. Можно выделить два базовых направления в их исследовании. Первое направление связанно с классическим рассмотрением эволюции развития прав и свобод человека, когда определялся правовой статус личности на внутригосударственном правовом поле. Нормы международного права регулировались исключительно внутригосударственным правом.
Второе направление - признание и обеспечение норм международного права независимо от его принадлежности к тому или иному государству, создание гуманитарного права и международное сотрудничество в области зашиты норм международного права в контексте все более усложняющихся новых политических и правовых проблем и противоречий.
В советской науке международного права теоретические аспекты
1 Мальцев Г.В. Понимание права. Подходы и проблемы. М.,1999.-С399
содержания международного механизма имплементации были исследованы недостаточно. Особенности его осуществления практически вообще не рассматривались или рассматривались отдельные аспекты, которые могли служить демонстрацией превосходства подхода к механизму реализации международных договоренностей странами социалистического лагеря. Среди ученых, в той или иной степени затрагивавших этот вопрос, можно выделить: ИЛБлищенко, А.С.Гавердовского, И.И.Лукашука, Н.В.Миронова, Р.А.Мюллерсона, БЛ.Зимненко, Е.Т.Усенко. Попытка комплексного исследования этой проблемы, пожалуй, впервые была предпринята украинским юристом А.С.Гавердовским в монографии «Имплементация международного права», который давая общее определение этому понятию, под международным механизмом имплементации понимает совокупность средств обеспечения реализации международно-правовых норм, создаваемых усилиями государств1. Наиболее интересной представляется монография В.А. Батыря «Имплементация норм международного гуманитарного права в законодательстве Российской Федерации» . В работе детально рассматриваются вопросы имплементации норм международного гуманитарного права, определяются формы и способы имплементации, исследуются элементы механизма имплементации, как на международном, так и на внутригосударственном уровнях и выдвигается ряд предложений по совершенствованию российского законодательства. Нельзя не согласиться с автором и в том, что механизм имплементации норм международного гуманитарного права отражает тесную взаимосвязь внутригосударственного права и международного гуманитарного права и обязанность их выполнения, прежде всего для государства как субъекта международного права.
Не считая, достаточно большого количества, вышедших в последние годы учебников и учебных пособий по международному праву3, включающих
1 Гавердовский А.С. Имплементация норм международного права. Киев, 1980. С.54.
2 См.; Батырь В.А. Имплементация норм международного гуманитарного права
в законодательстве Российской Федерации. М.,2000.
3 См.: Лукашук И.И. Международное право. М.,2000; Лукашук И.И.,
Шинкарецкая Г.Г. Международное право. М., МГИМО,2000; Нормы
гуманитарное право и праю норм международного права, на наш взгляд, стоит отметить монографию Глухаревой Л.И. «Нормы международного права в современном мире: социально-философские основы и государственно-правовое регулирование»1. В данной работе комплексно представлено современное понимание научной картины норм международного права и осуществлен глубокий анализ природы норм международного права, раскрыта периодизация эволюции норм международного права, интересен подход автора и к анализу норм международного права как правообразующему фактору. В работе справедливо утверждается, что нормы международного права - не просто сложный объект теоретического исследования, а система, которая характеризуется открытостью, интегрированностью, официальной зависимостью.
Но вместе с тем, нельзя не отметить, что положение человека в
обществе, защита его прав и свобод крайне несовершенно и уязвимо. Кроме
того, в ряде случаев новые угорзы такие, в частности, как терроризм можно
расценивать как вызов отдельных групп, общин и индивидуумов всему
обществу. Поэтому, исходя из задач правовой реформы, проводимой в России,
среди которых - выделение норм международного права в качестве высшей
ценности и создание механизма их обеспечения и зашиты, отражающих
кардинальные изменения в стране, изучение проблемы создания системы
гарантий защиты норм международного права и основных его свобод
становится насущно востребованным. При этом необходимо обратить
внимание на эффективность этих процессов. Так в ряде случаев не адаптированное копирование норм международного права во внутригосударственную правовую систему может не дать желаемых результатов, но и существенно затруднить развитие общественных институтов.
международного права (под ред. Лукашевой Е.А.). М..2002; Саидов А.Х Международное право прав человека. М.,2002; Тиунов О.И. Международное гуманитарное право. М.,2000; Ушаков Н.А. Международное право. М.,2000 и др.
1 Глухарева Л.И. Нормы международного права в современном мире: социально-философские основы и государственно-правовое регулирование. М.,2003.
Согласно современной классификации, права человека, регулируемые международным правом, делятся на три категории:
гражданские и политические права;
экономические, социальные и культурные;
права народов.
Во-первых, только соблюдение этой группы прав со стороны государства может дать личности реальную возможность контроля за деятельностью государственных органов. Такой контроль осуществляется установленными в законе средствами, в частности путем применения институтов непосредственной демократии. В итоге должно получиться нечто вроде замкнутого круга, где граждане влияют на политический процесс, заставляя политиков заботиться о себе, предоставлять и гарантировать новые права, получая в итоге еще больше средств для контроля за политикой, и, как следствие, новые правомочия...
Надо заметить, что это не теоретические измышления, а действительность политической жизни западных стран. Конечно, данное построение не отражает всех нюансов реальности, однако общие закономерности именно таковы.
Во-вторых, гражданские и политические права исторически первыми вошли в предмет международного права, став предметом международно-правового регулирования. Согласно распространенной в науке международного права концепции, основанной на названной выше классификации, существует три "поколения" прав человека.
Эти "поколения" соотносятся с активным вступлением на мировую политическую арену новых "демократизирующихся" государств с различным политическим режимом.
Гражданские и политические права человека, вошедшие в первое "поколение", были отголоском идей Великой французской революции и "вкладом Запада" в дело прав человека.
Вторым "поколением" были социально-экономические и
культурные права человека, вошедшие в систему международных стандартов благодаря усилиям СССР и других социалистических стран.
Третье, и пока последнее "поколение" — права на здоровую экологическую обстановку, на мир, на разоружение, на развитие и т. д., которые иначе называются правами солидарности. Эта группа прав признается вкладом стран третьего мира.
Очевидна некоторая натянутость ассоциаций, особенно с правами солидарности, которые объективно начали появляться раньше, чем развивающиеся страны активно заявили о своем участии в политике. Например, в Пактах о правах человека 1966 года присутствуют отдельные права народов (в частности, право народов на самоопределение, одинаково воспроизведенное в ст. 1 обоих Пактов).
Гражданские и политические права — достаточно обособленная группа прав, поэтому они и выделяются по предмету регулирования. Вместе с тем, их нельзя рассматривать совершенно в отрыве от прочих прав человека. Наоборот, это взаимосвязанный комплекс норм. Данное утверждение основывается на норме Пактов о правах человека, в Преамбуле которых указывается:
"...Идеал свободной человеческой личности, пользующейся гражданской и политической свободой и свободой от страха и нужды, может быть осуществлен, только если будут созданы такие условия, при которых каждый может пользоваться своими экономическими, социальными и культурными правами, так же как и своими гражданскими и политическими правами" '
Основными актами, регулирующими гражданские и политические права на международном уровне, являются Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года, Пакт о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 года, Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года,
1 Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года, Международное право в документах, М, 2001, С. 101-102
Конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за него от 30 ноября 1973 года, Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 года и европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года.
"Заслуженность" гражданских и политических прав отнюдь не свидетельствует о том, что они представляют из себя нечто застывшее. Безусловно, существующие правовые положения достаточно консервативны по своей природе. Однако они непрерывно обновляют свое содержание в процессе правоприменения, в первую очередь в ходе судебного толкования.
Представим конкретный пример - п. 1 ст. 5 европейской Конвенции о защите прав человека и основньк свобод вслед за Всеобщей декларацией прав человека и Пактом о гражданских и политических правах закрепляет право каждого на свободу.1
Европейский суд по правам человека рассматривал дело Van Droogenbroeck v. Belgium. Заявитель утверждал, что содержался под стражей по решению не судебного, а административного органа. Было установлено, что он неоднократно совершал кражи и осуждался за это, причем содержался даже в тюрьме для рецидивистов. После освобождения из этой тюрьмы он вновь стал совершать кражи, и в целях реабилитации его несколько раз доставляли в орган под названием "Управление по делам рецидивистов". По бельгийскому праву передача рецидивистов и неисправимых преступников в распоряжение Правительства квалифицируется как мера, связанная с лишением свободы.
Казалось бы, налицо нарушение Конвенции. Однако Суд принял во внимание, что закон, предоставивший министру юстиции соответствующие полномочия, имел целью не только "защитить общество от опасности, которую представляют рецидивисты и неисправимые правонарушители", но и "дать правительству возможность попытаться перевоспитать их".
1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод, М, Юрайт, 1999, С. 20-21
Из этого факта были сделаны следующие выводы: "При достижении этих целей необходимо учитывать обстоятельства, которые по характеру различны в разных случаях и могут видоизменяться. Принимая решение, суд, естественно, может лишь предполагать, как будет развиваться личность человека в будущем. Со своей стороны, министр юстиции через своих подчиненных и через их содействие может чаще и тщательнее контролировать такое развитие, но одно это означает, что со временем связь между его решением не освобождать или повторно задержать человека и первоначальным судебным решением постепенно ослабевает. Впоследствии эта связь может вообще прерваться, если возникнет положение, при котором решения будут основаны на факторах, потерявших связь с целями законодательного органа, или на оценке, оказавшейся неразумной с точки зрения этих целей. В таких условиях задержание, являвшееся законным вначале, превратилось бы в лишение свободы, которое было бы произвольным, а следовательно — несовместимым со ст. 5. В данном случае такого положения не возникло. Бельгийские власти проявили терпение и уважение к г-ну Ван Дроогенбруку: несмотря на его поведение, они предоставили ему возможности исправиться..."1
Таким образом, согласно решению суда, нарушения п. 1 ст. 5 не было. Однако оказался нарушенным п. 4 ст. 5, согласно которому лицо, лишенное свободы, имеет право на разбирательство, в ходе которого может быть безотлагательно решен вопрос о законности его задержания2.
Следовательно, несмотря на формальное противоречие действий министерства требованиям Конвенции, суд, исходя не из буквы, а из духа документа, не усмотрел ее нарушения бельгийскими властями.
Именно поэтому, в силу необходимости соотносить нормы конвенций и практику судов, настоящая работа имеет следующую структуру. В первой главе раскрываются теоретические основы понятий инкорпорация, кодификация, затем основные нормы и стандарты в
1 Туманов В.А. Европейский Суд по правам человека, -М., «Норма» 2001, С. 47-48.
2 Дженис М, Кэй Р., Брэдли Э. Европейское право в области прав человека (Практика
и комментарии).- М., 1997. С. 361 —365.
области гражданских и политических прав человека, далее анализируются теоретические основы такого правового института как международное юридическое лицо, а затем освещаются аспекты правоприменительной практики судов в области общепризнанных международно-правовых норм.
Объект исследования - международная система инкорпорации норм международного права во внутригосударственные правовые системы.
Предмет исследования - влияние инкорпорации и имплементации норм международного права на политико-правововую систему России в условиях глобализации.
Цель исследования - заключается в определении оптимальной степени и формы инкорпорации норм международного права в правовую систему России исходя из внутригосударственных суверенных интересов.
При изучении данной темы были поставлены следующие задачи:
Раскрыть историю развития доктрин соотношения национального и международного права. Проанализировать концепции взаимодействия национального законодательства и международного права.
Провести сравнительный анализ положений ч. 4 ст. 15 Конституции РФ с подобными положениями, содержащимися в Конституциях других государств. Проанализировать положения Постановления № 5 Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации». Отразить практику применения судами РФ норм международного права. Предложить алгоритм действий судьи, применяющего нормы международного права.
Оценить юридические формы согласования норм международного и внутригосударственного права. Проанализировать международные нормы по защите прав человека в области уголовного судопроизводства. Рассмотреть проблемы международного уголовного и национального права
Проанализировать практику и тенденции Европейского суда по
правам человека в отношении России. Обосновать приоритеты в механизме формирования инкорпорации норм международного права в национально-правовую систему России.
Результаты исследования, полученные лично автором и их научная новизна.
Автор рассмотрел ряд спорных аспектов по проблемам инкорпорации норм международного права в правовую систему России, исходя из внутригосударственных суверенных интересов.
В работе представлен сравнительный анализ положений ч. 4 ст. 15 Конституции РФ с положениями, содержащимися в Конституциях других государств, касающихся согласования норм международного и внутригосударственного права.
Проведен анализ механизма формирования норм, гарантирующих защиту национальных интересов, на основе которого, подтверждается необходимость создания кодификации международных норм, становящихся универсальными нормами международного права и механизма имплементации их в внутригосударственное право.
Автор проанализировал дискуссионные вопросы по проблеме степени инкорпорации норм международного права национальную правовую систему России.
В работе представлены возможности новых приоритетов в механизме инкорпорации норм международного права в национально-правовую систему России.
Автором внесен ряд предложений по действиям судьи при применении норм международного права исходя из Постановления № 5 Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации».
Положения, выносимые на защиту.
Гарантии и зашита национальных интересов России должны осуществляться соразмерной степенью инкорпорации норм международного права в правовую систему России.
Процедура нормотворчества в России должна осуществляться с учетом взвешенного соотношения на основе здравого смысла требований норм международного прав и внутренних социально-экономических реалий.
За последнее десятилетие было принято больше принципов и норм международного права, чем за всю предшествующую историю, но парадокс развития международного права норм международного права и гуманитарного права состоит в существенном разрыве между правотворчеством и правореализацией. Между тем совершенствование механизма действия является необходимым условием повышения его эффективности.
В этих целях необходимо введение законотворческой экспертизы. Законы должны быть выполнимы и помимо Президента подписываться инициаторами законопроекта.
Характерной чертой современного международного права является формирование права международной ответственности, как особой отрасли права норм международного права и гуманитарного права, от успешного развития которой зависят уровень международного правопорядка, степень защищенности граждан и обеспеченность национальных интересов государств в условиях глобализации.
При этом в России не должны приниматься законы, допускающие уязвимость национальных интересов, а также провоцирующие надуманные притязания и злоупотребление правом, поскольку в большинстве государств (кроме Голландии, да и то с оговоркой) ни одна норма международного права не должна противоречить Основному закону, а именно Конституции. В то же время можно констатировать, что при осуществлении суверенных прав, включая право устанавливать законы, государства сообразуются со своими обязательствами в соответствии с международным правом. Международные договоры, как и обычные нормы, оказывают растущее влияние на национальные правовые системы государств.
Международные договоры, как и обычные нормы, оказывают растущее влияние на национальные правовые системы государств, что учетом внешних угороз, вызывает необходимость создания объективного, рационального, гибкого, основанного на достигнутом социально -экономическом уровне развития общества законодательстве.
При внедрении норм международного права необходимо их согласовывать с внутренним законодательством государства, учитывая особенности национальной системы России.
Определяя степень инкорпорации норм международного права в национальную правовую систему следует помнить, что каждая правовая система решает свои задачи при помощи собственного механизма.
Методологические и теоретические основы исследования.
Общую методологическую основу исследования составили общенаучный диалектический метод познания и основанные на нем частнонаучные методы исследования, позволяющие изучить международно-правовые явления окружающей действительности в их взаимосвязи, взаимозависимости и взаимообусловленности. В ходе исследования, были применены следующие методы: историко-правовой, сравнительно-правовой, формально-юридический, а также метод логического анализа нормативных актов. В работе были использованы общие научные методы: системный, сравнительный, прогностический и иные; широко использовались положения общей теории права и отраслевых юридических наук, анализ как международной, так и российской судебной практики.
Теоретическую основу исследования составили труды отечественных ученых правоведов в области международного гуманитарного права, европейского права. Нормативную базу исследования составили конституция и законы РФ, международные, европейские документы по правам человека и гуманитарному праву, а также российские документы, касающиеся основных норм международного права.
Практическая значимость исследования состоит в том, что сформулированные выводы и предложения могут быть использованы для
дальнейшего развития правового поля в области зашиты национальных интересов России, предупреждения от ошибок в законодательном процессе, достойное отстаивание национальных интересов на международной арене, взвешенной инкорпорации норм международного права во внутринациональное законодательство, могут найти применение в международной правовой практике государств, по выработке новых норм, гарантирующих соблюдение норм международного права в новых политических условиях.
С учетом проведенного анализа судебной практики, обилия
разрозненных нормативно правовых актов, неоднозначности требований
предъявляемых к ним, представляется целесообразным создание
кодифицированного собрания международно - правовых норм, подлежащих применению на территории Российской Федерации.
Проведенные исследования могут служить практическим руководством для судей РФ, применяющих нормы международного права.
Материалы диссертации могут быть применены в учебном процессе в вузах при подготовке специалистов в области международного гуманитарного права, международного права, прав человека и международных отношениях, а также судей.
Апробация диссертации. Работа обсуждалась на кафедре национальных федеративных и международных отношений в Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации. Результаты и предложения исследования излагались на всероссийской научно-методической конференции по вопросам военного права, а также апробированы в публикациях автора.
Кроме того, материалы диссертации согласуются со специальностью автора, являющегося федеральным судьей и используются при рассмотрении уголовных и гражданских дел при применении аналогии права, конкуренции правовых норм, а также как методические материалы в ходе учебного процесса в высших учебных заведениях и при выступлениях перед различными категориями военнослужащих в ходе правовоспитательной работы.
Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования и
*ч
состоит из введения, трех разделов, заключения, списка источников и использованной литературы.
Теоретические основы кодификации, инкорпорации, имплементации и систематизации
По мере развития общества перед правом встают вопросы, требующие разрешения. Разнообразие общественных отношений порождает необозримое множество потребностей в осуществлении правового регулирования, вследствие чего законодательство представляет собой такую же массу законов (правовых актов), возникших в разное время и по различным поводам. Такое число нормативных актов чрезвычайно затрудняет как знакомство с ними, так и последующее применение. Особенно наглядным примером может служить современное законодательство России, состоящее из тысяч различных нормативных актов, издаваемых различными органами под влиянием тех или иных общественных настроений, в ответ на настоятельные требования развивающейся экономики. Причем дальнейшее развитие общественных отношений требует определенных корректировок и внесения соответствующих изменений в действующее законодательство, сообразно новым общественным потребностям, в связи с чем познание законодательства становится трудоемкой и кропотливой работой, отнимающей значительное время.
Изданные в различное время, различными органами и в силу разных общественных потребностей нормативные акты оказываются противоречащими друг другу, либо, если и не вступают в прямое противоречие, не согласуются между собой. Зачастую также продолжают действовать устаревшие, по тем или иным причинам не отмененные нормы, и в каждом конкретном случае правоприменения необходимо подвергать норму анализу на предмет соответствия новейшему законодательству. Таким образом, рано или поздно государство сталкивается с необходимостью обработки законов, сведению их в одно целое.
Решению подобных проблем призвана служить систематизация законодательства, ибо очевидно, что для того чтобы облегчить знакомство с законами, упростить их использование и применение, необходимо их тем или иным образом упорядочить, привести в систему. Систематизация законодательства таким образом представляет собой механизм обработки и приведения в систему нормативных актов с целью упорядочения действующих институтов права, устранения противоречий в содержании правовых норм, выявления и исключения устаревших, а также создания новых норм права, соответствующих назревшим потребностям общественного развития.
Систематизация является важнейшим средством совершенствования правового регулирования и создания условий, облегчающих использование нормативного материала на практике. В юридической литературе и законодательной практике систематизация законодательства представляется в двух формах. Это инкорпорация и кодификация, основное отличие которых заключается в том, что при кодификации происходит существенная переработка содержания нормативных актов, целью же инкорпорации является приведение нормативных актов в систему, не затрагивая содержания таковых. Из такой точки зрения исходило большинство авторов, и автор предпочитает руководствоваться именно данным подходом.
Однако следует привести иной взгляд на рассматриваемую проблему, высказываемый некоторыми учеными. Так, одни авторы делают вывод, что всю систематизацию можно именовать кодификацией, а другие полагают, что в подобных случаях имеет место сочетание приемов инкорпорации с приемами кодификации. В частности, А.Н. Иодковский под кодификацией в узком смысле понимает чисто законодательную деятельность, связанную с устранением прежнего законодательства, с полной его заменой вновь создаваемым законом, а под кодификацией в широком смысле - дополнение законодательного процесса, заключающееся в техническом упорядочении действующего законодательства, в фиксации его и устранении из него только того, что составляет препятствие к правовому использованию законов, то есть устранении актов, утративших сил.
Автору более близка позиция А.С. Соминского, по мнению которого понятие кодификации соответствует только одной из форм обработки нормативных актов - созданию новых сводных актов и не пригодно для обозначения всей деятельности по упорядочению законодательства, в то время как понятие систематизации охватывает всю эту деятельность, в каких бы формах она не протекала.
В то же время следует признать возможность сопутствующих инкорпорации и производимых в связи с ней некоторых изменений формы и содержания законодательства. Однако такие изменения могут быть внесены только законодателем на основе проведенной инкорпорационной работы и по существу могут быть только следствием, а не содержанием таковой, ибо перед инкорпоратором стоит задача совершенного иного характера. Вывод о том, кодификация является одной из форм систематизации законодательства, а само понятие «кодификация» как часть понятия «систематизация», которое включает всю деятельность по упорядочению законодательства, подчеркивается также филологическим значением слова кодификация. В корне этого слова лежат латинские слова «codex» и «facio», что означает создание сводного закона.
Следует также отметить, что в новейшей юридической литературе авторы однозначно рассматривают инкорпорацию и кодификацию в качестве форм систематизации законодательства. Исходя из изложенного, понятие инкорпорации и кодификации сводится к следующему.
Инкорпорацией является способ обработки действующих правовых норм путем объединения в сборнике или собрании правовых актов в хронологическом, алфавитном, тематическом или ином порядке без изменения их внутреннего содержания. Это - внешняя систематизация законодательства, которая не вносит в него никаких новых начал и не ставит своей целью переработку норм права. Инкорпорация облегчает пользование нормативными актами и в то же время дает возможность внести в первоначальный текст правовых актов все последующие официальные изменения и дополнения, исключить отмененные нормы, выявить несогласованности и противоречия между ними.
Процесс и способы согласования норм внутригосударственного права с нормами международного права
Перед тем как рассмотрим вопрос о процессе и о способах согласования норм внутригосударственного и международного права, необходимо прояснить содержание термина «правовая система». Термин «правовая система» многозначен. Раньше говорили о социалистической правовой системе, которая охватывала право всех стран социалистического лагеря. Сегодня пишут об англо-саксонской правовой системе, романо-германской, мусульманской и т.д. Существуют и национально-правовые системы, например российская правовая система, украинская правовая система и т. д. Международное право также является правовой системой. Как отмечает профессор В.И.Кузнецов, «международное право - это особая правовая система, состоящая из принципов и норм, регулирующих отношения между ее субъектами».1 Вопрос заключается в том, что нужно понимать под понятием правовая система, и в чем отличие национально-правовых систем от международной правовой системы.
Для начала отметим различие между понятиями «правовая система» и «система права». Как замечает профессор СВ. Черниченко, «правовую систему иногда смешивают с системой права».2 Понятие «система права» можно определить как совокупность действующих правовых норм, группирующихся в институты, комплексы институтов, отрасли, подотрасли и находящихся в определенном сочетании друг с другом.1 Иными словами «система права» означает строение права как нормативного образования с его отраслями, институтами и др. Что касается определения термина «правовая система», то на сегодняшний день в российской юридической доктрине общей позиции по этому вопросу не выработано. Не ставя перед собой задачу окончательного определения понятия «правовая система» она уведет нас в сторону от нашего исследования рассмотрим некоторые высказывания по данной проблематике.
Профессор Е.Т. Усенко пишет: «Правовая система» - это научное понятие, нормативно не урегулированное и потому едва ли уместное... Достаточно было сказать: «является частью права...» . Как замечает И.И. Лукашук, «термин «правовая система» использован для того, чтобы избежать приравнивания всех международных норм к законодательству. В отличие от законодательства в правовой системе страны международные нормы могут занимать различное положение».4 Американский юрист Л. Фридмэн различает понятия «право» от «правовой системы». Правовая система по Л. Фридмэну, не понимается и не сводится к набору норм. Право понимается как официальное право государства в узком смысле, а в широком - как неформальное, как правовая система. Кроме первичных есть вторичные нормы: «как делать право» - правила о процедурах, судебных процедурах, о юрисдикции, судах и судьях, порядке выборов. Л. Фридмэн в правовой системе выделяет следующие компоненты: государственные институты (органы), действующие правила и нормы, образцы поведения, включающие наряду с законом множество конкретных решений и действий, наконец, правовая культура как отношение людей к праву, их убеждения, ценности, идеалы и ожидания.1 Анализируя эту проблему, профессор А. М. Васильев отмечает: «правовая система» не отменяет других юридических терминов, не является их синонимом, а «несет самостоятельную научную нагрузку, обозначая понятие, синтезирующее на новом уровне наши взгляды о всех правовых структурах жизни».2
Профессор Ю.А. Тихомиров в правовую систему включает следующие компоненты: а) правопонимание - правовые взгляды, правосознание, правовая культура, правовые теории и концепции, а также правовой нигилизм, б) правотворчество как познавательный и процессуально оформленный способ подготовки и принятия законов и иных правовых актов, в) правовой массив - структурно оформленную совокупность официально принятых и взаимосвязанных правовых актов, г) правоприменение - способы реализации правовых актов и обеспечения законности.3
По марксистско-ленинской теории правовая система определяется как экономическим и социальным строем структура права, выражающая внутреннюю согласованность и единство юридических норм данного государства, и одновременное их разделение на соответствующие отрасли.4 Правовую систему можно также определить как состоящую из трех определяющих правовых явлений - объективное право как совокупность юридических норм, юридическая практика и правовая идеология.5 Следовательно, правовая система включает в себя и систему
законодательства, и систему права и целый ряд иных компонентов. И поэтому «правовая система» более целостное образование, по сравнению с понятием «система права». Т.Н. Нешатаева справедливо отмечает: «Широкое понимание правовой системы, не сводящее ее к юридическим нормам, вполне оправданно в силу того, что оно позволяет избежать узкого, нормативистского подхода при исследовании правовых явлений, увидеть связь права с социальными структурами общества, понять механизм их взаимодействия и взаимовлияния»1.
Практические аспекты применения судами Российской Федерации норм международного права
Какие принципы соотношения общих норм международного права и национального законодательства должны приниматься во внимание судами Российской Федерации?
Как вытекает из ст. 38 Статута Международного Суда, международной практики, основ функционирования международной нормативной системы, обычная норма и договорная норма международного права обладают равной юридической силой, равным правовым статусом. Это означает, что договорная норма может отменить обычную норму, а последняя имеет возможность изменить или прекратить действие соответствующей договорной нормы международного права1.
Учитывая это обстоятельство, можно предположить, что органы государственной власти Российской Федерации при применении норм международного права должны исходить из того, что общепризнанные нормы и принципы международного права обладают таким же юридическим статусом в рамках правовой системы России, как и договорные нормы. В случае, если международно-правовой обычай будет иметь юридическую силу меньшую, чем закон, то это может привести к нарушению Российской Федерацией своих международных обязательств.
К примеру, государство принимает закон, положения которого полностью соответствуют международному договору. Однако в последствии общепризнанная норма международного права отменяет договорную норму. Если общая международно-правовая норма, став частью правовой системы России согласно п. 4 ст. 15 Конституции РФ, имеет меньшую силу, чем закон, то суды будут вынуждены руководствоваться нормой закона, что не сможет не привести к нарушению Российской Федерацией своих международно-правовых обязательств, нашедших свое закрепление в общепризнанной норме международного права.
Можно предположить, что норма общего международного права могла бы иметь равную юридическую силу с законом. Однако и в этой ситуации не исключается возможность нарушения государством своих международно-правовых обязательств, так как суды при наличии коллизии между обычаем и законом будут руководствоваться общими принципами права: закон последующий отменяет закон предыдущий и/или специальный закон отменяет общий закон.
Поэтому, принимая во внимание вышесказанное, государственные и муниципальные органы, включая суды, в своей деятельности должны исходить из того, что нормы общего международного права обладают равным статусом и силой с договорными нормами. Иными словами, в случае возникновения коллизии между общепризнанной нормой и правилом, предусмотренным в законе, приоритет в применении должен быть отдан общепризнанной норме международного права.
Например, Свердловский областной арбитражный суд рассмотрел дело по иску постоянного представительства фирмы «Пан AM Фармасьютикалзинк» (США) к Государственной налоговой инспекции г. Екатеринбурга о недействительности предписания1. В судебном заседании было установлено, что партия груза, который следовал из Венгрии, была принята на арендованный консигнационный склад отпускалась представительством фирмы в соответствии с условиями консигнационого договора. Вывод Государственной налоговой инспекции о приобретении партии товара на российской территории опровергается.
Арбитражный суд признал предписание недействительным, поскольку налоговая инспекция руководствовалась только российским налоговым законодательством согласно которому плательщиками налога являются иностранные фирмы, осуществляющие предпринимательскую деятельность в России через постоянные представительства (п.З ст.1 Закона РФ «О налоге на прибыль»). Налоговая инспекция не выяснила обстоятельства, предусмотренные п.1«б» Протокола к Договору между РФ и США об избегании двойного налогообложения в отношении доходов и капитала 1992 года.
Иногда для вынесения решения суд должен провести комплексный анализ международно-правовых документов.
Например, ст.37 Конституции РФ запрещает принудительный труд, однако ни Конституция, ни отраслевое законодательство не расшифровывают понятие принудительного труда1. Многие международные акты не только запрещают принудительный (обязательный) труд, но и формулируют положения относительно деятельности, которая не включается в понятие «принудительный труд». К ним относятся Международный пакт о гражданских и политических правах (ст. 8), Конвенции МОТ №21 «О принудительном или обязательном труде» и № 105 «Об упразднении принудительного труда».
Представляет интерес следующее дело2. Приказом начальника депо Т., работавший помощником машиниста в депо Ленинград -Финляндского отделения Октябрьской железной дороги был переведен на другую нижеоплачиваемую работу в качестве дисциплинарного взыскания (п. 15 «б» и п. 17 Положения о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской Федерации).
Международные нормы по защите прав человека в области уголовного судопроизводства
Реформа отечественного уголовно-процессуального законодательства должна осуществляться с учетом ч.4 ст. 15 Конституции РФ, устанавливающей, что " общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы". Конституция не только закрепляет механизм прямой трансформации норм международного права, но и провозглашает их примат над внутригосударственными нормами в случае коллизии с последними. В этой же статье говорится: "Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора". Из этого следует, что каждая отрасль отечественного законодательства, в том числе и уголовно-процессуальное, базируется как на внутренних законах, так и на международно-правовых актах.
В связи с указанными конституционными положениями в отраслевом законодательстве возник целый ряд проблем теоретического и практического порядка, связанных с необходимостью четкого определения понятийного аппарата (общепризнанные принципы и нормы международного права, самоисполнимые и несамоисполнимые договоры и т.д.), установлением пределов имплементации международно -правовых норм в рамках каждой отрасли.
Имплементация международно-правовых норм в национальной правовой системе РФ возможна как посредством принятия внутригосударственных норм, направленных на выполнение обязательств, вытекающих из международных договоров, так и путем их непосредственного применения в случаях, если для такого применения не требуется издания внутригосударственного акта (ст.5 Закона о международных договорах РФ от 15.07.95, Постановление Пленума Верховного Суда РФ №8 от 31.10.95).
Представляется, что применительно к утоловно-процессуальному законодательству оптимален первый вариант имплементации, т.е. максимально полное отражение международных норм в УПК РФ и федеральных законах, относящихся к судопроизводству. Именно по этому пути идет законодатель, разработав проект УПК РФ. Однако это не исключает возможности прямого применения общепризнанных норм международного права, а также норм самоисполнимых договоров в уголовном процессе РФ. Причем не только в случае коллизий, но и при согласованности норм. В последнем случае речь идет о совместном применении норм УПК РФ и норм международного права.
В массиве международных норм, относящихся к уголовному судопроизводству, особая роль принадлежит нормам по защите прав человека, так как одной из задач уголовно-процессуального законодательства является установление такого порядка судопроизводства, который бы охранял права, свободы и законные интересы всех участвующих в процессе лиц.
Следует отметить, что правоприменительный аспект исследуемой проблемы рассматривался в пособии для российских судей, авторы которого Л.Б. Алексеева и СВ. Сироткин предложили обязательные минимальные международно-правовые требования к судебной процедуре по уголовным делам1. Ранее эта проблема рассматривалась СВ. Бородиным и Е.Г. Ляховым в общем контексте проблем деятельности ООН в области предупреждения преступности и обращения с правонарушителями1. Вместе с тем целый ряд вопросов требует дальнейшей разработки. В частности, это вопросы о классификации исследуемых норм, о нормах международного гуманитарного права, касающихся уголовного судопроизводства, о юридической силе документов, содержащих международные стандарты в области судопроизводства и т.д.
Кроме того, действие общепризнанных норм по защите прав человека не ограничивается рамками уголовного судопроизводства того или иного государства, а распространяется и на международный уголовный процесс.
Комплекс международных документов, содержащих нормы и стандарты в области уголовного судопроизводства, обширен. В частности, в сборник "Нормы и руководящие принципы ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия: осуществление и приоритеты для будущей выработки стандартов ", подготовленный Секретариатом ООН к VIII Конгрессу ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, включен 31 международный документ.
Международные нормы по защите прав человека, действующие в рассматриваемой области, можно классифицировать по различным основаниям, в том числе по сфере действия (универсальные, региональные, партикулярные), по способу создания и форме существования (обычные, договорные , рекомендательные), по субъектам защиты (нормы по защите прав подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля) и т.д.
Подавляющее большинство универсальных норм, касающихся обеспечения прав человека при осуществлении правосудия, закреплено во Всеобщей декларации прав человека и Международном пакте о гражданских и политических правах — документах, входящих в Международную хартию прав человека.
Необходимо подчеркнуть, что принятая в 1948 г. Генеральной Ассамблеей ООН в качестве "стандарта, к достижению которого должны стремиться все народы и все государства". Всеобщая, декларация прав человека является не просто рекомендательным документом. Это один из ведущих источников международного права, так как большинство государств рассматривает ее как документ, содержащий обычные нормы международного права, почти все из которых воспроизведены в национальных конституциях и внутригосударственных законах. Исходя из этого, можно сделать вывод, что нормы Декларации являются общепризнанными и в качестве таковых входят как в общее международное право, составляющее ядро всей системы современного международного права, так и в национальную правовую систему РФ.