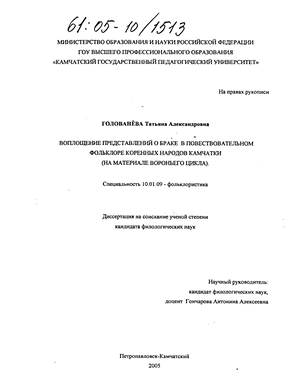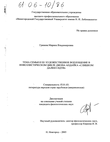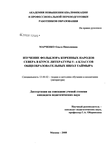Содержание к диссертации
Введение
Глава I Сюжеты о сватовстве Большого Ворона: генезис, структура, система персонажей 23
Раздел 1 Брачные обряды и их роль в культуре аборигенных народов Камчатки 23
Раздел 2 Мифологическая картина мира: Брачный союз Большого Ворона и Мити как первый брак на Камчатской земле 27
Раздел 3 Сватовство трикстера как основа популярного цикла сюжетов об изменах Большого Ворона 29
Глава II Мифологические сказки о сватовстве детей Кутха (Куткынняку) - генезис, структура, система персонажей 76
Раздел 1 Сюжеты о сватовстве потомков Большого Ворона как основа формирования Вороньего цикла. Общие положения 76
Раздел 2 Сюжеты о сватовстве потомков Большого Ворона, сотворенных им единолично 81
Раздел 3 Сюжеты о сватовстве потомков Большого Ворона, рожденных от
его брака с Мити 102
Подраздел 1 Функциональные роли персонажей в мифологических сказках о сватовстве потомков Кутха (Куткынняку), рожденных от его брака с Мити 102
Подраздел 2 Соперник и его функции в корякских и ительменских сказках о сватовстве 108
1 Роль соперника в системе персонажей. Общие
положения 108
2 Оппозшхия какоснова формирования сюжета 116
3 Оппозиция муж - соперник как основа формирования сюжета 144
Подраздел 3 Посредник и его функции в мифологических сказках о
сватовстве 184
Заключение 197
- Брачные обряды и их роль в культуре аборигенных народов Камчатки
- Сватовство трикстера как основа популярного цикла сюжетов об изменах Большого Ворона
- Сюжеты о сватовстве потомков Большого Ворона как основа формирования Вороньего цикла. Общие положения
- Функциональные роли персонажей в мифологических сказках о сватовстве потомков Кутха (Куткынняку), рожденных от его брака с Мити
Введение к работе
Обращение к изучению фольклора коренных народов Камчатки связано с той ситуацией, в которой находится культура этих народов в настоящее время. В силу многих объективных причин традиционная культура и национальные языки корякского и ительменского этносов в начале XXI века оказались на грани исчезновения. Фольклорные произведения живы в памяти немногих коряков и ительменов; эти люди - хранители традиционной культуры - очень преклонного возраста. Реальна опасность того, что через десять - пятнадцать лет бытование корякского и ительменского фольклора в устной традиции будет утрачено.
Есть основания рассматривать корякский и ительменский фольклор как единую систему. Мифологический образ творца Камчатской земли, прародителя народов, является единым как для береговых и оленных коряков, так и для ительменов. Большой Ворон (Кутх - ительменское звучание, Куткынняку — корякское звучание имени Большого Ворона) является главным персонажем в ительмено-корякском фольклоре. Основанием для сближения ительменского и корякского фольклора является единство сюжетов, что было уже отмечено отечественными исследователями (В.Г.Богоразом, Е.М.Мелетинским, Г.А.Меновщиковым). Но существуют и контроснования, в частности, ительменский и корякский языки не являются родственными, кроме того, наблюдаются значительные различия в жизнедеятельности оленных коряков, береговых коряков и ительменов.
Проблема взаимодействия корякского и ительменского этносов, отражение этого процесса в фольклоре может явиться предметом отдельного исследования.
В данной работе мы сосредоточили внимание на брачном мотиве и его воплощении в повествовательном фольклоре коренных народов Камчатки.
Брак представляет собой социокультурное достижение. Согласно одной из гипотез, налаживание упорядоченных сексуальных отношений является закономерным следствием генетической эволюции мозга, и вследствие этого - переходным этапом развития человечества (В.П.Казначеев, А.В.Трофимов) [117, С.131].
В архаической культуре брак как явление не исчерпывается только узко социальным контекстом. Естественным образом брачная тема вплетена в общую систему мировоззрения. Воплощение представлений о браке находится во взаимосвязи со всем комплексом верований. В архаической культуре именно брак представляется основанием единства тотемного предка и человеческого сородича (С.А.Токарев [284]); брак лежит в основе системы родства (ЛГ.Морган [202], А.М. Золотарев [109], Г.В.Дзибель [83]). В исследованиях, посвященных шаманским культам, брак предстает как иерогамный (ЛЯ.Штернберг [314], Е.С.Новик [221], Т.И.Борко [33]).
С другой стороны, брак является закономерным этапом прохождения жизненного цикла - брачный обряд представляет собой редуцирование обрядов смерти / рождения (В.И.Еремина [92]).
Брак как соединение мужского и женского начал находит свое отражение и в теории архетипов К. Юнга [322]. В силу всеобщего бессознательного характера архетипов, отношения между мужчиной и женщиной всегда наделены долей сакральности.
Брак восходит к основополагающим ключевым моментам становления мировоззрения человека.
Все эти аспекты не только отразились в мифологической прозе коренных народов Камчатки, но и послужили основой формирования устойчивых типов сюжетов.
Определяя тип сюжета, мы ориентировались на уровень действий, или актантный уровень (Р.Барт [19], А-Ж.Греймас [65]). Уровень действий предполагает выход как на уровень функций, так и на уровень повествования. В свою очередь, повествовательный уровень предполагает обращение к социокультурному контексту.
- Нумерация источников дана по алфавитному библиографическому списку В этой связи наиболее востребованным становится историко-типологический метод, разработанный Б. Н. Путиловым [254,256].
Взаимосвязь мифа и ритуала, фольклора и обряда являлась предметом исследования целого ряда выдающихся ученых, но, как справедливо указывает Б. Н. Путилов, разработав систему анализа, мы оказались без объекта исследования. Как показали наши экспедиции, столкновение с этой проблемой неизбежно и в процессе изучения ительмено-корякского фольклора.
Корякский и ительменский этносы подверглись процессам ассимиляции, насильственные изменения в укладе жизни коренных народов Камчатки в XX веке повлекли за собой тотальные изменения мировоззрения. Полевые экспедиции настоящего времени свидетельствуют об этом. В период с 2000 по 2005 гг. мы проводили исследования в Тигильском, Усть-Болыыерецком, Быстринском районах Камчатской области, и, тем не менее, наше исследование ориентировано на этнографические записи в большей степени, нежели на современный материал. Мы обратились к национальным фольклорным текстам, запись которых велась исследователями на корякском, ительменском, английском и русском языках в разные временные периоды XX века В.И.Иохельсоном, С.Н.Стебницким, Е.П.Орловой, В.И.Малюковичем, А.П.Володиным, А.Н.Жуковой.
Изучение фольклора коренных народов Камчатки невозможно без обращения к этнографическому материалу, характеризующему культуру и быт народов Крайнего Севера и Сибири. Мы старались учитывать возможные способы взаимодействия коряков и ительменов с народами Сибири и Дальнего Востока, ориентируясь в этом вопросе на исследования И.С.Вдовина [44, С.234 - 280].
Обращение к этнографическому и фольклорному материалу народов Крайнего Севера и Сибири обусловлено и типологическими сходствами культур. В этом мы следуем позиции В.К.Чистова, согласно которой «наложение друг на друга исходных моделей этнографических субстратов разных народов поможет с помощью одних систем заполнить «белые пятна» других» [312, C.28J.
Фольклор коренных народов Камчатки представляет собой один из пластов человеческой культуры. В силу различных обстоятельств ительмено-корякский фольклор до настоящего времени остается малоизвестным и недостаточно изученным, что и обусловливает актуальность темы исследования.
Цель исследования: на основе сопоставления этнографического и фольклорного материала выделить сюжеты (в пределах ительмено-корякского вороньего цикла), появление которых было обусловлено особой значимостью брачных связей в традиционной культуре.
Достижение цели реализуется в работе путем решения следующих задач:
изучить фольклорные тексты восточных палеоазиатов (записи разных лет) и выявить в них образы, сюжеты и мотивы, отражающие представления коряков и ительменов о браке;
исследовать характер отражения представлений о брачных связях в фольклорных текстах коренных народов Камчатки;
ориентируясь на актантный уровень, выделить типы сюжетов о сватовстве (в пределах ительмено-корякского вороньего цикла);
рассмотреть характер выделенных сюжетных моделей на уровне действий и на уровне повествования (в соответствии с трехуровневой системой Р.Барта);
выявить в фольклоре коренных народов Камчатки (в пределах вороньего цикла) основу формирования обнаруженного ряда сюжетов о сватовстве;
исследовать возможные пути образования выделенных сюжетов через сопоставление а) этнографических и фольклорных записей, частично отражающих функционирование мифа и ритуала в культуре аборигенных народов Камчатки в период с середины XV11 - по конец XX века, б) локальных характеристик воплощения брачного мотива в ительмено-корякском фольклоре и общих типологических тенденций в фольклоре, обусловленных значимостью брака как явления в любом традиционном (человеческом) обществе.
Объектом исследования является повествовательный фольклор коряков и ительменов (записи разных лет), составивший основу Вороньего цикла.
Предметом исследования выступает характер отражения представлений о браке в фольклоре аборигенных народов Камчатки.
Теоретико-методологической базой исследования являются теоретико-методологические принципы, сформулированные А.Н. Веселовским, Д.К. Зелениным, В.Я. Проппом, Б.Н.Путиловым и др.; научные исследования, посвященные институту семьи: работы Л.Г. Моргана, А.М. Золотарева, В.И. Ереминой, С.А Токарева, Г.В. Дзибеля; научные исследования, посвященные изучению традиционной культуры восточных палеоазиатов: работы Л .Я. Штернберга, В.Г. Богораза-Тана, Л.В. Беликова, Г.А. Меновщикова, Е.М. Мелетинского; научные исследования, посвященные изучению традиционной культуры коренных народов Камчатки: работы СП. Крашенинникова, Г.В. Стеллера, В.И. Иохельсона, С.Н. Стебницкого, Е.П. Орловой, Н.К.Старковой, И.С. Вдовина, А.Н. Жуковой, А.П. Володина.
Методы исследования. Одним из основных методов данного исследования является историко-типологический. Этот метод позволяет, частично реконструировав изначальное соединение ритуала и фольклора, выявить специфику отражения представлений о браке в фольклоре коренных народов Камчатки. В ходе исследования мы обратились к структурно-семиотическому методу, который оказался необходимым для анализа сюжетов как устойчивых моделей.
Материалом для исследования послужили записи ительмено-корякского фольклора. Использован фольклорно-этнографический материал, представленный в следующих работах: СП. Крашенинников. Описание земли Камчатки. - Петропавловск-Камчатский, 1994; В.Г. Стеллер. Описание земли Камчатки. - Петропавловск-Камчатский, 1999; W. Jochelson. The Koryak. - Leiden - New York, 1908; Е.П. Орлова. Ительмены. - СПб.,1999; C.H. Стебницкий. Очерки этнографии коряков. - СПб., 2000; Жукова А.Н. Материалы и исследования по корякскому языку. - Л.: Наука, 1988; А.П. Володин. Ительменский язык. - СПб., 1971; Сказки и мифы народов Чукотки и Камчатки. / Сост., предисл. и прим. Г.А. Меновщикова. - М., 1974. Материалом для данного исследования послужил и фольклорно-этнографический материал, собранный диссертантом во время полевых экспедиций в Усть-Большерецком, Быстринском, Тигильском районах Камчатской области в 2000-2005 гг., частично опубликованный в сборнике Ительменский фольклор. Ительменская разговорная речь. — Петропавловск-Камчатский: Изд. КГПУ, 2004 -147 с.
Теоретическая значимость и научная новизна работы заключается в том, что фольклор коренных народов Камчатки до сих пор остается недостаточно исследованным, таким образом, данная работа представляет собой опыт систематизации малоизученного фольклорного материала. В исследовании представлена система, позволяющая через анализ воплощения представлений о браке выявить особенности формирования традиционных для ительмено-корякского фольклора сюжетов.
Практическая значимость. Материалы диссертации могут быть использованы для составления региональных программ и учебных пособий, цель которых - изучение корякского и ительменского фольклора, изучение истории Камчатского полуострова. Результат исследования тем более значим, что в настоящее время региональный компонент является обязательным не только для высших, но и для средних учебных заведений, а теоретических работ, посвященных изучению фольклора коренных народов Камчатки, практически нет. Это обстоятельство значительно затрудняет работу учителей и препятствует возможности приобщения камчатских школьников и студентов к культуре родного края.
История изучения фольклора коренных народов Камчатки Фольклор коренных народов Камчатки представляет собой одну из граней традиционной культуры коряков и ительменов. Коренные народы Камчатки подверглись процессам ассимиляции, что является закономерным следствием взаимодействия этносов. Тем не менее, остаточные явления традиционной культуры свидетельствуют об уникальности корякского и ительменского фольклора. Мы располагаем ограниченным количеством ительменских фольклорных текстов, так как устная традиция практически полностью прекратила свое существование, но записи, сделанные исследователями в 18- 20 веках, представляют собой ценный материал для изучения.
К аборигенным народам Камчатки исследователи относят корякский и ительменский этносы.
«Коряки составляют одно из этнических подразделений так называемых северо-восточных палеоазиатов. К этой же этнической общности принято относить чукчей, а также ительменов. Связующими признаками названной общности служат антропологические, этнографические и языковые особенности северо-восточных палеоазиатов, отличающие их от других народов Сибири и Дальнего Востока» [44, С.6].
Практически все исследователи корякского этноса отмечали то «дробление на малочисленные этнические подразделения», которое присуще корякскому народу. По убеждению И. С. Вдовина, эта дробность корякского этноса связана не только с особенностями промыслов: «немаловажную роль в этой стороне истории народа играли и взаимосвязи с другими соседними этнически и генетически отличными общностями» [44, С. 11]. Основа жизнедеятельности корякских племен различна. Так обобщенно можно говорить об оленеводстве как основе хозяйственной жизни чавчувенов (оленных коряков) и рыболовстве, морском зверобойном промысле как основе жизнедеятельности нымыланов (береговых коряков). Но, повторимся, что деление корякского этноса на береговых и оленных коряков, несмотря на то, что является общепринятым, не является научным, так как, в соответствии с этнографическими исследованиями, выделяется до 8-9 этнических групп в составе единого корякского этноса. Согласно исследованиям С.Н.Стебницкого, проведенным в 20- 30-е годы XX века, выделяются Итканцы, Паренцы, Каменцы, Апутнцы, Алюторцы, Карагинцы, Паланцы, Чавчувены.
Ительмены - оседлое коренное население Камчатки. Это небольшая народность из группы северо-восточных палеоазиатов. В 18 веке ительмены занимали почти всю Камчатку, от мыса Лопатка до рек Ука, Тигиль. Основой жизнедеятельности ительменов было рыболовство, а охота и собирательство имели вспомогательное значение.
По данным археологов «Камчатка была заселена около 15 тысяч лет назад во время сартанского оледенения. Древние охотники, оставившие культурный слой ушковских стоянок, самые отдаленные предки североамериканских индейцев, первыми заселили Северную Америку, пройдя через Камчатку и Чукотку. Уровень их хозяйства был не ниже, чем у палеолитических охотников Европы. Охотились они уже с помощью лука и стрел. Жили в больших (более 100 кв. метров) наземных сдвоенных шалашеобразных жилищах. Два больших ушковских палеолитических становища, состоявших из таких жилищ, самые древние и единственные в Северо-восточной Азии и на Дальнем Востоке. В таких палеолитических поселках, вероятнее всего, обитала материнская родовая община, состоявшая из парных семейств и ведущая общинное домашнее хозяйство. Основой комплексного хозяйства было не только рыболовство, но также охота, вероятно, облавная, на северных оленей, лошадей и бизонов, лосей и, возможно, мамонтов. ... Наиболее поздний период древней культуры ительменов, генетически связанный с ее кроноцким и тарьинским этапами, описан СП. Крашенинниковым и Г.В. Стеллером в середине 18 века» [120, С.8].
В середине 18 века СП. Крашенинниковым и Г.В. Стеллером сделаны первые записи ительменских фольклорных текстов. СП. Крашенинников в своем труде «Описание земли Камчатки» в главе «О боге и сотворении земли по их мнению» приводит размышления ительменов о сотворении земли. СП.Крашенинников записал ряд этиологических мифов о сотворении Камчатки и о первых существах, заселивших ее. Можно с достаточной долей вероятности говорить о том, что этиологические мифы будут постепенно утрачены ительменским этносом. Так уже в начале 20 века исследователям ительменской культуры не удалось зафиксировать бытование подобных сюжетов. Труд С.П.Крашенинникова «Описание земли Камчатки» [140, 141] является ценнейшим документальным материалом, воссоздающим быт и мироощущение ительменов в середине 18 века.
Почти в то же самое время наблюдение над бытом и духовной жизнью ительменов ведет Г.В. Стеллер. (Ученый приезжает на Камчатку в составе экспедиции в 1741 году) Результатом научных наблюдений явилась книга Г.В.Стеллера «Описание земли Камчатки»[278], именно в этой книге в главе «О религии ительменов», исследователь подчеркивает: «У ительменов столько гнусных и смешных рассказов про своего Кутху, что ими одними можно было бы наполнить целую книгу» [278, С.155]. Г.В.Стеллер приводит несколько ительменских сказок, сюжеты, зафиксированные этим исследователем, будут сохраняться в ительменском фольклоре вплоть до второй половины двадцатого века.
Г.В. Стеллер делает попытку систематизировать сведения, касающиеся духовной жизни ительменов. В частности, он пишет: «Ительмены почитают много богов и верят, что эти боги прежде многим показывались и до сих пор еще являются людям. Поэтому в их языке отсутствует слово «дух» и у них нет самого понятия ни о духе, ни о разумном познании бога и божества. Между тем среди своих выдуманных богов они, по-видимому, все-таки признают разделение по старшинству и наличие некоторых субординации» [278, С.150]. Следует отметить, что Г.В.Стеллер записывает фольклорный материал, не разделяя его по отдельным сюжетам, не давая названий и не делая акцента на жанровой специфике фольклорных произведений. По-видимому, разделение ительменского фольклора на небольшие произведения с более или менее законченным сюжетом и с более или менее подходящим названием является результатом применения научного подхода со стороны исследовавтелей, изучающий ительменский фольклор. Во всяком случае, в записи Г.В.Стеллера фольклорные сюжеты не просто не разделены, а представляют собой единый нескончаемый поток эпизодов, главным героем которых является создатель Камчатской земли и прародитель ительменского народа - ворон Кутх.
Приключения Кутха (Куткынняку) воспринимаются ительменами и коряками как само течение жизни, имеющее особую значимость именно благодаря своей бесконечности (цикличности). Называние предполагает искусственное отделение одного эпизода от другого. С.ІХКрашенинников, и Г.В.Стеллер подчеркивали, что ительмены могли часами рассказывать истории про Кутха. Стремление ительменов и коряков каким-либо образом называть сказки, по-видимому, связано с соответствующими требованиями собирателей фольклора [278, С. 150-156].
Далее фольклор коренных народов Камчатки попадает под пристальный взгляд ученых на рубеже 19-20 веков. В.И. Иохельсон начал исследование особенностей жизнедеятельности, духовной жизни, языка и фольклора коренных народов Камчатки, будучи участником Северо-Тихоокеанской Джезуповской экспедиции, которая состоялась в период СІ898 по 1901 гг. В. И. Иохельсон был увлечен изучением традиционной культуры коряков. Он вел скрупулезные записи, касающиеся быта, религии, фольклора, результатом этой работы явилась книга «Коряки». Это исследование разделено на две части, в первую часть ученый включил наблюдения о духовной жизни коряков и корякские фольклорные тексты f. [324]. Второй том в большей степени касается материальной культуры коряков [115].
В период с 1908- по 1911 годы В.И. Иохельсон вновь посещает Камчатку и Алеутские острова, продолжая вести научную работу по сбору этнографического, фольклорного и языкового материала. В.И. Иохельсон оставил многочисленные записи корякских и ительменских фольклорных текстов, более того, он попытался определить жанровую специфику фольклорных произведений коряков. В частности, В.И.Иохельсон выделяет мифы оленных коряков, мифы береговых коряков и сказки береговых коряков. В.И.Иохельсон первый отметил свойственную корякскому и ительменскому фольклору циклизацию вокруг образа Ворона Кутха \ (Куйккынняку). Собранные этим исследователем фольклорные и этнографические записи являются самыми многочисленными и представляют собой ценнейший материал для изучения.
В середине двадцатых годов XX века на Камчатку приезжает В.Г.Богораз-Тан. Он изучает архаическую культуру аборигенных народов Камчатки, корякский и ительменский (по общепринятой тогда терминологиии - «камчадальский») фольклор, что дает ему основания сопоставлять особенности обрядовой жизни чукчей, эскимосов, коряков и ительменов (камчадалов). Исследования, проведенные В.Г.Богоразом на обширной территории Дальнего Востока (включая крайние северные и крайние южные дальневосточные регионы), позволяют ученому выделить базовые структурные элементы обрядов, свойственных архаическим этносам всего дальневосточного региона, и сопоставить их с устной традицией, явленной в мифе и фольклоре.
Исследуя фольклор коренных народов Камчатки, В.Г.Богораз-Тан приходит к выводу, что фольклор коряков и камчадалов (ительменов) представляет собой единую систему [31, С.29]. Специфику фольклора аборигенных народов Камчатки В.Г.Богораз-Тан определяет следующим образом: «В коряцко-камчадальском фольклоре мы находим центральную группу рассказов, относящихся к похождениям Ворона кутха, его жены и детей. ... Если сравнивать самый характер и настроение коряцко-камчадальского фольклора с фольклором эскимосским, то получается рельефное различие. Коряцко-камчадальский фольклор отличается веселым, насмешливым характером. О Вороне Кутхе рассказывается множество странных и смешных историй о том, как он воевал с мышиными девчонками, как он поджег свой собственный дом, как он влюбился в свое отражение в реке, приняв его за женщину; стал свататься, нырнул в реку и утопился. Кутх фигурирует то в виде человека, то в виде ворона. Фольклор относится к нему совершенно непочтительно. Одновременно с этим кутх является также Вороном творцом, сотворившим небо и землю. Кутх создал человека, добыл для него огонь, потом даровал ему зверей для промысла» [31, С. 29].
Согласно исследованиям В.Г.Богораза, такой характер корякско-ительменского фольклора не может быть объясним влиянием времени или цивилизации: «В данном случае нельзя говорить о перерождении коряцко-камчадальского фольклора, ибо по свидетельству Крашенинникова камчадальский фольклор имел точно такой же характер два века тому назад, во время появления русских. В дальнейшем камчадальско-коряцкий фольклор значительно разрушился и выпал из памяти позднейших поколений. Но характер того, что еще сохранилось, ничуть не изменился против старых образцов» [31, С.ЗО]. Исследования В.Г.Богораза-Тана представляют собой обобщение, построенное на сопоставлении обрядовой и фольклорной систем, что, по существу, является ключом к изучению архаического фольклора. Проблема состоит в том, что исследования В.Г.Богораза-Тана не являются общедоступными. Большая их часть хранится в архивах в рукописном варианте.
В конце 20-х, в 30-е годы XX века корякский язык и фольклор изучает С.Н.Стебницкий. В своей статье «Корякский исторический фольклор и зарождающаяся корякская литература» исследователь предлагает следующую классификацию: «Корякский фольклор, чрезвычайно богатый по своему содержанию, можно подразделить на три больших раздела: 1) фольклор мифологический, 2) фольклор исторический, 3) фольклор бытовой. Мифологический фольклор наиболее богат и разнообразен, но при всем разнообразии он представляет собою единый цикл мифов о Вороне - творце, общий для всех палеоазиатских народностей чукотской группы (чукоч, коряков, ительменов) и свойственный также эскимосам. Бытовой фольклор значительно беднее, он содержит по преимуществу рассказы о хозяине -богатом оленеводе и работнике - оленном батраке. Что касается исторического фольклора, то в противоположность мифологическому, он не представляет собой единого цикла» [276, С.23].
Подробно С.Н.Стебницкий рассматривает исторические предания и анализирует сюжеты и мотивы зарождающейся корякской литературы. Основательные исследования СН.Стебницкого должны были рано или поздно выявить базовые компоненты научной системы изучения фольклора коренных народов Камчатки, но внезапная гибель ученого, призванного в действующую армию в начале Великой Отечественной войны, помешала воплощению его научных планов.
В конце двадцатых годов советский этнограф Е.П.Орлова, приехав на Камчатку, принимает участие во Всесоюзной переписи населения. Уже будучи в Ленинграде, исследовательница продолжает обрабатывать свои полевые записи и пишет ряд статей. В пятидесятые годы XX века Е.П.Орлова вновь приезжает на Камчатку. В ходе экспедиций Е.П.Орлова записывает ряд фольклорных текстов и дает небольшой комментарий к ним. В частности, Е.П.Орлова отмечет: «Излюбленной формой народного творчества ительменов являются сказки, которые могут быть отнесены к двум группам: мифологическому и героическому эпосу. Главным персонажем мифологических сказок является Кутха, а героических и бытовых - Тылвал» [228, С. 127].
Своеобразие сюжетов ительменского фольклора Е.П.Орлова объясняет особенностями мировоззрения ительменов. Коротко характеризуя ительменский фольклор, она выделяет принципиально значимые для понимания архаической культуры черты: «В приведенных сказках, как нельзя лучше, сказывается основная сущность мировоззрения ительменов -это анимизм. ... до сих пор вера в существование души, тотемизм и фетишизм господствуют в религиозных верованиях ительменов и уживаются рядом с христианскими мировоззрениями, принесенными на Камчатку в сороковых годах 18 столетия» [220, С. 134].
Долгое время подготовленные материалы лежали в архиве, но в 1999 году к столетию со дня рождения Е.П.Орловой Музей антропологии и этнографии РАН издал книгу исследовательницы.
В конце 50-х - в 60-е годы И.С.Вдовин изучает особенности мировоззрения коряков, условия их жизнедеятельности. Побывав в самых отдаленных селах, археолог зафиксировал бытование там архаических ритуалов. И.С.Вдовин детально описывает увиденные им ритуальные празднества, мифологические объяснения, соответствующие ритуальному действу, функции и внешний облик ритуальных фигурок [44]. И.С.Вдовин признает, что корякский фольклор не поддается какому-либо объяснешо, вместе с тем скрупулезные записи, касающиеся обрядовой жизни и социальной организации коряков, сделанные ученым, представляют собой одно из оснований для изучения архаической фольклорной системы.
В 60-е годы XX века советские лингвисты обращаются к научному изучению языков аборигенных народов Камчатки. А.Н. Жукова исследует фонетические, морфологические, синтаксические особенности корякского языка и составляет словари, учебники для педагогических училищ [98, 99, 101]. В процессе работы исследовательница записывает целый ряд фольклорных текстов [100], которые представляют большой интерес для изучения.
В этот же период другой советский лингвист А.П.Володин занимается исследованием ительменского языка. Результатом этой научной работы явилась его книга «Ительменский язык» [50]. Исследуя лингвистические закономерности, ученый записывает ительменские фольклорные тексты, часть которых опубликована в приложении к книге «Ительменский язык», часть - в сборнике «Сказки и мифы народов Чукотки и Камчатки» [269].
А.Н. Жукова и А.П. Володин оставили записи фольклорных текстов, но предметом их научного интереса, прежде всего, был язык коренных народов Камчатки.
Значимым этапом в изучении фольклора аборигенных народов Камчатки явился выход книги «Сказки и мифы народов Чукотки и Камчатки»[269]. Часть текстов, записанных В.И Иохельсоном, Е.П.Орловой, А.Н.Жуковой, А.П.Володиным, была опубликована именно в этом сборнике. Все записи снабжены точными указаниями, от кого, кем и когда были записаны эти тексты. В начале сборника помещена научная статья Г.А.Меновщикова «Об устном повествовательном творчестве народностей Чукотки и Камчатки». Г.А.Меновщиков, знаток эскимосского фольклора и фольклора народов Чукотки, говорит об общности сюжетов в фольклоре народов Камчатки и Чукотки: «Мифы и сказки о вороне у эскимосов столь же древни, как и у чукчей, коряков, ительменов и северных индейцев. Но особая циклизация этих мифов нашла свое своеобразное и неповторимое развитие в ительмено-корякском регионе, откуда получила распространение в чукотском и эскимосском фольклоре. В данном случае имеется в виду примечательный цикл с вороньим персонажем Кутхом - Куткыннеку, сосуществующий параллельно с более архаическим циклом сказаний о вороне-творце» [269, С.20]. Анализируя особенности взаимодействия народов Чукотки и Камчатки, а также наличие определенных сюжетных линий в фольклоре азиатских эскимосов, чукчей, кереков, коряков и ительменов, Г.А.Меновщиков приходит к выводу, что «центром наибольшего распространения вороньего цикла предстает не Чукотка, а Камчака» [269, С.20]. По утверждению исследователя, «именно в корякском и ительменском фольклоре возникли и развились совершенно уникальные предания и сказки о вороне Кутхе - Куйкыннеку, воплотившем в себе черты культурного героя - творца вселенной и персонажа волшебно-мифических и животных сказок, в котрьгх его героический образ снижается до комического, когда мудрый творец превращается в шута, обманщика, обжору. Этот синкретизм мифа и сказки характерен для устного творчества большинства коренных народов северной Азии и северо-Западной Америки» [269, С.21].
Помимо вороньего цикла, «значительное место среди волшебно-мифических сказок у палеоазиатов Чукотки и Камчатки занимают сказки о дружественных, родственных и брачных связях человека с животными» [269, С.ЗО]. Г.А.Меновщиков указывает на архаическую основу формирования сюжетов: «В сказках этого типа ярко выражаются мотивы ранних тотемических представлений первобытного охотника ... . Добыча еды, охотничья удача первобытного охотника в этих сказках связывается с его ранними мифологическими и анимистическими представлениями» [269, С.ЗО].
В конце 60-х - 70 годы XX века на Камчатке в самых отдаленных населенных пунктах работает этнограф Владимир Иванович Малюквич, внимательное отношение ученого ко всему, что касалось материальной и духовной культуры коряков, побудило его не только вести исследования этнографического характера, но и на протяжении длительного времени фиксировать произведения корякского фольклора. Многие сюжеты, записанные В.Н.Малюковичем, были опубликованы в камчатских периодических изданиях. В 2001 году был издан подготовленный исследователем сборник корякских сказок «Кутккынняку»[189].
В 1960 - 70-е годы к исследованию фольклора восточных палеоазиатов обращается Е.М.Мелетинский. Изучая особенности корякского и ительменского фольклора, Е.М.Мелетинский приходит к выводу (возможно, ориентируясь на исследования В.Г.Богораза-Тана), что есть все основания рассматривать ительменский и корякский фольклор как целостную систему, как «корякско - ительменскую фольклорную общность» [194, С.ЗЗ]. Единство системы фольклорных персонажей, основных сюжетных линий, мотивов являются действительным основанием для изучения корякского и ительменского фольклора как целостной системы, хотя в результате научных исследований лингвистов, было выдвинуто предположение, что ительменский и корякский языки не являются родственными. Одним из оснований объединения ительменского и корякского фольклора в целостную систему послужило наличие персонажей, характерных как для корякских, так и для ительменских повествований. В частности, характеризуя образ Ворона, Е.М.Мелетинский отмечает: «В корякско-ительменском фольклоре (как ХУЩ, так и XX века) он [Ворон] - отец многочисленного семейства, от которого «едут -свое яроиехождение люди, прежде зсего коряки и ительмены» [194, С.39].
По наблюдениям Е.М. Мелетинского, «В фольклорных записях начала "XX века корякский и ительменский материал (в частности, записи В.И.Иохельсона) обнаруживают единство вороньего цикла у обеих народностей и в о"бщих чертах близость тому состоянию традиции, как она отражена в наблюдениях С.П.Крашенинникова» [194, С.36].
Исследования Вороньего цикла в фольклоре восточных палеоазиатов позволяют Е.М.Мелетинскому выделить следующие особенности в фольклоре аборигенных народов ТСамчатки: «Представление о Вороне как первопредке способствовало специфической для корякско-ительменского фольклора (в отличие от чукотского) генеалогической или, вернее, семейной циклизации, -в результате которой не только цикл Ворона представляется чрезвычайно обширным, включающим повествования и о -нем и t) его многочисленных родичах и тготомках, но и вообще очень большая часть фольклорного массива оказывается сфокусированной вокруг "Ворона, входит в этот цикл как в своеобразный мифологический эпос. В корякско-ительменском фольклоре нет никаких сказаний о родоначальниках, которые не были бы детьми Ворона, все рассказы о борьбе со злыми духами отнесены к Ворону ... , даже некоторые героические сказки привязаны к детям Ворона, прежде всего к Эмэмкуту» [194, С. 42]. Исследователь делает попытку вывести некую формулу, универсальную основу синтагматики сюжета, применимую к выделенным им типам сюжетов корякско-ительменского фольклора. В целом следует отметить, что основательные исследования В.Г.Богораза-Тана, С.Н.Стёбницкого, Г.А.Меновщикова и Е.М.Мелетинского определяют перспективы дальнейшего изучения фольклора коренных народов Камчатки.
Объем работы составляет 274 страницы. Список использованных источников включает 324 наименования. Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав, заключения и списка источников.
Апробация работы. Работа обсуждена в Отделе фольклористики Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН и на кафедре литературы Камчатского государственного педагогического университета. Некоторые аспекты исследования отражены в публикациях и представлены в виде докладов на научных конференциях разных уровней: на 4-й международной конференции молодых ученых и студентов «Актуальные проблемы современной науки» (Самара, 2003), на Всероссийской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и образование» (Томск, 2003), на Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы современной филологии» (Киров, 2003), на Региональной научно-практической конференции «Гуманитарные науки и современность» (Комсомольск-на-Амуре, 2003), на Межвузовской научно-практической конференции «Теория и практика гуманизации образования» (Петропавловск-Камчатский, 2000), на Межвузовской научно-практической конференции «Смысловое пространство текста» (Петропавловск Камчатский, 2002, 2003, 2004). Результатом обработки экспедиционного материала явилась книга: Успенская В.И., Голованева ТА. Ительменский фольклор. Ительменская разговорная речь. — Петропавловск-Камчатский: Изд.КГПУ, 2004. - 147с.
Положения, выносимые на зашиту.
1. Повествовательный фольклор аборигенных народов Камчатки отразил основы формирования брачных отношений в данных культурах, что выразилось в формировании определенных сюжетных моделей, составивших основу Вороньего цикла.
2. Мифологические сюжеты о сватовстве представляют собой воплощение архаического единства обрядов инициации, брачных обрядов и обрядов смерти.
3. В основе формирования сюжетов о сватовстве лежат мифологические оппозиции свое / чужое, мужское / женское, живое /мертвое, культурное / природное, что определило устойчивую систему персонажей в ительмено-корякском фольклоре.
4. Сюжеты о сватовстве потомков Большого Ворона восходят к мифо-ритуальному единству, где брак предстает как многофункциональное явление:
брачные отношения включены в систему космогонических представлений о мире;
динамика годового цикла предстает как проекция брачных отношений мифологических персонажей;
- в культовых представлениях брак формируется как иерогамный;
- родовое единство членов человеческого сообщества и тотемного предка инициируется (поддерживается) брачной связью.
Брачные обряды и их роль в культуре аборигенных народов Камчатки
В фольклоре коренных народов Камчатки особую роль играют сюжеты, в основе которых лежит мотив сватовства. Понятие «сватовство» нуждается в уточнении. Сватовство - ряд ритуальных действий, предшествующих браку. Во многих сюжетах мифологических сказак Вороньего цикла движущим началом является налаживание брачных связей между героями.
Установление брачных связей с целью укрепления и продолжения рода являлось одним из главных предназначений человека. Испытания, предшествующие брачному союзу, и у ительменов, и у коряков сопряжены со множеством трудностей. Вызванно это особым отношением к браку в архаической культуре.
Представления о браке в архаическом обществе, прежде всего, связаны с тотемизмом. «Брачные отношения, с одной стороны, связаны с тотемизмом, а с другой стороны, с эротическими культами и обрядами, то есть с отношением человека к взаимоотношению полов. Если в основе тотемизма лежит представление о родственных связях между отдельными видами животных и данным племенем, то в основе эротических культов и обрядов -восприятие архаическим сознанием мужского и женского начал как противоположных, противоборствующих и одновременно с этим неразделимых. Чрезвычайно важно, что брачные и кровнородственные отношения составляли в первобытную эпоху вообще основную форму общественных отношений» [284,СЛ53]. Это объясняет принципиальную значимость темы, акцентирующей внимание на отражении брачных отношений в фольклоре архаических народов.
На представление о браке и формирование брачных обрядов в архаических культурах влияют, по-видимому, и обряды инициации. Никто из исследователей традиций коренных народов Камчатки не упоминает об исполнении обрядов инициации в этих архаических обществах, но зато практически все этнографы отмечают длительность и сложность предбрачных испытаний: «Если кто-нибудь из ительменов задумает жениться, то он не иначе может добыть себе жену, как отслужив известный срок ее отцу. Выбрав себе девушку, он отправляется в ее жилище, не произносит по поводу своего намерения ни единого слова, но делает вид, как будто уже давным - давно знаком с семьей. Он начинает принимать самое деятельное участие во всех работах по дому и старается, выказывая особую силу, исполняя самую тяжелую работу и угождая своим будущим тестю и теще, а также невесте, снискать всеобщее благоволение» [278, С. 196].
Обычай отработки невесты существовал и у корякских племен, исполнение его строго соблюдалось. Обратившись к исследованию данного вопроса, В.И.Иохельсон отметил особую роль сватов в совершении брачных обрядов: «Обычай сватовства, когда родители или ближайшие родственники жениха отправляются сватами к родителям невесты, практиковался, по-видимому, еще в древние времена. Мы встречаемся с этим обычаем в мифах. Сват называется panilocetalan (т.е. «вопрошающий»), потому что суть сватовства состоит в том, что отец, мать или другой старший родственник жениха спрашивает позволения жениху отрабатывать невесту» [115, С. 188].
В.И.Иохельсон связывает обычай отработки невесты с необходимостью выяснить, насколько усерден, трудолюбив, покорен и терпелив жених: «По моему мнению, отработка невесты у коряков служит как бы испытанием жениха. Работающий на невесту жених - не простой работник. Суть здесь не в приносимой им пользе, а в тяжелых и унизительных испытаниях, которым он подвергается. Постель ему дают плохую, кормят скудно, не позволяют долго спать и дают непосильные поручения ... . Отец невесты дает свое согласие на брак только после того, как жених хорошо выдержит свое испытание» [115, С.188].
То особое место, которое занимали брачные обряды в ительменской и корякской культуре, неукоснительное соблюдение брачных обрядов, вероятно, явились основой создания сюжетов о сватовстве.
Обилие сюжетов, так или иначе связанных с реализацией представлений о браке, является одной из характерных черт архаического фольклора в целом, при этом, как отмечает Б.Н.Путилов, «свадебный фольклор какого-либо этноса в своем составе, в структуре, содержании несет следы обусловленности типовыми для данного общества представлениями о браке и о возникающей молодой семье, принципами и нормами самого института брака и правилами его заключения, характером отношений родства и действующими законами экзогамии, хозяйственно-экономическими аспектами брачных отношений молодежи, комплексом мифологических и магических представлений и магической практики, относящихся к браку и семье» [256, С.97].
Насколько сюжеты корякских и ительменских мифологических сказок о сватовстве можно соотносить со свадебным фольклором еще предстоит выяснять, но то, что брачная тема является одной из приоритетных, не подлежит сомнению. Это было отмечено Е.М.Мелетинским: «Особый раздел корякского и ительменского фольклора составляют мифологические сказки (в жанровом отношении они стоят посередине между мифом и волшебной сказкой) о любовных и матримониальных приключениях сыновей и дочерей Ворона» [194, С.59].
Тема установления брачных отношений реализуется в фольклоре коренных народов Камчатки, прежде всего, через воплощение архаических культов, так как само представление о браке своими основами связано с особенностями мировоззрения. «Брак есть один из способов установления родства, наличие кровнородственных отношений между тотемными животными и человеческим родом является одним из ключевых представлений, свойственных тотемизму» [284, С.67]. Таким образом, сюжеты о сватовстве в ительменском и корякском фольклоре не могут рассматриваться вне связи с тотемизмом, и, в целом, вне связи с архаическими культами. Более того, именно архаические культы, метаморфизируясь, являются одной из основ формирования брачных обрядов и фольклорных сюжетов о сватовстве. С.А. Токарев, исследуя особенности архаических культур, следующим образом определял появление тотемизма: «...этот единственный доступный первобытному сознанию тип отношений -кровнородственный - переносится и на внешнюю природу. Тесная, чисто материальная связь человеческой группы со своей территорией, с охотничьими угодьями, с животными и растениями осознается как кровнородственная связь. Животные и растения находятся между собой и с человеческими группами (родами) в отношениях того же кровного родства, как люди между собой» [284, С. 188].
Однако брачные мотивы, вплетаясь в общую систему мировоззрения, не могут ограничиваться только тотемическими представлениями о родственной связи между человеком и животным. Все области жизни человеческого общества, его духовной сферы, так или иначе, пересекаются с брачной темой.
Сватовство трикстера как основа популярного цикла сюжетов об изменах Большого Ворона
Нам представляется, что наиболее целесообразно в данном случае воспользоваться разработанной Б.Кербилите системой элементарных сюжетов [126]. Сопоставив элементарные сюжеты, установим закономерности их порядка следования, а также внутри них выделим устойчивые микропоследовательности, что позволит не только выделить структурные особенности данного сюжета, но и сосредоточить внимание на наиболее важных, максимально устойчивых элементах.
Проследим особенности развития действия в данных вариантах. Если рассматривать шесть записанных вариантов сюжета о сватовстве Ворона к своему отражению в воде, то можно выявить четыре сюжетных хода (по терминологии Ролана Барта [19]), реализующихся в представленных вариантах: 1. Первый сюжетный ход: Встреча Ворона и мышей. Отнимание посредством обмана обретенной добычи одной из сторон. -Возвращение Ворона с отнятой добычей в свое родовое пространство. - Возмездие мышей: отнимание посредством обмана утраченной прежде добычи. - Обнаружение Вороном пропажи. - Стремление к возмездию со стороны Ворона: вхождение Ворона в пространство мышиного селения. - Глумление мышей над заснувшим в их доме Вороном: пришивание к его ресницам красных лоскутков. -Пробуждение Ворона. - Возвращение Ворона в родовое пространство. - Видение Вороном горящего дома. - Тушение огня сыном Ворона. -Обнаружение женой Ворона красных лоскутков на глазах мужа. Разоблачение обмана. - Стремление к возмездию со стороны Ворона: вхождение Ворона в мышиное селение. - Глумление мышей над заснувшим в их доме Вороном: раскрашивание лица Ворона. -Пробуждение Ворона. -Движение «преображенного» Ворона к воде. -Видение Ворона в воде своего отражения - красивой татуированной женщины. - Сватовство Ворона к своему отражению в воде: принесение в дар татуированной женщине подарков. - Погружение ворона в воду. - Выбрасывание Ворона на берег волнами (течением). Этот сюжетный ход является наиболее детализированным и, самое главное, неизменным для всех вариантов данного сюжета. 2. Второй сюжетный ход: Подмена истинной жены Кутккынняку собакой-женщиной. -Разоблачение обмана. -Возвращение истинной жены Мити. - Сжигание собаки-женщины в огне домашнего очага. Данный сюжетный ход отмечен в одном варианте, но интересен он тем, что его конструкция востребована в мифологических сказках о женитьбе Эмэмкута на женщине - Черемше. Стержневыми функциями этого сюжетного хода является подмена истинной жены ложной женой и последующее за этим разоблачение ложной жены и возвращение истинной. Более подробно остановимся на природе этого сюжетного хода в главе II. 3. Третий сюжетный ход: В результате сватовства к своему отражению в воде Куткыняку попадает на берег, где его находит девочка-сиротка, которая заботится о нем. - По возвращению домой Куткыняку сватает за эту девочку своего сына Эмэмкута. - В результате этого посредничества устанавливается счастливый брак между Эмэмкутом и девочкой-сироткой. Данный сюжетный ход, как и обозначенный нами предьідущий (второй), явлен только в одном варианте (в записи В.И.Иохельсона). Конструкция этого сюжетного хода востребована в сюжетах о сватовстве Эмэмкута. В связи с этим более подробно особенности данного сюжетного хода мы рассмотрим в главе II. 4. Четвертый сюжетный ход насыщен этиологическими мотивами: После неудачного сватовства к своему отражению в воде Кутккынняку заболевает, в результате чего перестает светить солнце. -Кутккынняку отправляется на поиски солнца в лес, где находит Сестру Листьев, которая проглотила солнце. - Кутккынняку обманом заставляет Сестру листьев открыть рот, солнце выскакивает из ее чрева и возвращается на свое место. Так как в этом случае брачная тема практически не явлена, данный сюжетный ход мы не будем рассматривать в диссертационном исследовании, чтобы не отклоняться от темы диссертации. Итак, перед нами шесть вариантов, четыре сюжетных хода, в трех из которых, так или иначе, воплощаются представления о браке. Для всех этих трех сюжетных линий характерна структурная устойчивость, что подтверждается наличием их вариантов, записанных в разных населенных пунктах Камчатки на протяжении более чем двухсот лет. Из рассматриваемых трех сюжетных ходов (1,2,3) второй и третий рассмотрим в следующих главах в сопоставлении с сюжетами о сватовстве Эмэмкута, где эти модели будут также востребованы. В настоящей главе сосредоточим все внимание на одной сюжетной линии (первой), тем более что она представляется наиболее устойчивой (проявляется во всех вариантах), и не проявляется в сюжетах о сватовстве потомков Ворона. Придерживаясь предложенной Е.М.Мелетинским терминологии, определим этот сюжетный ход как мифологический анекдот, ориентируясь на высокую степень комичности, и тематически обозначим его как мифологический анекдот о сватовстве Ворона к своему отражению в воде. Данный сюжет состоит из нескольких элементарных сюжетов, последовательность которых допускает небольшие изменения, но завершающим во всех вариантах является элементарный сюжет, повествующий о сватовстве Кутха своему отражению в воде - татуированной женщине.
Есть основания говорить о том, что мифологические анекдоты о сватовстве Кутха к своему отражению в воде и мифологические анекдоты о сватовстве Кутха к своим испражнениям восходят к древнейшим заговорам. Соответствие между корякскими сказками и корякскими заклинаниями отметил еще С.Н.Стебницкий: «Корякские заклинания интересны с точки зрения разработки вопроса о происхождении и развитии корякского фольклора. Уже те немногое краткие тексты, которые я имел возможность привести из записей В.И.Иохельсона и частично из моих записей, говорят о целом ряде совпадений или сходств между заклинаниями и сказками. ... Следует предположить, что чрезвычайно своеобразный, почти неподдающийся объяснению корякский мифологический фольклор развился на основе заклинаний.
Сюжеты о сватовстве потомков Большого Ворона как основа формирования Вороньего цикла. Общие положения
Брачные отношения, являющиеся основой сюжетной коллизии многих ительменских и корякских мифологических сказок, имеют общие, принципиально значимые черты: речь в подавляющем большинстве сюжетов идет об установлении экзогамного брака, кроме того, одну из сторон в устанавливающихся брачных отношениях представляют дети Кутха, в ительмено-корякской мифологии - это люди второго поколения. Анализ фольклорных сюжетов показал, что, по-видимому, в мифологической картине мира аборигенных народов Камчатки главное назначение второго поколения (детей Кутха) - установление таких способов межродового взаимодействия, которые бы позволяли налаживать экзогамные браки и могли бы способствовать стабильности этих браков.
Появление множества сюжетов об установлении межродовых брачных отношений, безусловно, связано с утверждением экзогамной семьи как единственно возможной, как нормы. В процессе перехода архаического общества от эндогамной семьи к экзогамной - мир значительно усложняется необходимостью налаживать межродовые отношения. Теперь представителям одного рода необходимо в целях налаживания брачных отношений выходить за пределы родового пространства, где отношения и приоритеты уже установлены. В фольклорных сюжетах выход героя в поисках жены (мужа) за пределы пространства своего рода обуславливает появление в сюжете сложных испытаний, в результате преодоления которых утверждается стабильность экзогамного брака.
Утверждение экзогамной семьи как нормы соединено в человеческом обществе с формированием сложной брачной обрядности, регулирующей противоречивые, более того, изначально - конфликтные, межродовые взаимоотношения. Брачные обряды служат неким гарантом успешности процесса вступления в экзогамную брачную связь, но возникновение обряда - сложный и длительный процесс. На определенном этапе развития архаического общества установление брачных отношений с представителем иного рода становится главной задачей каждого человека, достигшего половой зрелости. Установление упорядоченных брачных отношений — один из важнейших этапов в жизни человеческого общества.
Такая исключительная значимость налаживания упорядоченных брачных отношений в жизни архаического общества дает основание сопоставлять обряды брачные и обряды инициации. На возможную сопоставимость брачных обрядов и обрядов инициации указывает В.И.Еремина: «Действительно, у тех культур, у которых был сильно развит институт инициации, он до определенного времени мог заменить собой брачный обряд ...» [92, С.7]. Вероятно, можно предполагать и существование обратного процесса, при котором брачный обряд в некоторой степени заменял собой обряд инициации.
Обряды инициации занимали исключительное место в жизни архаического общества. Тем более интересно, что в этнографических исследованиях, посвященных жизнедеятельности коренных народов Камчатки не встречается описаний обрядов данного типа, и вообще нет упоминания об инициации как особом, необходимом для каждого полноправного члена общества, испытании. В противоположность этому, и у коряков, и у ительменов тщательнейшим образом были предопределены все этапы прохождения предбрачных испытаний, что позволило исследователям вести подробные записи, отражающие брачную обрядность этих народов [141, С.120-125; 278, С.196-199; 115, С.185- 199; 276, С.164-182; 228, С.73-78; 44, С.204 -209].
Этнографы, изучающие корякскую и ительменскую культуру, отмечали обилие физических и духовных испытаний, предшествующих совершению брака. Есть все основания предполагать, что в традиционной культуре коряков и ительменов произошло сращивание обряда инициации и брачного обряда.
По мере установления определенного набора стандартов поведения, гарантирующих счастливый экзогамный брак, произойдет значительное изменение в жизни архаического общества: процесс установления брачной связи будет регулироваться брачными обрядами.
Появившиеся в свое время многочисленные сюжеты о налаживании брачных отношений, вероятно, представляют собой фольклорное воплощение опыта налаживания экзогамных браков в жизни корякского и ительменского этносов. Этим и объясняется то значительное место, которое занимают сюжеты подобного типа в архаическом фольклоре. В подавляющем большинстве случаев в мифологических сказках в качестве одной из брачующихся сторон предстает кто-либо из потомков Большого Ворона. Такой выбор персонажей обусловлен той мифологической самоидентификацией ительменского и корякского народов, согласно которой они являются дальними потомками Кутха (Куйкынняку). Г.В.Стеллер, характеризуя религию ительменов, указывал: «О Кутхе ительмены говорят, что им неведомо, откуда он явился и чей он родом. В равной мере им неизвестно и то, куда он впоследствии девался. Его собственные потомки, будто так сильно обижали его, что он удрал от них. Одно, впрочем, известно, а именно, что Кутха пошел вдоль морского побережья на север, в страну коряков и чукчей. Быть может, ительмены хотят этим указать на общность своего происхождения с последними. Это подтверждается и тем обстоятельством, что коряки также считают Кутху своим творцом и рассказывают о нем схожие с ительменскими истории» (курсив наш. -ТТ.) [278, С Л 56].
В период возникновения сюжетов подобного типа сама граница добрачного и послебрачного положения еще не была четко определена, брачные обряды только проходили стадию формирования. Очевидно, что чем сложнее обрядовое действие, утверждающее брачные отношения, чем строже соблюдаются эти обряды, тем отчетливее проявляется граница добрачных и послебрачных отношений.
Функциональные роли персонажей в мифологических сказках о сватовстве потомков Кутха (Куткынняку), рожденных от его брака с Мити
Подлинное перерождение неизбежно связывается в архаической культуре со смертью, поэтому в некоторых вариантах девушка-олень сама идет навстречу охотнику:
«Пошел олень прямо к охотнику. Увидел охотник оленя, подкрался близко, выстрелил и убил. Распорол ему брюхо - вышла оттуда красивая девушка» [269, №175].
Исследуя архаические обряды, В.Г.Богораз-Тан отметил сопоставимость охотничьих и брачных обрядов: «Они {мужчины и женщины - Г.Т.) выстраиваются друг против друга, мужчины изображают охотников, а женщины - зверей. Женщины входят, они одеты в звериные шкуры и даже в звериные маски, они изображают охотничью добычу, убитую мужчинами, но ныне воскресающую. Начинается диалог, пение и пляска. ... Пляска принимает постепенно довольно свободный характер. Женщины бросаются к мужчинам, крепко обнимают их и в то же время царапают им спину своими ногтями или лапами звериной шкуры.
Таким образом, происходит примирение и сближение одновременно охотников и зверей, а так же мужчин и женщин» [31, C.32J. Охотник, убивший девушку-зверя, становится ее истинным мужем. Убиение предполагает воскрешение, но воскрешение это будет уже в ином качественно преображенном облике. Обращает на себя внимание тот факт, что эпитет «красивая» впервые появляется в сказке только после выхода девушки из чрева животного. До сих пор внешность «кукол», а затем «девочек» не заслуживала такого восхищения. Сотворенные Кутхом дочери проходят несколько стадий отделения: сначала они под воздействием Кутха отделяются от природного вещества, затем они отделяются от их создателя (отца) Кутха, далее они отделяются друг от друга: «Надо нам отдельно стать», и в конечном итоге - отделяются от звериного материнского чрева. Все эти четыре стадии отделения необходимы для того, чтобы совершилось брачное соединение каждой из них: выйдя из чрева животного, они обретают мужей - охотников. Вероятнее всего, в сюжетах данного типа отразились представления о брачном союзе охотника с тотемным животным. Охотник, убивая зверя, роднится с ним. Во всех вариантах вышедшая из тела животного девушка садиться в нарты того охотника, который ее убил: «Стали ее охотники к себе в нарты звать, ни к кому она не хочет сесть, говорит: -Кто меня добыл, к тому и сяду»[269, № 175]. Есть все основания предполагать, что в данных сюжетах сохранились отголоски ритуальной магической охотничьей практики. Обряд убиения зверя обязательно предполагает и воскрешение этого зверя. В данном контексте можно говорить об аналогии между воскресением убиенного животного и установления с ним брачной связи. В сюжете акцентирована никчемность, внешняя нелепость, и даже бедность истинного жениха: «Был в этом селении человек по имени Сысыльхан. Везоленный, бессобачный, да и нарт у него не было. Стал и он по-маленьку в дорогу собираться. Торопиться ему нечего, когда-то еще поймает собачек — мышек. Походил по ямкам, по дыркам, посвистел. Созвал мышей. Вместо нарты корыто из-под кислой рыбы взял, вместо остола кочергу от печки. Запряг мышей в корыто и поехал. Мыши по пути то в ямку забегут, то в дырку. У товарищей там уже все стрелы кончились, а он еще только подъехал. Лук у него из прутьев, стрелы из веток, наконечники из верхушек ольхи. Товарищи его торопят: - Скорее подъезжай, скорее стреляй в медведя. Подъехал Сисильхан и сразу выстрелил. Стрела еще и не долетела до того медведя, а он уж сразу упал» [269, №175]. Можно говорить о некой предназначенности одного для другого в процессе установления брачной связи. С одной стороны, девушка, находящаяся во чреве медведя, предназначена для своего жениха - охотника не потому что он самый бедный и самый никчемный, а потому что она предназначена именно для него и ни для кого другого, и даже долгое запаздывание, отсутствие острых стрел и т. д. не могут помешать установлению изначально определенной брачной связи. Так, по свидетельству Н.Н. Берегти, у коряков существовал обычай сведения брака, когда предполагаемые жених и невеста были еще детьми, только родились [27, СЮ]. Но нарочитое запаздывание истинного жениха сопоставимо и с особенностями традиционных корякских гонок на собачьих упряжках. Н.Н.Беретти отметил, что «некоторые распределяют призы между прибывшими первыми и последними. Интересно в данном случае посмотреть, как участники состязания, отчавшиеся приехать первыми, стараются попасть на последнее место, причем непременным условием взятия приза является обязательство - ни разу не остановиться в дороге. Сколько здесь проявляется искусства со стороны состязающихся при старании ехать как можно медленнее и вместе с тем не остановиться ни разу!» [27, С.30].
Мотив бедности является более поздним. Брак представляется той ситуацией, которая переворачивает социальный статус героя. В архаических повествованиях такой ключевой точкой являлась инициация. Во всех вариантах сюжетов данного типа подчеркивается то необыкновенное перевоплощение плохонького героя-жениха в красавца-мужа, которое происходит после установления брачной связи. Такое восприятие брака характерно для мирового фольклора в целом.
Но, возможно, оборотный герой, которым является потенциальный жених, вместо нарт использующий корыто, вместо собак - мышей, именно потому и достоин быть истинным мужем, что ближе всего к состоянию оборотности, к тому состоянию, через которое проходит и невеста в преддверии брака. Такая оборотность есть признак выделенности, исключительности, именно поэтому старшая сестра уже в финале сказки говорит младшей: