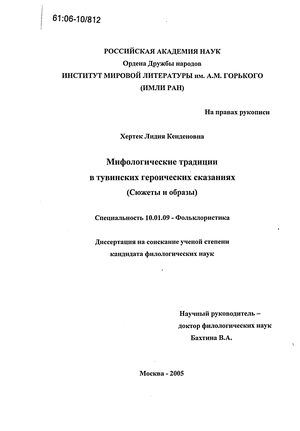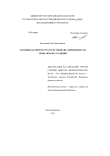Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Мифологические герои
1.1. Эпическая модель мира 20
1.2. Происхождение главного героя 27
1.3. Герой-первопредок (Ары-Хаан) 48
1.4. Герой-демоноборец (Хунан-Кара, Кара-Когел, Алдай-Сумбер) 55
1.5. «Культурный герой» (Танаа-Херел) 78
1.6. Герой - древний охотник (Бокту-Кириш) 85
1.7. Образы противников героя 101
Глава 2. Женские персонажи
2.1. Алдын дангына 108
2.2. Образы сестры героя (Бора-Шээлей, Онгун-Чечен) 129
Глава 3. Древние истоки образа коня
3.1. Героический образ коня 144
3.2. Мифический образ коня 162
Заключение 169
Приложение 1 176
Приложение 2 180
Список использованных источников и литературы 197
- Эпическая модель мира
- Герой - древний охотник (Бокту-Кириш)
- Образы сестры героя (Бора-Шээлей, Онгун-Чечен)
- Героический образ коня
Введение к работе
Центральная Азия является прародиной многих кочевых народов, культура которых насчитывает не одно тысячелетие. Героический эпос, как одно из высших достижений этой культуры^также имеет древнейшую историю. Как отмечают эпосоведы, героические сказания народов Центральной Азии во многих отношениях уникальны (Мелетинский, 1963; Неклюдов, 1984; Чагдуров, 1980). Для них продолжают оставаться актуальными важнейшие элементы первобытного фольклора, включая всю совокупность художественного содержания, отношения к миру, сюжета, языка. В их поэтической структуре сохранились черты древней самобытной культуры. Исследования показывают, что в кочевых культурах были выработаны свои социокультурные механизмы, позволяющие сохранить как основы хозяйствования, так и традиционное мировоззрение, социальные институты. Здесь уместно привести мнение Б.Н.Путилова о том, что именно сибирский мифологический и эпический материал «является если не исходным, то во всяком случае^стадиально весьма ранним. Именно этот материал всего естественнее сопоставлять с мифологией, с этнографической архаикой, кругом древнейших представлений» (Путилов, 1978, 8).
Эпос, как и всякое искусство, восходит к исторической действительности и отражает ее. При этом он подобен слоям земли, в которых можно найти отложения различных эпох. Архаический эпос с его крайней консервативностью форм и относительной невосприимчивостью к влияниям в этом отношении уникален: он сохраняет в своих древнейших пластах реликтовые формы верований, мифологических и сакральных представлений, тогда как в более развитых формах эпоса многое уже переосмыслено и переработано. Однако это не означает, что созданные в древности сюжеты и образы дошли до наших дней в
первозданном виде. Эпос в течение веков и тысячелетий неизбежно осложнялся в своем развитии элементами, заимствованными в разное время из различных кругов представлений. Накопленный в эпосоведении опыт изучения архаических, прежде всего мифологических традиций показывает, что часто мифологическая основа образов и сюжетов выступает не явно, уловить специфику древней семантики не всегда просто, иногда она только намекается и раскрывается лишь после тщательного анализа (см. работы В.М.Жирмунского, В.Я.Проппа, Е.М.Мелетинского, С.Ю.Неклюдова).
В этой связи приобретает особый смысл то обстоятельство, что эпическая традиция, идущая из глубины веков, продолжает сохраняться у народов Саяно-Алтайского культурного ареала. Следует отметить, что в данном регионе уже в эпоху палеолита существовало высокоразвитое религиозно-мифологическое мировоззрение. Археологические материалы древнейших поселений, таких, как Малая Сыя, возраст которой более 34 тысяч лет, Мальта, Буреть, свидетельствуют о том, что традиции, родившиеся в искусстве первобытных людей древнекаменного века продолжились в искусстве эпохи бронзы и железного века (Ларичев, 1978, 25). Более того, эпосовед С.Ш.Чагдуров считает, что они продолжают «сохраняться в почти неизменном виде в памятниках духовной культуры племен и народов именно алтайского ареала» (Чагдуров, 1980, 106). Эпос народов, населяющих эту территорию, считается типологически ранней эпической формой.
Тувинские героические сказания исследователи относят к архаической эпической формации, которая сложилась в «догосударственную эпоху». Будучи весьма древней жанровой формой, консервативной и маловосприимчивой к влияниям, тувинский эпос в своей поэтической структуре обнаруживает наслоения глубочайшей древности. К наиболее ранним можно отнести элементы,
тесно соотносимые с семантикой мифа. Известно, что мифология как древнейшая повествовательная форма и мировоззренческая система прекратила свое существование задолго до сложения эпоса. Однако насыщенность сюжетики тувинских сказаний мифологическими образами и мотивами не вызывает сомнений.
Актуальность темы исследования. Проблема изучения архаических, прежде всего мифологических традиций в эпосе относится к разряду наиболее сложных и многогранных. Изучение современных богатейших данных по эпическому фольклору, этнографии, этнолингвистике, археологии показало уникальные связи сюжетов архаического эпоса с мифом и ритуалом. Особое значение в этом контексте имеет то обстоятельство, что сегодня исследования продвинулись по времени глубже в века: хронологической рубеж реального становления современной структуры эпоса определяется уже более ранним временем (см. работы С.Ш.Чагдурова, А.И.Уланова и др.). Такому решению способствовало появление целого ряда работ, рассматривающих данную проблему на стыке наук. Синхронный метод изучения фольклорного, этнографического, археологического и языкового материала оказался особенно важным при исследовании архаического эпоса, поскольку он сохранил непосредственные связи с первобытным фольклором, мифологией, древнейшими обрядами и верованиями. Исследования показали, что архаический фольклорный сюжет может заключать в себе прямые мифологические реминисценции, своеобразные фрагменты мифологической системы, либо разного рода следы, отголоски, перекодировки. Как справедливо заметил Б.Н.Путилов, «историю фольклора можно представить себе как процесс все большего отчуждения от мифологической системы, многократной трансформации, пересемантизации ее фонда при сохранении исходных с нею связей» (Путилов, 1994, 117). Вместе с
тем, Б.Н.Путилов подчеркивает синхронность фольклорных трактовок этнографических реалий, полагая, что их следует рассматривать «не как отношения истоков и «отражений», но как равнозначные по функциям и синхронные по существу выражения одного содержания, единого понимания мира» (Путилов, 1999, 21).
В тувинской фольклористике сегодня можно отметить последовательный интерес к проблемам героического эпоса. И хотя уже имеется немало работ, освещающих вопросы генезиса и эволюции национального эпоса (Гребнев, 1960; Байсклан, 1987; Куулар, 2000; Орус-оол, 2001), проблема выявления мифологических основ тувинских героических сказаний остается малоизученной. Учитывая стремление современного эпосоведения к более глубокому и всестороннему освещению вопросов происхождения, истоков эпической традиции, изучение мифологической предыстории тувинского эпоса нам представляется одной из актуальных задач. Древнейшие обычаи, утраченные в современном обществе (или сохранившиеся неполно - в виде фрагментов, отголосков, напоминаний), настолько тесно слились с сюжетами, мотивами, образной системой героических сказаний, что составили самую суть, содержательно-формальную основу этих произведений.
При этом следует подчеркнуть, что мы не ставим своей задачей реконструкцию древнейшей мифологической системы тувинцев. Задача эта крайне сложна и может быть приблизительно решена только усилиями ряда специалистов разных отраслей гуманитарного знания и на основании не только всех жанров фольклора, но и данных археологии, этнографии, этнолингвистики, этномузыкознания, религиеведения и других общественных наук.
Наша задача - показать, как эти древнейшие представления и обычаи отразились в сюжетно-образной системе героических сказаний.
Степень изученности темы. Проблеме изучения мифологических основ эпического творчества посвящена обширная литература. Еще в XIX веке представители мифологической школы доказывали генетическую связь эпической поэзии с мифологией (см. работы Ф.И.Буслаева, А.Н.Афанасьева, О.Ф.Миллера и др.). В дальнейшем в работах А.Н.Веселовского, В.М.Жирмунского, В.Я.Проппа, Е.М.Мелетинского, В.М.Гацака, Б.Н.Путилова, С.Ю.Неклюдова, Ж.Дюмезиля, П.А.Гринцера и других исследователей фольклора была показана исключительная роль мифа в происхождении словесного искусства, в том числе эпоса. Мифологический слой обнаруживается как в классических эпосах, так и в архаической эпической традиции.
Тюрко-монгольская сказительская традиция считается стадиально ранней формой эпоса. Так, в частности, В.Я.Пропп называет архаическую героическую эпику (к которой он относит и героические сказания народов Сибири) особой, «догосударственной»' формой эпоса. По его мнению, формирование «догосударственного эпоса» сопровождалось резким отталкиванием от мифа, эпос еще не содержит исторических элементов, но уже пронизан героическим пафосом. В.Я.Пропп отмечает, что темы «героического сватовства» и «борьбы с чудовищами» характерны для ранних форм эпоса. Кроме того, ученый подчеркивает значение стадиального анализа образов персонажей. Он полагает, что, выделив основные стадии в развитии образа, можно определить его значение и функции по отношению к каждому из стадиальных этапов (Пропп, 1986).
В.М.Жирмунский определяет героические повествования сибирских и центральноазиатских народов как «богатырские сказки» - типологически наиболее древний жанр фольклора. Выделяя историзм как основной признак героического эпоса, он отводит «богатырским сказкам» роль связующего звена между мифом и классическим эпосом. Вместе с тем, ученый отмечает, что эпос
на разных ступенях своего развития историчен в разной степени и может последовательно содержать исторические напластования различной древности. Так, по его мнению, сказания, сохранившие мотив борьбы между женихом и невестой, отразили наиболее архаическую форму брачных состязаний. Здесь на первый план выступает личность невесты - богатырской девы, образ которой «восходит к бытовым отношениям эпохи матриархата» (Жирмунский, 1974, 340).
Е.М.Мелетинский в своих работах по генезису эпоса отмечает, что периоду создания героических сказаний предшествовал период мифотворчества, который оставил заметные следы в структуре эпоса. Рассматривая эпические сказания тюрко-монгольских народов Сибири, он убедительно доказал, что исторические особенности общественного строя скотоводческих народов имели очень важное значение для сохранения героического эпоса и во многом определили его своеобразие. Здесь, по его мнению, героический эпос в собственном смысле слова еще недостаточно отделен от волшебно-героической сказки. «Истинно эпический пафос облекается в основном в мифологическую оболочку» (Мелетинский, 1963, 364). Е.М.Мелетинский указывает на значительные мифологические черты в образах эпических героев и их деяниях. Ученый выводит архетип изначально «одинокого героя» и возводит его к древнейшему мифологическому образу первопредка, родоначальника (Мелетинский, 1986, 66-67).
О многообразии связей фольклора с мифологией пишет Б.Н.Путилов. «Фольклорные тексты могут заключать в себе прямые мифологические реминисценции, своеобразные «фрагменты» мифологической системы, либо разного рода следы, переработки, перекодировки» (Путилов, 1994, 65). Вполне справедливо его утверждение, что именно мифологии фольклор обязан целым рядом «мировых» сюжетов, мотивов и образов (он же, 1994, 117). Б.Н.Путилов
прослеживает историю героического эпоса в ее связях с мифологическим наследием. Так, он пишет, что «непосредственно вырастая на почве мифологии, эпос ранней стадии оказывается в сущности одной из форм мифа». Эпос поздний испытывает воздействие мифов на уровне бытовых представлений. Таким образом, эпос сохраняет исходные связи с мифом на разных этапах своего развития.
В своей работе, посвященной исследованию художественно-определительной системы эпоса, В.М.Гацак делает очень важное замечание, что определительный слой - одно из воплощений поэтики историзма и ее стадиальных особенностей. Он отмечает стадиальную изменяемость поэтики как переход от мифологизирующей к демифологизированной поэтике. Так, в героико-архаической эпике определительный слой и вся поэтическая система оказываются в значительной степени мифологизированы по сравнению с былинами (Гацак, 1989, 39).
К проблеме реконструкции древних слоев эпоса обращается в своих работах С.Ю.Неклюдов (Неклюдов, 1981, 1986). Он считает, что глубину изменений, произошедших в эпосе, не нужно переоценивать. Естественный традиционализм архаического эпоса, по его мнению, тормозит модернизирующее влияние времени, так что отдельные произведения остаются верными исходной сюжетной схеме. С.Ю.Неклюдов говорит о мифологическом генезисе эпоса и указывает на прямые соответствия между содержательным планом мифа и формально-сюжетным планом эпического фольклора. Данную закономерность он демонстрирует на примере соотношения динамических и статических начал в мифе, в эпосе и сказке. Элементы, являющиеся неотторжимой частью мифологической семантики, прослеживаются, как он убедительно доказывает, в важнейших организующих принципах изобразительной системы эпических
жанров. Рассматривая проблему фольклорных взаимосвязей, С.Ю.Неклюдов указывает на существование тюрко-монгольской эпической общности, истоки которой относятся к древнейшему, доскотоводческому периоду, когда складывались наиболее архаические формы богатырских сказок в мифологическом обрамлении. Обосновывая весьма значительную древность традиций монгольской героической эпики, С.Ю.Неклюдов привлекает и тувинский эпос, указывая при этом, что он наиболее близок к монгольскому (он же, 1986, 97).
С работами по проблеме мифологического генезиса бурятского и монгольского эпоса выступает ряд исследователей. Отмечая древность монгольско-бурятской эпической традиции, авторы указывают на сохранение в ней ряда весьма архаических мотивов. Так, Н.Н.Поппе показывает связь бурятского эпоса с шаманством. Он подчеркивает наличие в эпосе элементов матриархальной идеологии, когда фактическим героем выступает женский персонаж, анализирует сохранившиеся в эпосе черты патриархально-родового строя, в частности, жена предстает всегда «чужой», ее берут из другого рода (Поппе, 1937). По мнению Г.Д.Санжеева, эпос различных бурятских племен отражает разные стадии в развитии одного и того же героического эпоса. Стержневой слой почти целиком сводим в своем прошлом к шаманскому фольклору. Г.Д.Санжеев полагает, что бурятские эпические герои в своем генезисе суть шаманы, а их невесты - женские духи (Санжеев, 1936). А.И.Уланов, анализируя общую мифологическую основу бурятского эпоса, выявляет древнейшие представления о небесных богах-тэнгриях, их пантеоне, о душе. Наиболее архаические улигэры (в центре изображения - героиня-девушка) возникли, по его мнению, в середине первого тысячелетия нашей эры и отразили смену материнского рода отцовским (Уланов, 1963). Н.О.Шаракшинова
рассматривает эхирит-булагатские улигеры, которые сохранили мотивы, восходящие к развитым формам первобытных отношений, к архаической мифологии. В них имеются зооморфные образы, а также фигуры дев-спасительниц, богатырской девы - сестры героя, характерны мотивы конфликта героев с матерью-изменницей, мотивы чудесного зачатия и чудесного рождения (Шаракшинова, 1968). Л.Леринц, анализируя мифологический задний план в эпосе, приходит к выводу, что бурятские и монгольские героические песни представляют собой две стадии развития центральноазиатского эпического фольклора. Первая, по его мнению, представлена бурятской эпической традицией, ближе стоящей к своим мифологическим истокам. Основными образами этого эпоса были мифические герои божественного происхождения. Монгольский эпос находился на той же стадии развития вплоть до XVIII века, но в течение следующего столетия из него исчезли по разным причинам мифологические элементы. Отмечая взаимосвязи бурято-монгольского и тюркского эпоса, Л.Леринц указывает на значительные соответствия в содержательном и стадиально-типологическом плане в бурятском и алтайском эпосах (Леринц, 1979).
С рядом работ по проблеме происхождения якутского олонхо и его места среди эпосов других тюрко-монгольских народов выступает И.В.Пухов. По его мнению, якутский эпос весьма архаичен и сохранил свою древнюю основу -мифологическую генеалогию: главный герой олонхо, обычно первый человек на земле, выступает в качестве зачинателя человеческого рода (Пухов, 1962, 32). В композиции олонхо и в развертывании сюжета также наблюдается множество архаических элементов (там же, 33). И.В.Пухов посвящает специальную работу установлению связей между эпическими сказаниями народов Сибири (Пухов, 1975). Он отмечает, что якутское олонхо имеет генетически общие черты с
древнейшими пластами эпоса других тюрко-монгольских народов Сибири. Эта общность охватывает основные поэтические признаки сказаний: стиль, сюжет, композицию, характерные образы (Пухов, 1975, 63). Особое значение эта близость с олонхо приобретает для истории тувинского эпоса. Поскольку якуты могли иметь контакты с остальными тюрками только в первом тысячелетии, можно предположить, что уже в это время тувинцы, как и другие тюрко-монгольские народы Сибири, имели развитый героический эпос. И.В.Пухов также указывает на то, что героический эпос в определенных условиях может в течение многих веков сохранять свои древние черты (там же, 63).
В тувинской фольклористике исследования, посвященные изучению эпоса, затрагивают вопросы его генезиса и эволюции, содержания и поэтики сказаний. Так, в работе Л.В.Гребнева «Тувинский героический эпос» (1960), явившейся первым опытом научного исследования тувинских сказаний, на основе весьма обстоятельного изучения случаев отражения в эпосе фактов хозяйственной жизни, быта и общественных отношений, сделана попытка определения времени сложения тувинских сказаний. «Анализ содержания и языка тувинских героических сказаний, - пишет Л.В.Гребнев, - позволяет выявить в них многие элементы, восходящие к глубокой древности» (Гребнев, 1961, 41). Он утверждает, что некоторые эпизоды в эпосе, как сцены оживления героя его женами, добывание жен для героя его сестрой представляют собой отголоски матриархата. Столь же древними являются фигуры мифических персонажей Албыса, Шулбуса, духов-хозяев гор, озер, рек, характерных для стадии анимистических представлений, хотя они и видоизменяются с развитием общества (Гребнев, 1960, 41). Л.В.Гребнев также указывает на то, что в тувинских героических сказаниях упоминаются такие предметы архаической
материальной культуры, как жилище из кости, медные стрелы, бронзовые котлы (Гребнев, 1960, 46).
По мнению исследователя тувинского фольклора Д.С.Куулара, «тувинские богатырские сказания повествуют о жизни родового строя. На этом уровне они сохранились, как бы законсервировались. Из них не сформировался героический эпос, в котором было бы отражено движение объединения племен за достижение каких-либо значительных общих целей» (Куулар, 2000, 28). Отметив ряд признаков, отличающих тувинские сказания от классического героического эпоса (отсутствие боевых дружин, военных баталий, межплеменных схваток с целью завоевания чужой земли), Д.С.Куулар определяет их как стадиально ранний вид и называет богатырским эпосом (там же).
С.М.Орус-оол в своем исследовании «Тувинские героические сказания (текстология, поэтика, стиль)» (2001) отмечает полистадиальность тувинских героических сказаний. С точки зрения сюжетно-композиционной структуры автор выделяет три типа повествования с разными поколениями героев. В сказаниях с тремя поколениями героев, по ее мнению, первый круг событий составляют мотивы относительно поздние, вторая и третья части повествования -более древние по историческим корням. Так, автор утверждает, что сюжетно-повествовательный тип с одним героем является изначальным, здесь в большей степени сохраняются архаические черты и мотивы, элементы мифологического характера, связанные с древними воззрениями на мир. Два других типа, сливаясь
с древним сюжетом, составляют следующую ступень развития тувинского эпоса.
'і- Т
Кроме того, иссследовательница отмечает, что героические сказания тувинцев
сходны с эпосом других тюркоязычных народов Южной Сибири и с улигерами
бурят как в стадиальном, так и художественном планах (Орус-оол, 2001, 244).
З.Б.Самдан считает, что состав архаической эпики - героического эпоса, волшебной сказки, в текстах которых довольно часто встречаются мифы и легенды, бытование отдельных мифологических мотивов и сюжетов свидетельствует, что у тувинцев, как и у других тюркоязычных народов, существовало богатое мифологическое наследие (Самдан, 1986, 144).
Формирование тувинских героических сказаний относится приблизительно к периоду разложения первобытнообщинного строя, т.е. VII-VIII вв. н.э. (Гребнев, 1960; Куулар, 2000), тогда как их письменная фиксация приходится на конец XIX - начало XX вв. Попутно отметим, что первые научные записи тувинского эпического фольклора были осуществлены российскими учеными В.В.Радловым, Г.Н.Потаниным, Н.Ф.Катановым, ФЛ.Коном. Многие века тувинский эпос развивался в устной традиции, вбирая в себя с течением времени новые идеи, сюжеты и верования, но не утрачивая при этом и того, что представлялось архаикой, стариной уже самим «тоолчу»-исполнителям сказаний. И то обстоятельство, что в эпосе во многих случаях отражены мифологические образы и мотивы, позволяет утверждать о значительной древности тувинской эпической традиции. В частности, архаичность эпической традиции тюрко-монгольских народов/подтверждаются выводами, сделанными археологами. Так, М.П.Грязнов, сопоставив тексты героических сказаний с сюжетами и образами, запечатленными в изображениях на бронзовых бляшках, найденных при археологических раскопках в районе Ордоса и в Южной Сибири, датируемых скифо-сарматским временем, обнаружил в них отражение центральных тем героического эпоса - сцены охоты героя, единоборство, оживление героя при помощи женщины. Рассмотренные им примеры позволяют утверждать, что уже во второй половине 1-го тысячелетия до н.э. у ранних кочевников Сибири и Монголии существовал героический эпос (Грязнов, 1961). А.П.Окладников также
убедительно доказывает, что на многофигурных композициях писаниц с изображением конных воинов, датируемых эпохой освоения металлов, угадываются те же батальные и охотничьи сцены, что и в современном эпосе якутов и других тюркоязычных народов Саяно-Алтая (Окладников, 1955). Таким образом, сопоставительное изучение изобразительного искусства и эпоса показало не только взаимосвязь и единство двух ветвей духовной культуры, но и значительную древность памятников героического эпоса тюрко-монгольских народов.
В целом можно утверждать, что у исследователей фольклора не вызывает сомнения факт, что тувинский героический эпос сохранил свою древнюю основу, и в его поэтической структуре можно наблюдать переплетение архаики, мифологии и собственно эпического материала. Исследователи отмечают наличие архаических мифологических черт в сюжетах, мотивах, образной системе героических сказаний. Вместе с тем, необходимо отметить, что тема отражения мифологических представлений, древнейших обычаев и верований в тувинских героических сказаниях специально еще никем не рассматривалась, а если и была заявлена (Л.В .Гребневым), то только в генетическом аспекте и на недостаточно репрезентативной источниковедческой базе.
Целью диссертационного исследования является изучение эпических персонажей в их древнейшей мифологической ипостаси, определяемой генетическими истоками/и сохраняемой в сюжетной и образной системе ТГС.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
анализ ряда эпических персонажей в связи с их мифологическими характеристиками;
соотнесение эпических образов с сюжетной совокупностью верований, обрядов, обычаев, этнобытовых реалий;
- выявление сходства персонажей ТГС с некоторыми мировыми мифологемами, позволяющее ставить вопрос об истоках рассматриваемых образов.
Объектом исследования являются тексты тувинских героических сказаний.
Предмет исследования - образы и мотивы ТГС, в которых нашли отражение архаические мифологические представления и верования.
Теоретико-методологической основой диссертации послужили труды отечественных и зарубежных исследователей, посвященные проблеме изучения в эпических произведениях глубинной мифологической темы. Методологическую базу исследования составили важнейшие положения работ по эпосу А.Н.Веселовского, В.М.Жирмунского, Е.М.Мелетинского, В.М.Гацака, С.Ю.Неклюдова, Б.Н.Путилова, И.В.Пухова, С.С.Суразакова, Л.В.Гребнева, С.М.Орус-оол.
Изучение образов эпических персонажей и мотивов на комплексной основе позволило привлечь данные из области этнографии, археологии, лингвистики и т.д. Были использованы как общенаучные методы анализа, синтеза, сравнения, так и специальные приемы комплексного системно-аналитического характера.
Источниковую базу работы составили тексты тувинского героического эпоса, опубликованные в двуязычном издании академической серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». Составителем книги, автором вступительной статьи, подстрочного перевода, словарей является С.М.Орус-оол. Переводчиком текстов и автором комментариев, содержащих ценный фактический материал, выступает А.В.Кудияров. Это издание содержит научную публикацию двух лучших образцов тувинского героического эпоса. Первый из них - сказание «Хунан-Кара», записанное в исполнении знаменитого сказителя
О.Чанчы-Хоо, считается классическим образцом тувинского эпоса. Данная публикация представляет собой наиболее полный вариант сказания, в котором нашли отражение характерные черты тувинской эпической традиции. Второй текст из этого издания - эпос «Боктуг-Кириш, Бора-Шээлей» является одним из популярных и любимых народом сказаний, которое сейчас известно в 14 вариантах. Это сказание рассматривается нами еще и потому, что похожий сюжет имеется в эпике других тюрко-монгольских народов, с одной стороны, с другой -сам образ героини вызывает определенный научный интерес. Мы взяли за основу научную публикацию эпоса, произведенную по самозаписи одного из лучших тувинских сказителей О.Манная. Но в своей работе используем и другой вариант этого сказания с целью привлечения как можно большего фактического материала в изучении данного эпоса. Этот вариант в записи 1947 года от сказителя Салчак Чанзана был опубликован во втором томе серии «Памятники тувинского фольклора». Оба текста являются наиболее полными вариантами эпоса «Боктуг-Кириш, Бора-Шээлей». Таким образом, все три образца эпоса взяты нами из научного издания, адекватно передающего оригинал и сохраняющего особенности сказительской речи.
Помимо этого, мы использовали в своей работе тексты сказаний «Алдай-Буучу», «Ары-Хаан», «More Шагаан-Тоолай», «Танаа-Херел», «Тон-Аралчын хаан», «Далай-Байбын хаан», «Кангывай-Мерген», «Бораадай-Мерген», «Бора-Шокар аъттыг Боралдай-Мерген», «Баян-Тоолай», изданных в серии «Памятники тувинского фольклора»1 в 5 книгах. Эта серия является первой научной публикацией эпических сказаний на тувинском языке, с сохранением подлинной народной речи, всех его диалектных и архаических форм. Тексты были изданы в полных вариантах с комментариями известного фольклориста С.М.Орус-оол.
1 При цитировании ТГС в дальнейшем ссылки на источники даются непосредственно в работе с указанием страницы.
г Кроме того, вследствие отсутствия научного издания сказания «Алдай-Сумбер»^мы взяли для анализа архивную запись сказания «Алдай-Сумбер» от сказителя О.Манная. Данный текст записан от руки в 1959 году Х.Д.Ооржаком, но имеется и машинописный вариант. Рукопись находится в фольклорном фонде Рукописного отдела ИГИ РТ (т. XXIII, д. 113 «а», «б»).
В целом следует сказать, что для своего исследования мы старались отбирать тексты лучших сказителей. Вместе с тем, немаловажным для нас был и тот факт, что наиболее древними представляются те тексты, где действует одно поколение героев (Орус-оол, 2001, 356). В рассматриваемых текстах присутствует полная эпическая биография героя, активно действующим является один доминирующий герой.
Нами привлекались и другие фольклорные источники, в первую очередь те, в которых в той или иной степени присутствуют мифологические архаические обрядовые представления и действия, содержатся сведения о фольклорно-этнографической картине мира древних тувинцев. Необходимо отметить, что тувинская мифология известна лишь по отрывочным записям, произведенным в конце XIX - начале XX века, а также сведениям, собранным уже в наше время. Однако весь этот материал еще полностью не опубликован, за исключением сборника легенд и преданий «Кыс-Халыыр», вышедшего в 1974 году, и книги «Тыва улустун мифтери болгаш тоолчургу чугаалары» («Тувинские мифы и легенды»), составленной по материалам, собранным А.Д.Арапчором. Поэтому в качестве источников мифов мы использовали, в основном, мифологический материал, содержащийся в верованиях, обрядах, ритуалах. Для этой цели мы пользовались сведениями по мифологии и древним верованиям, содержащимися в сборнике «Тыва улустун алгыш-йорээлдери» («Тувинские благопожелания») и этнографических работах Л.П.Потапова, С.И.Вайнштейна, В.П.Дьяконовой,
С.А.Токарева. Значительное количество информации по тувинской мифологии было извлечено из шаманских гимнов, собранных известным ученым-шаманом М.Б.Кенин-Лопсаном. Древнетюркская мифология воспроизводится нами по материалам рунических и согдоязычных памятников VI-X века^сведения о которых были почерпнуты из различных специальных исследований, в том числе из работ С.Е.Малова, С.Г.Кляшторного, И.В.Стеблевой. Важные сведения по древней культуре народов дали археологические описания М.П.Грязнова, А.П.Окладникова, В.Е.Ларичева. В качестве справочного пособия, содержащего большой фактический материал по мифологиям разных народов, мы использовали двухтомную энциклопедию «Мифы народов мира».
Научная новизна исследования состоит в том, что в нем впервые в тувинской фольклористике специально рассматриваются вопросы, связанные с мифологическими истоками героического эпоса, закрепленными в сюжетно-образной системе. Попытка комплексного решения обозначенной проблемы с привлечением данных этнографии, лингвистики, археологии также предпринимается впервые. Этнографические параллели необходимы для комментариев к истокам происхождения многих мотивов и образов тувинских сказаний. Лингвистические описания позволяют раскрыть мифологический подтекст некоторых эпических мотивов и формул. Материалы древних памятников изобразительного искусства привлекаются для того, чтобы нагляднее и глубже раскрыть смысл отдельных образов и мотивов. Вместе с тем, избранный аспект исследования предполагает обобщение накопленного по разным исследовательским полям материалов и фактов, равно как и их совокупное освещение и осмысление.
Практическая значимость работы. Материалы и основные положения диссертации могут быть использованы при создании обобщающих трудов по
истории и поэтике героических сказаний тувинцев и родственных народов Саяно-Алтайского региона. Рассматриваемые в ней вопросы, выстраиваемые положения и выводы могут дать дополнительные сведения для исследования генезиса и ранних этапов развития эпоса и эволюции его образно-поэтической системы.
Эпическая модель мира
С важнейшей мифологической темы - сотворения мира - обычно начинается зачин сказаний. В нем выражено указание на давнее время с перечислением того, что именно совершалось, когда возник мир: «Эртенгинин эртезинде, / Бурунгунун мурнунда, / Буганын мыйызы буступ дужуп, / Тенин мыйызы дээринге шаштыгып, / Эки шагнын эктинде, / Бак шагнын бажында, / Донгелчиктин бажындан / Дорт он чечек унуп, / Донгур инектин бажындан / Мыйыс унуп турар шагда чувен иргин» (букв. «Раньше раннего, / Древнее древнего, / Когда рога быков, растрескавшись, отваливались, / (А) рога горных козлов упирались в небо, / На плечах хорошего времени, / На голове ( в начале) плохого времени / Когда на пригорке / Выросли четыре разноцветных цветка, / Когда у безрогой коровы / Рога появились / Тогда это было») («Бокту-Кириш, Бора-Шээлей», 1993, 5). Перед нами образное восприятие времени как начала времен. Это эпоха «раньше раннего, древнее древнего» с его созидательными і актами. Изображаемое «изначальное» время никак не соотносится с реальным і историческим временем. Отнесение действия к эпохе первотворения определяет эпическое время как особое, сакральное время. В этих описаниях всеобщего генезиса главной становится идея превращения хаоса в гармонизирующий -, космос: на пригорке расцвели четыре разных по цвету цветка. Число цветов выросших на пригорке, можно соотнести с представлением о четырехсторонней вершине изначальной мифической горы Сумеру. Возможно, четыре цветка на пригорке есть отклик этого мифологического мотива. В ТГС «Ары-Хаан» прямо говорится, что это было время творения мира: «(...) Шаг-дип будуп турар шагда, / Шагжыы-Тумей бурган номнап турда (...)» (букв. «Время и вселенная сотворялись, / Бог Шагжыы-Тумей молитву читал») («Ары-Хаан», 61). Упоминание о том, что тогда рога козлов упирались в небо, возможно, указывает на то, что небо еще недостаточно далеко отошло от земли, либо здесь нашел отражение древнейший миф о том, что именно козел держал небесный свод на своих рогах.
Эпическое время осмысляется как образцовое, идеальное время. «Калбак чуве хадып, / Борбак чуве чуглуп, / Ирт-серге мыйызы ирип-дужуп, / Хуна-серге мыйызы куртуп дужуп турар шагда, / Сумбер Ак-Уула суур тей турар шагда, / Калчаа-Далай кара шалбаа чыдар шагда ...» (букв. «Когда плоское по ветру носило, / Круглое катилось, / Когда рога валухов, сгнив, отваливались, / А рога козлов, зачервивев, отваливались, / Белый Сумбер-Уула был холмиком, / Бешеное море было лужицей... / Тогда это было») («More Шагаан-Тоолай», 13). Подобное осмысление времени как изначального, «эпохального» («раньше раннего, древнее древнего»), вместе с тем, как идеального в его сущностном сакральном смысле («когда плоское по ветру носило, круглое катилось»), составляет одну из наиболее характерных черт мифологической модели мира.
Описываемая в тувинских сказаниях ка тщ_мщоздШ?і слагается из неизменного в своих основах замкнутого пространства, организованного вокруг важнейших сакральных точек - горы Сумбер-Уула и озера Сут-Хол: «Эртенгинин эртезинде, / Бурун шагнын мурнунда, / Сут-Хол шалбаа турар шагда, / Сумбер-Уула тей турар шагда, / Ирт-сергенин мыйызы ирип дужуп, / Шары-буганын мыйызы чарлып чаштап / Турар шагда чувен иргин» (букв. «Раньше раннего, / Древнее древнего, / Когда (озеро) Сут-Хол было лужицей, / Сумбер-Уула был холмиком, / Когда рога валухов, сгнив, отваливались, / Рога быков, растрескавшись, отваливались / Тогда это было») («Тон-Аралчын хаан», 142). Похожая картина мира с теми же мифологическими топонимами встречается в зачинах сказаний других народов: например, в бурят-монгольском эпосе - гора Сумэр уула и озеро Суун далай. Эти основные пространственные точки являются не только простейшей моделью мира, но его центром. Действие в ТГС относится ко времени «Сумбер-Уула суур тей турар шагда» (букв, «когда (гора) Сумбер-Уула была холмиком»), «Сут-Хол шалбаа турар шагда» (букв, «когда (озеро) Сут-Хол было лужицей»). Указание на время, когда гора была еще холмиком, заставляет вспомнить миф о первоначальном холме (Ригведа, I, 32, 2). В работе, посвященной ведийской мифологии, Ф.Б.Я.Кейпер достаточно четко интепретирует значение этой мифологической концепции: в начале был только маленький холмик, дрейфующий на поверхности воды. Индра пронзил этот холм, заключавший в себе зачатки всей жизни, одновременно приковал его основу ко дну вод. Из него земля расширилась во все стороны (Кейпер, 1986, 125). Эта идея холма, откуда произошла земля, отчетливо прослеживается в зачине ТГС: «Когда (гора) Сумбер-Уула была холмиком». В этом контексте эпическая Сумбер-Уула явно представляется изначальной горой, находящейся в центре космоса, в центральной точке земли. В мифе творения из вскрытого холма вырывается жизнь в двух формах - воды и огня. Огонь представлен солнцем, поднимающимся из холма или вод. Вода - реками, струящимися с вершины холма (Кейпер, 1986, 30). В ТГС изображается картина, когда «Сут-Хол было лужицей». Здесь мы не можем с достаточной уверенностью утверждать, что реки в мифе и озеро в эпосе связаны между собой, как-то: струящиеся с вершины холма воды могли образовать вначале лужицу, а затем разлиться в озеро, как это рисует эпос. Но возможно, идея животворящей водььгтаится в самом названии Сут-Хол - «Молочное озеро». Определение «молочное» можно связать со значением материнского, питающего жизнь, ив конечном счете, с идеей той же первичности, изначальности. Попутно отметим примечательный факт, что географические объекты, имеющие названия Сумбер-Уула и Сут-Хол, реально существуют на территории современной Тувы.
Герой - древний охотник (Бокту-Кириш)
Традиционный матримониальный мотив в анализируемом сказании принимает не совсем привычный вид: Танаа-Херел отправляется в путь за дангынои не с целью сватовства, но по поручению Шан-хаана. Алдын дангына достается ему без обычного для сюжета ТГС соперничества и брачных состязаний. В сказании это объясняется прогремевшей на весь свет репутацией их как непобедимых, могущественных богатырей, с которыми не сравнится ни один из людей: {туе. «Оларнын-биле чуве эннежир-деннежир арга чок, / Кончуг сур-кучулуг эрес-шиник эрлер болгай») («Танаа-Херел», 123). Возможно, причина кроется и в самом образе дангыны, которой приписываются функции матери-прародительницы: поклонение ей способствовало деторождению, а попытки обойтись без нее терпят фиаско. Объект добывания - Алдын дангына не просто суженая, но представляется «культурным благом», необходимым людям. Мотив добывания «культурных благ», безусловно, восходит к мифам о культурных героях.
Танаа-Херел отправляется в поход за Алдын дангынои не один. Ему в попутчики с неба по радуге спускаются два богатыря: Бели-Шынар бег, Дожу-Шынар бег. Они помогают герою мудрыми советами и не один раз выручают его из беды. Примечательно, что у богатыря появляются товарищи, которые становятся его боевыми соратниками. И здесь они исполняют роль помощников и спасителей богатыря, которая раньше отводилась богатырскому коню.
Основной подвиг героя - добывание «девяти сокровищ». За ними Танаа-Херел отправляется в Нижний мир. Вообще, повествование о герое, который спускается в подземный мир, основывается на древних мифологических представлениях и верованиях, как верно указывает В.М.Жирмунский, и [ «встречается у самых различных народов (Гильгамеш в древнем Вавилоне, I Орфей и Геракл в Греции, многие из культурных героев» полинезийского эпоса -I Мани, Таухали, Аукеле и др.)» (Жирмунский, 1962, 357). Мы добавим, что, подобный мотив нередок и для сказаний тюрко-монгольских народов. Здесь его развитие поддерживается обрядовой практикой шаманизма, согласно которому шаман во время камланья совершает поездку в подземный мир. Герой ТГС [ попадает в Нижний мир через земное отверстие, буквально «рот земли» (туе. «чер аксы») («Танаа-Херел», 131). Пространство, в которое попадает герой, имеет все характеристики иного мира. Вообще, любое отправление в путь в эпосе \ равнозначно переходу за грань, за черту, отделяющую свое от чужого, поскольку пространство, находящееся за пределами родного дома, воспринимается как иной мир. На этом долгом пути богатыря ожидают разные препятствия. Преодолевая преграды, герой выходит за предел, границу «своего» мира. На запредельной / земле он раскрывает свои новые способности и качества. В анализируемом сказании Танаа-Херел ловко приручает-прикармливает всех путевых сторожей. Следует подчеркнуть, что герой никак не выказывает своих физических возможностей, он добивается своего хитростью и обманом. Прибыв к владыке Нижнего мира, вначале он начинает с ним пререкаться. Здесь надо отметить одну особенность этого героя: когда он гневается, от его крика вспыхивает огонь «аксынын оду» (букв, «огонь-пожар изо рта») (там же, 137). Мотив излучения огня разгневанным богатырем рассматривался В.М.Гацаком в качестве одного из . древнейших. Он типичен для архаического якутского, эвенкийского эпосов, а также встречается в древнеирландской саге (Гацак, 1989, 27). Танаа-Херел обманом похищает «девять сокровищ» и «хоюг кызыл чуве» -«нечто нежно-красное», которых нет на земле, но они очень нужны людям. В ТГС их прячет у себя владыка Нижнего мира Эрлик-Ловун хаан. Мотив добывания героем чудесного предмета, являющегося залогом благополучия и счастья людей, охраняемого страшным чудовищем, имеет широкое распространение в мировом фольклоре: в мифологии, в европейских волшебных сказках, в эпосе, героических сказаниях тюрко-монгольских народов. В нашем сказании к добыванию «чудесного предмета» добавляется мотив о возвращении ранее утраченного: герой помогает вернуть Шан-Хаану его же вещи, удерживаемые владыкой Нижнего мира. «Тос эртине», согласно объяснению Д.С.Куулара, являются общими тюрко-монгольскими святынями. Это золото, серебро, сталь, железо, медь, перламутр, жемчуг, бирюза, коралл (Куулар, 2000). Эти святыни имеют особое предназначение, об этом не говорится в ТГС, но в алтайской богатырской сказке «Алдын-Бизе» «эрдине» - драгоценность, котор ое «умерших поднимает, угасших зажигает». Вероятно, то таинственное «нежно-красное вещество», упоминаемое в ТГС, как и девять драгоценностей, обладали аналогичными свойствами, поскольку говорится, что они нужны людям. Добывание «девяти сокровищ» требует от героя соблюдения особых ритуалов, поэтому здесь есть эпизоды испытания героя препятствиями: демоническая старуха, два шелудивых черных верблюда, две пестрых сороки, два черных ворона, два мальчика, две девочки, две кобылы, песчаная гряда, черное море, непроходимый лес встают у него на пути. Танаа-Херел ловко и хитро обходит преграды, похищает «тос эртине» и распространяет их на девять сторон света, а «нечто красное» распыляет над своим аалом. Таким образом, в облике Танаа-Херела явственно проступают черты мифологического «культурного героя». Его подвиг - добывание для людей девяти сокровищ - имеет характер культурного деяния.
Обращает на себя внимание еще одна функция этого героя. Танаа-Херел совершает дозор земли. Так, он говорит: «Мен алдыы оранда аап-саап / Орук моондактарын аштап / Чоруп чеде берейн» (букв. «Я поеду по земле, / Чтобы убрать с пути препятствия-преграды») («Танаа-Херел», 125). Этими преградами оказываются войны-сражения. Герой бьется не с конкретным напавшим на него врагом, но он прекращает встретившиеся ему на пути битвы и войны. А «разжигателями» войн здесь выступают мифические серый кролик и трехсаженная лиса: с их появлением погибшие воины воскресают и снова начинают сражаться. В этом плане герой напоминает образы странствующих по земле мифологических героев, уничтожающих различных чудовищ, которые угрожают мирной жизни людей. Е.М.Мелетинский писал о героях этого типа, что они тоже являются «культурными героями», выполняющими миссию по уничтожению хтонических демонов; повествование о них имеет характер героической сказки (Мелетинский, 2000, 208).
Образы сестры героя (Бора-Шээлей, Онгун-Чечен)
Особое положение в системе женских персонажей занимает Бора-Шээлей (в ТГС «Бокту-Кириш, Бора-Шээлей»). Прежде всего важна ее сюжетная роль: Бора-Шээлей - сестра главного героя Бокту-Кириша, после гибели брата она становится главным действующим лицом, совершая подвиги ради его спасения. В отличие от других женских героинь ТГС { это самостоятельный и активный персонаж.
В предыдущей главе говорилось, что ТГС «Бокту-Кириш, Бора-Шээлей» имеет сходство с алтайским, бурятским, хакасским сказаниями о сестре, готовой жертвовать собой ради брата. Образ сестры богатыря вызвал у эпосоведов множество интерпретаций. Предпринимались попытки сближения образа героической сестры с мифологическими амазонками (Жирмунский, 1974). Проводились интересные сопоставления данного персонажа с эпическим типом «богатырки» из героических сказаний других народов (Кузьмина, 1980).
Бесспорно, в образе героической сестры воплотился идеал эпохи, когда женщина представлялась мудрее, отважнее, сильнее мужчины. С другой стороны, выше говорилось, что эпическая тема об одиноко живущих брате и сестре составляет очевидную параллель сюжету о мифологической паре первых людей, устроителей жизни на земле. В ряду аргументов, позволяющих соотнести данные образы с мифологическими персонажами, назывались мотивы одиночества, нахождение одежды, постройки первого жилища, а также участие в жизни героев кобылицы, в образе которой легко угадываются черты тотемного первопредка.
В начале повествования героиня предстает в образе младшей сестры, преданного друга и единственного соплеменника героя. Напомним, что брат и сестра остались сиротами в опустевшем и разграбленном аале. Здесь созданный по законам архаического эпоса образ Бора-Шээлей предстает вполне традиционным, изображение героини лишено индивидуализированных признаков. Как примерная сестра, существо покорное и пассивное, она занимается домашним хозяйством. Вместе с тем, уже на этом этапе развития сюжета в ее характере обнаруживаются черты мудрой советчицы и провидицы. Так, Бора-Шээлей предоставляется почетная и трудная обязанность наречения именами себя, брата, его коня (о значении данного обряда в традиционной культуре тувинцев мы говорили выше). Ее сном предсказана и гибель брата. С момента смерти героя начинается новый виток в развитии образа сестры. Бора-Шээлей заступает на место брата. При этом существенным представляется то обстоятельство, что Бора-Шээлей принимает облик брата, называется его именем, но при этом сказитель не дает забывать слушателю, что под именем богатыря действует и совершает подвиги его сестра. Так, взяв в руки лук и стрелы, она заклинает: «Чускук туткан холум сурээдеве, ине туткан холум илдикпе» (букв. «Рука моя, державшая наперсток, не робей, рука моя, державшая иглу, не дрогни»), а также «Мен атпадым, Бокту-Кириш акым атты!» (букв. «Не я стреляю, мой брат Бокту-Кириш стреляет!») («Бокту-Кириш, Бора-Шээлей», 1993, 142). Здесь возникает портрет героини, в котором появляются черты, более присущие , для изображении героев-мужчин. Так, через описание поступков и действий создается могучий облик воительницы: «Вырвала (деревья) в горном лесу, , притащила, / Большой огонь развела. / Тридцать-сорок маралов-маралух на верхнююю половину, / Шестьдесят-семдесят архаров-кошкаров на нижнююкэ половину / На лесины-жердины по всей длине нанизала. / Аян-Кула пустила (пастись), / Потник его расстелила, в изголовье седло положила / И спиной (к огню) улеглась. / Бора-Шээлей, тридцать дней - один месяц - проспав, / Быстро встала, / На верхнюю половину (лесин) глянула - / Тридцать-сорок маралов-маралух / Съедая, проглотила; / На нижнюю половину (лесин глянула) - / Шестьдесят-семьдесят архаров-кошкаров съедая, проглотила. / Съела (их), выплюнув твердые кости, / Выдохнув мягкие кости. / Аян-Кула привязала, / В неглубокой черной чаше, / Из нее (разве что) семьдесят человек не насытятся, / Густой чай сварила. / Пищу-еду, которую в дальней дороге-поездке едят, / За пятнадцать дней съела / И поскакала, дальнюю поездку продолжив. / Скакала, про путь годовой, как про месячный думая, / Про месячный путь, как про суточный думая» (туе. «Арга-саяан аа-чаза соп эккелгеш, / Улуг одун ужуткаш, / Устуу чартыынга ужен-дортен сыын-мыйгаан, / Алдыы чартыынга / Алдан-чеден аргар-кошкарларын / Сыра сыранын дургун дургунунче шиштегилеп алгаш, / Аян-Кулазын салгаш, / Чонаан доженгеш, эзерин сыртангаш, / Ооргалап чыдып ап-тыр эвеспе. / Бора-Шээлей бир айнын ужен хонукта удааш, / Тура халып келгеш, / Устуу чартыындыва корунгеш, / Ужен-дортен сыын-мыйгактарын / Ажыра-сыыра каггылап, / Алдыы чартыында / Алдан-чеден аргар-кошкарларын / Ажыра-сыыра каггылап, / Кадыг соогун каккыргылап, / Чымчак соогун симгиргилеп, чип алгаш, / Аян-Кулазын баглап каггаш, / Чеден кижи тотпес / Челгий кара пажынга, / Чин шайын хайындыргаш, / Аян-чорукка чиир аъш-чемин / Он беш хонукта чемненип алгаш, / Узун чоруун улаштыр хап чоруткаш, / Чылдык черни айлык бодап, / Айлык черни хонук бодап, хап чорааш») («Боктуг-Кириш, Бора-Шээлей», 1997, 332-333). В состязаниях за невесту Бора-Шээлей также действует как настоящая богатырша. Она поборола в поединке одного за другим лучших борцов. Так, в одной из схваток Бора-Шээлей изображается следующим образом: «Бора-Шээлейнин ийи колдуундан / Ийи хунан инек дег / Кара ковук уштунуп чаштап, I Эъди изип, ханы хайнып келгеш, / Хун оглу Хулер-Могени боле-хаара туткаш, / Бир айнын ужен хонукта тырыкылап, / Ийи айнын алдан хонукта, / YHI айнын тозан хонукта тырыкылап-тырыкылап, / Кара черни сирт кылдыр, / Кок дээрни чыжырт кылдыр дужуруп алгаш, / Аптара дег чаагай ак хорээн / Ажа тырткаш, олуруп алгаш, / Алдан кижи тотпес ак чаъс данзазынга / Дыштанып, таакпылап олуруп тур эвеспе» (букв. «Когда из обеих подмышек Бора-Шээлей / Черные (хлопья) пены с двух коров-трехлеток стали падать-слетать, / Тело ее разгорячилось, и кровь закипела, / Схватила в охапку сына Солнца Бронзового богатыря, / Стала крутить-вертеть его / Один месяц - тридцать дней, / Два месяца - шестьдесят дней. / После того как девяносто дней - три месяца крутила-вертела, / Сбросила его так, что черная земля дрогнула, / Синее небо громыхнуло, / Раскрыла его белую, широкую, как сундук, грудь, / Села, чтобы отдохнуть, / Закурила свою белую трубку, / Которую шестьдесят человек не выкурят») (там же, 1993, 149). В.М.Гацак отмечает, что в описаниях богатырского гнева одной из примет древнего изображения является материализованное выражение эмоции, в частности физическое изменение облика рассердившегося героя (вырастание от гнева, кипение крови, излучение огня и т.д.) (Гацак, 1989, 26). В нашем сказании состояние боевого возбуждения героини имеет материализацию в виде кипения крови и выделения пота величиной с корову. Также при помощи поэтической градации и особой гиперболической формулы изображается финал поединка: она один месяц - тридцать дней, два месяца-шестьдесят дней, три месяца - девяносто дней крутила-вертела своего врага и бросила так сильно, что земля дрогнула и небо громыхнуло.
Героический образ коня
Особое положение коня в быту тувинцев не могло не получить своего отражения в их устном народном творчестве. Как было уже отмечено, в тувинском фольклоре образ коня занимает важное место: он является одним из главных действующих лиц, выступает как положительный персонаж, равный человеку. Заслуживает внимания и то, что конь - единственный из персонажей-животных - имеет свое имя. Он всегда рядом с героем. Это единство выражается в устоявшейся формуле произносить имя героя вместе с именем его богатырского коня. Например, Эрге-Хурен аъттыг Алдай-Сумбер (букв. Алдай-Сумбер с конем Эрге-Хурен), или 61 адыр мыйыстыг Бора-Хулук аъттыг Тон-Аралчын-Хаан (букв. Хаан Тон-Аралчын с 61-рогим конем Бора-Хулук).
Идея предназначенности героя и коня друг другу уже заложена с самого начала в мотивах одновременного рождения. Если богатырь в эпосе рождается чудесным образом, то и конь посылается ему небесами. В ТГС «Ары-Хаан» герой находит жеребенка, неизвестно откуда появившегося: «Кудуруу, чели черде дожелген, / Дугу дээрге хатка калбаннаан, / Таагыдан буткен, / Эрткен куш оорга-мойнун / Чара соктап эртип турар / Амытан турар бооп-тур» (букв. «Хвост и грива его стелились по земле, / Шерсть, слежавшаяся, колыхалась по ветру, / Пролетавшая птица клевала ему шею и спину») («Ары-Хаан», 63). Это измученное животное оказывается жеребенком небесной кобылицы, которая выкармливает не только жеребенка, но и самого героя. Более того, в ТГС «Ары-Хаан» кобылица дает имя герою, одежду, оружие, жену Алдын дангыну. Речь кобылицы напоминает наставления родителя: «Чаа, оол, бо кулунну / Сен аът кылып аар сен. / Силер ийини таварыштырар дээш, / Эт-бараанынарны кодуре дээш, I Хилинчектени бердим, / Назыдадым, кырыдым. / Ам олур шаам келди!» {букв. «Так, парень(мальчик), этот жеребенок будет твоим конем. / Измучилась я, / Стараясь вас двоих свести, / Нося в себе ваше имущество, / Состарилась я. / Пора мне умирать!») («Ары-Хаан», 68). И она ведет героя к большой белой отвесной скале, в которой спрятаны богатырская одежда и снаряжение для коня. Для сравнения можно привести монолог родителей Алдай-Сумбера: «Бис эртен болза эртен, кежээ болза орай, торел аралчып олур апаар улус-тур бис. (...) Мээн аныяк чоруур шаамда эдилеп чораан эт-херекселим аалдын мурнунда Ыдык-Бора-Тайганын холеге талазында тии чок чалым бар, ында чуве(...)» {букв. «Нам пришла пора умирать: если утром, то рано, если вечером, то поздно. Все то, чем я пользовался в молодости, схоронено в отвесной скале, находящейся в теневой части Ыдык-Бора тайги, что напротив нашего аала (...)») («Алдай-Сумбер», 12). В обоих случаях мы наблюдаем сходную ситуацию, только в первом эпизоде наставления герою дает кобылица, во втором - отец с матерью. Кобылица в сказании «Ары-Хаан» выполняет функцию кормилицы героя и его покровительницы. Здесь явственно проступает наиболее древний зооморфный образ прародителя. А покровительство можно трактовать как позднюю трансформацию этого же мотива. Случай, когда будущий богатырь и жеребенок вскармливаются одной матерью - кобылицей имеет место и в ТГС «Бокту-Кириш, Бора-Шээлей». Бокту-Кириша вскармливает наравне со своим жеребенком саврасая кобылица с гривой и хвостом, стелющимися по земле. «Разве любая мать не есть мать», - говорит герой {туе. «Ие биле ие домей болбас бе») («Бокту-Кириш, Бора-Шээлей», 1993, 129). Боевой конь в этом случае становится «молочным братом» богатыря. Этот мотив довольно широко распространен в эпосах тюрко-монгольских народов.
Скрытые, подспудные связи родства между героем и его конем обнаруживаются и в том, что предназначенный герою конь родится с ним в одно время. Более того, весть о том, что родился необычный жеребенок знаменует рождение великого героя, который будет его хозяином. Так, в ТГС «Хунан-Кара» говорится, что что-то хорошее предвещается: «(...) Подходит срок ожеребиться / Соловой норовистой кобыле, / Которая была девять лет нежеребой!» (туе. «Тос чылда торувейн барган / Дошкун сарыг бе / Торуур чеде берген чорду») («Хунан-Кара», 60-61). Параллельно с тяжелыми родами матери героя в эпосе изображается трудное появление на свет богатырского жеребенка. Например, в ТГС «Алдай-Буучу»: «Ындыг-даа болза Хууртун-Кызыл тайганын / Холеге чартыында / Yin чылын долгаткан Хан-Шилги бе бар чуве. / Ол бе уш чыл долгадырда / Чеди мозага кара хаяны / Тура теп чыда долгадып чыдар мал чуве. / Бир эвес ол бенин кулунчаа / Эр болур болза, / Ол бир аът бооп болур боор дээр мен» (букв. «Да вот, на теневой стороне Хууртун-Кызыл тайги / Уже три года не может освободиться от бремени кобыла Хан-Шилги. / Эта кобыла, освобождаясь от бремени, / Семиглавую черную скалу / Копытами выбила из земли. / Если родится жеребенок мужского пола, / То будет хорошим конем, скажу вам») («Алдай-Буучу», 10).
Так как в ТГС конь всегда предназначен герою свыше, выбор коня (за исключением случаев, когда герой и конь находят друг друга еще в детстве и растут вместе) сопряжен с определенными трудностями. Так, в ТГС «Алдай-Буучу» в табуне, пробегавшем мимо героя в течение девяноста дней, не нашлось достойного коня, а у случайно выбранной лошади спина чуть не ломается, когда герой опирается об нее рукой. В «Танаа-Херел» героя не может поднять ни один из присланных хааном коней. Богатырь, пытаясь сесть на коня, ломает спины сначала трем из них, а потом десяти, двадцати и т.д., пока исполинской тяжести его не выдержали и последние присланные хааном шестьдесять лошадей. Увеличение количества в этом случае помогает акцентировать мысль, что конь богатырю нужен не обычный, а предназначенный. Это конь, который будет под стать богатырю, его изображение являет собой пример героической идеализации. Так, гиперболизирован размер жеребенка, который сосет молоко матери, три раза обвившись вокруг нее {туе. «Эр хурен кулун / Иезин уш долгандыр куржалы берген ээп турган») («Танаа-Херел», 105). Конь после седлания становится вровень с горой {туе. «Даг дег улуг хурен аът болу берип-тир») («Танаа-Херел», 108). Конь Хан-Буудая достает ушами облака в небе {туе. «Чедишкен чалыы аът мен - деп, кулаанын бажы-биле / Дээрнин ак, кара булудун / Ору-куду кожуруп турган эргин») («Алдай-Буучу», 14). Это конь-исполин огромных размеров, сравниваемый с природными объектами.