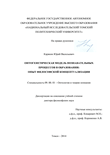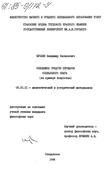Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Нарратив как метафорическое описание прошлого 13
1.1 Нарративная философия истории XX в 13
1.2 Исторический нарратив и единичные высказывания 18
1.3 Нарративный идеализм и нарративный реализм 21
1.4 Интерпретация прошлого посредством «нарративной субстанции» 28
Глава 2. Анализ философско-исторических концептов XIX — XX вв.: трансцендентализм, метафора, нарратив 33
2.1 Тропология X. Уайта: от трансцендентализма к метафоре 33
2.2 Проблемы европейской философии истории XIX — XX вв 40
2.3 Особенности языка в историописании 46
2.4 Р. Барт и эффект реальности в историописании 53
2.5 Историзм и постмодернизм 61
Глава 3. Феноменология исторического опыта 70
3.1 Лингвистический трансцендентализм: от языка к опыту 65
3.2 Репрезентация исторического опыта: Х.-Г. Гадамер, И. Хёйзинга 77
3.3 Возвышенный исторический опыт как поиск идентичности 92
Заключение 105
Библиографический список 109
- Исторический нарратив и единичные высказывания
- Интерпретация прошлого посредством «нарративной субстанции»
- Проблемы европейской философии истории XIX — XX вв
- Репрезентация исторического опыта: Х.-Г. Гадамер, И. Хёйзинга
Введение к работе
Актуальность темы исследования.
Во второй половине XX века историческая теория начинает новый виток своего развития, связанный с поворотом к языку. Нарратив становится понятием, концентрирующим вокруг себя основные дискуссии лингвокультурологического и философско-исторического характера. Проблема научного статуса истории приобретает особые эвристические грани. В дискурс включаются литературоведение, онтология, гносеология, культурология, антропология. В последнее столетие в культурфилософской практике возрастает роль исторического дискурса. Он разделяется теперь на собственно историческую практику и на теорию, выступающую в тесном взаимодействии с историей историописания. Недоверие к метанарративам и всеохватывающему обозрению исторического процесса сменяется интересом к микроисторическим исследованиям в сочетании с теоретическим изучением самой исторической практики. Становится актуальным вопрос о написании истории, об объяснительной силе исторического нарратива, о приёмах «эффекта реальности» в историческом тексте и так далее.
Внимание к языку не обошло и историописание. Прошлое является текстом, написанным на иностранном языке, а историк — переводчиком. Но где же в данном случае само прошлое? Постмодернистское историописание пытается найти новую дорогу, обращаясь к таким понятиям, как «опыт» и «память». Эта, названная Ф. Анкерсмитом, «приватизация прошлого» склонна употреблять понятие «память», нежели «история» или «прошлое». Всё дело в смысловой нагрузке терминов «история», «прошлое» и «память». Так «история» несёт на себе ауру неотвратимого рока, а термин «прошлое» указывает на объективную реальность, находящуюся вне рамок нашей досягаемости. «Память» же имеет совершенно иные коннотации, отсылающие к экзистенциализму и субъективизму, в том смысле, что находится во владении единичного человека. И самое главное — «память» имеет определённый багаж опыта, чего лишены «история» и «прошлое». Поэтому память может дать то, чего не дают остальные два понятия — опыта прошлого. В памяти возможно воскресить определённые события и, в некотором роде, заново их пережить.
Иcториописание разительно отличается от других дисциплин, например, физики, поскольку в ней является непринципиальным отнесение открытия законов к отдельному физику, потому что физические законы самодостаточны. В историописании исторический нарратив невозможно отделить от историка, его написавшего, поскольку никому другому не по силам было бы написать «Осень Средневековья» Й. Хёйзинги. Поэтому иногда бывает трудно согласиться с теоретическими разработками философии языка, ставящими под сомнение роль субъекта (историка) в написании текста. Однако постмодерн привнёс нечто новое в теорию написания истории, а именно — опыт. Подтверждение этому можно видеть в истории повседневности и в истории ментальности, хотя опыт часто обвиняется в однообразии связи между ним и знанием, однако, стоит отметить, что это в большинстве является лингвистическим догматизмом. В этих практиках внимание сосредоточено на опыте людей, живших в прошлом, на том, как они воспринимали окружающий мир и как этот опыт отличается от нашего опыта восприятия.
«Именно поэтому нам лучше говорить об “(исторической) репрезентации”, чем о “повествовании”». Репрезентация невозможна без того, что она репрезентирует. Может быть это станет ответом на то напряжение, которое недавно возникло между историей и историками, так как история не ведёт диалога только с ними, а точнее будет сказать, совсем не с ними. Теория репрезентации является теорией о том, как исторический текст генетически связан с прошлым, и в этом отношении можно сослаться на единичные высказывания о прошлом, которые не связаны так прочно, как может показаться на первый взгляд, с историческим текстом. Эмпирические аспекты единичных высказываний перебиваются репрезентациями исторического текста как целого. Но самое основное — это историческое сознание, изменение которого позволяет нам вообще знать о прошлом и роднит нас с ним. Вызов этого сознания кладёт в основу несколько моментов, которые будоражили умы, начиная ещё с Фукидида. Эти авторы своими произведениями пытались научить нас историческому опыту и тому, что можно вынести из него (этим является воспитательный акцент, который полезен для настоящей идентичности на основе общности в ретроспективном аспекте). А другим моментом является сложный вопрос о необходимости знания о прошлом и об историческом сознании. Зачем это нужно? «Почему бы нам не быть похожими на описанное у Ф. Ницше коровье стадо, тихо бредущее по лугам безвременного настоящего...». Исторический опыт неотвратимо следует за нами, становясь частью культуры отдельного народа (цивилизации). «Здесь мы должны спросить себя: что нас вообще заставляет осознавать прошлое, что должно случиться с какой-нибудь нацией или каким-нибудь сообществом, чтобы их захватила проблема собственного прошлого?» (курсив Ф. А.). Этим не занимаются историки и, на первый взгляд, это совершенно бесполезная трата времени и сил, так как напрямую не имеет отношения к написанию истории.
Историко-философский климат меняется. Мыслители ушли от того времени, когда язык являлся центральной категорией философско-исторического дискурса. По мнению В. Беньямина, Х.-Г. Гадамера, Ф. Анкерсмита необходимо восстановить в правах понятие (исторического) опыта, имеющее огромный потенциал для историописания и исторической теории, заключающийся в совершенно ином подходе к прошлому. Исторический опыт основывается на аристотелевском принципе неразрывности предмета и опыта, его воспринимающего. Прошлое, по замечанию Х. Уайта, не существует само по себе в качестве объективной реальности; оно констатируется опытом и существует именно в момент его опытного постижения.
Опыт, который необходимо воскресить, имеет некоторое отличие от его научного (трансцендентального) понимания. В историописании интересна возможность опыта прошлого как того, что когда-то было настоящим, но теперь является чем-то оторванным от нынешнего настоящего («утрата»). Но, с другой стороны, исторический опыт восстанавливает прошлое. «Прошлое и настоящее связаны дуг с другом, как мужчина и женщина в платоновском мифе о происхождении полов... Возвышенный характер исторического опыта исходит из этого парадоксального союза чувств любви и утраты, то есть из сочетания удовольствия и боли, определяющего наше отношение к прошлому» (курсив Ф. А.). Чувствование прошлого гораздо важнее знания о нём.
Необходимо исследовать этап (предшествующий началу изучения историком прошлого) возвышенного исторического опыта. Это этап ответа на вопрос об историческом прошлом, о нашей связи с историческим прошлым, о важности и необходимости для человека исторического прошлого.
Однако начать следует с рассмотрения исторического нарратива, поскольку он до сих пор является предметом рефлексии в ущерб историческому опыту.
Степень разработанности темы.
Проблема опыта является одной из самых важных проблем в истории философии. Однако он всегда играет роль лишь бэкграунда или удачного инструмента и зачастую выступает камнем преткновения многих философских концепций. Опыт, как самостоятельный теоретический концепт историко-философского дискурса, меркнет перед такими столпами, как «сознание», «свобода», «разум», «материя» и так далее. С подачи Дж. Локка «опыт» стал наполняться теоретическим содержанием, но опять-таки только лишь как фундамент эпистемологических систем. Эту закономерность отметил Х.-Г. Гадамер. Пытаясь дать опыту самостоятельное основание, он обосновывал его превалирующее значение не только для науки. Однако и Х.-Г. Гадамер в итоге подчинил опыт, только в данном случае это было подчинение языку.
Современные постмодернистские философы, такие как Ж. Деррида, Р. Рорти в поздний период своего творчества, Л. Витгенштейн, Д. Дэвидсон, негативно относятся к опыту и отдают предпочтение языку, тексту и многому другому, что максимально далеко стоит от эмпирических отношений. Сама философия истории, начиная со второй половины XX века, является торжеством лингвоцентризма. Историки без особого почтения относятся к многотомным теоретическим построениям философов, таких как Г.В.Ф. Гегель или А. Тойнби. Л. фон Ранке пытался на этом построить свою систему. Прошлое как незыблемая максимально объективная реальность теперь существует в виде текста. Именно он (исторический документ или работа по истории) приобретает статус исторической действительности. У истоков данного подхода стоят Р.Дж. Коллингвуд, П. Рикёр, А. Данто, Х. Уайт, Й. Рюзен, Ф. Анкерсмит.
Понятие же исторического опыта может показаться нонсенсом. Теоретики философско-исторической мысли никогда не обращали внимания на подобную категорию, лишь немногие, такие как Х.-Г. Гадамер, Й. Хёйзинга, Ж. Мишле, В. Беньямин так или иначе, хотя и не совсем «научно», а скорее интуитивно, разрабатывали данную проблематику. Она нашла своё развитие в работах голландского философа истории Ф. Анкерсмита.
Дух трансцендентализма, полностью подчиняющий опыт и заставляющий его служить эмпирическим базисом, доминирует в философии. И не только в философии. Философия истории (сама история, конечно, в меньшей степени) до самых своих оснований пронизана трансцендентолизмом в негативном его смысле. Этому хотел противостоять Х.-Г. Гадамер, который видел всю несостоятельность данного подхода в лице В. Дильтея, но всё-таки не смог уйти от эпистемологии и трансцендентализма (действенная история). Ф. Анкерсмит пытается восстановить в своих правах понятие (исторического) опыта и отчистить его от лингвистического и эпистемологического трансцендентализма. Этому посвящена его работа «Возвышенный исторический опыт».
В России данная тема пока ещё не обратила на себя всестороннего внимание. В поле зрения исследователей она попадает в связи с решением отдельных задач лингвистического, эпистемологического и культурологического характеров. В этом плане большое значение имеют работы М.А. Кукарцевой, Г.И. Зверевой, А.А. Олейникова, О.В. Гавришиной, Л.П. Репиной. В них создаётся концептуальная база рассмотрения понятия исторического опыта в согласовании его с понятиями «историческая истина», «историческое знание», «исторический нарратив». Проблема исторического письма (нарратива), рассматривается в трудах А.Я. Гуревича, В.И. Стрелкова, М.А. Кукарцевой, А.А. Олейникова, Г.И. Зверевой, Н.Е. Копосова, А.Ю. Ашкерова. Несмотря на наличие интереса к проблеме исторического опыта, полноценных работ, посвящённых данной теме, недостаточно, чем и обусловлена необходимость проведения нашего исследования.
Объект исследования — исторический нарратив как средство репрезентации истории.
Предмет исследования — исторический опыт, выраженный в форме нарратива.
Цели и задачи исследования.
Целью диссертационного исследования является раскрытие культурфилософской взаимосвязи нарратива и исторического опыта. Прошлое выражается в лингвистической форме (нарративе), однако, констатация его (прошлого) и дистанцирование от настоящего осуществляется в историческом опыте. Являясь опытом утраты прошлого как собственной идентичности, исторический опыт не воспроизводит историю как таковую, но является шагом на пути к новой идентичности.
Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
1. Произвести ретроспективный анализ нарративной философии истории XX века.
2. Выявить соотношения между нарративом и единичными высказываниями.
3. Проанализировать метафорическую связь нарратива с прошлым в рамках тропологии Х. Уайта.
4. Показать неопределённость между репрезентацией и историческим фактом.
5. Очертить основные особенности языка и опыта в историописании.
6. Обосновать необходимость перехода от языка к опыту.
7. Дать определение понятию «возвышенный исторический опыт» как констатирующему прошлое. Возвышенный исторический опыт является травматическим опытом культуры, вступающей в «новый мир».
Теоретические и методологические основания исследования.
В качестве теоретического фундамента диссертационного исследования служат идеи, развитые в трудах Х.-Г. Гадамера, В. Беньямина, Х. Уайта, Ф. Анкерсмита. Их цель состояла в том, чтобы дать опыту теоретическую самостоятельность, которую он не имел в рамках лингвистического и трансценденталистского подходов.
Методологической базой исследования выступают принципы исторического рассмотрения проблемного поля с последующим философским анализом. В качестве основного метода достижения целей исследования использован аналитический подход. В диссертации так же применяются историко-дескриптивный и проблемно-теоретический методы, позволяющие более детально и систематично изложить полученные результаты. Помимо этого, в работе используются междисциплинарные методы и приёмы, которые позволяют максимально всесторонне подойти к изучению предмета, а главное — релевантно передать взаимосвязь дисциплин и смену словарей при анализе «поворотов» исторического знания XX — XXI веков.
Научная новизна диссертационного исследования.
Работа является одной из первых попыток систематического осмысления взаимосвязей нарратива и исторического опыта, предпринимаемых в российской философско-исторической мысли.
1. Литературоведение и литературная критика становятся важной частью дискурса нарративной философии истории, являясь необходимыми средствами работы с текстом.
2. Нарратив, в отличие от хроники и документальных свидетельств (буквальное измерение), является метафорой или точкой зрения, предлагающей рассмотреть прошлое с точки зрения, предложенной данным нарративом.
3. Развивается онтологическая позиция, которая рассматривает исторический нарратив в сущностном качестве непрозрачности по отношению к прошлому. На этом основании постулируется антиэпистемологическая позиция.
4. Антиэпистемологическая позиция продиктована осмыслением прошлого в терминах онтологии. Взаимосвязь исторического прошлого и нарратива концептуализируется в репрезентации (замене) нарративом прошлого.
5. Возвышенное является той категорией, которая стремится примирить опыт и язык в рамках исторического нарратива. Нарратив является единственным средством концептуализации (трансляции) исторического опыта.
Положения, выносимые на защиту.
1. Историческое прошлое находит выражение в лингвистической форме — в нарративе. Нарратив является репрезентацией прошлого и, в отличие от единичных высказываний, связанных с реальностью с помощью референции, не имеет прошлое в качестве референта.
2. Нарративная репрезентация по отношению к прошлому является метафорой, поскольку уходит от буквального перечисления фактического материала. Метафора позволяет описать неизвестный предмет в терминах известного, то есть описать прошлое при помощи того, что самим прошлым не является. Нарратив организует знание о прошлом, не являясь самим этим знанием.
3. Метафора индивидуализирует взгляды историка и, как и нарратив, является точкой зрения, с которой открывается «лучший вид» на прошлое.
4. Нарратив является единственным средством трансляции исторического опыта. Ключевым пунктом исторического сочинения является возвышенное — взаимоисключающее единство языка и исторического опыта.
5. Исторический опыт констатирует прошлое. Оно начинает существовать только в момент его опытного постижения, так как опыт неразрывно связан с воспринимаемым предметом.
6. Возвышенный исторический опыт является культурным опытом без субъекта. Он первичен по отношению к таким категориям, как: субъект, объект, истина, ложь. Данные категории появляются из опыта, если происходит вопрошание о предмете и об истинности суждений.
7. Исторический опыт является опытом утраты, в котором раскрывается различие и дистанция прошлого и настоящего. Нарративизация прошлого помогает полностью осознать и отбросить старую идентичность и найти новую.
Теоретическое и практическое значение исследования.
Разработка данной темы имеет определённый научно-теоретический интерес, поскольку предложенная проблема является мало изученной, особенно в российской философской среде. Понятие исторического опыта тесно связывается с психологическим феноменом травмы, что может послужить объяснением многих проблем, возникающих с постижением (переживанием и осознанием) исторической действительности (того или иного её этапа). Это может стать ответом на мифологизацию исторического прошлого и особого с ним (прошлым) отношения. Сделанные выводы могут быть полезны историкам, работающим с документами или разрабатывающим собственное исследование. Предлагается новый ракурс на соотношение настоящего и прошлого и роль, которую в этих отношениях играет историк.
Практическая значимость данной работы усматривается в возможности использования её результатов в процессе разработки и преподавания учебных курсов по философии, истории, социологии, культурологии, психологии. Материалы диссертации могут быть использованы в построении специализированных курсов, касающихся онтологических, эпистемологических, культурологических проблематик.
Структура диссертации.
Диссертационное исследование состоит из введения, трёх глав, содержащих 12 параграфов, заключения и библиографического списка.
Объём работы — 122 страниц.
Библиографический список содержит 172 наименование использованной литературы.
Исторический нарратив и единичные высказывания
Исторический нарратив является репрезентацией прошлого. Обращаясь к этимологии слова «репрезентация» (от английского «representation»), станет видно, что одними из лексических значений слова «present» являются — «присутствующий», «наличный». То есть репрезентация делает «присутствующим» то, что мы «ре-презентируем» (то, что отсутствует) и историческая репрезентация тому хороший пример; она призвана заменять ушедшее прошлое (проблематичность связи исторического повествования и самого прошлого). С другой стороны, логика репрезентации не раскрывается из истинности единичных высказываний, как это происходит в случае с референцией, прикрепляющей к миру истинное суждение. У репрезентации отсутствуют такие способы прикрепления, поэтому в историческом нарративе «невозможно указать те элементы, которые обозначают данное историческое явление, и те, которые приписывают ему свойства» [5, С. 10].
Таким образом, репрезентация не имеет тех же отношений с репрезентируемым, что и истинное высказывание с тем, о чём оно высказывается. Репрезентация несёт в своей основе некую неопределённость, неопределённость исторического текста и исторического прошлого, которую необходимо рассмотреть. В этом нам поможет метафора, которая даёт возможность взглянуть на неизвестный предмет, уподобляя его известному. История, по заявлению X. Уайта, сплошь метафорична, и именно благодаря ей организуется наше знание. Прошлое и повествование о нём (нарративная репрезентация) связаны с помощью метафоры, что требует особого подхода, а говорить об успешности одного повествования по сравнению с другим нам помогает ракурс, с которого мы смотрим на нарратив. С одной стороны, нарратив является суммой истинных высказываний о мире, а с другой — целым, где принадлежит метафоре. Следовательно, чем сильнее метафора в отношении буквального, тем нарратив как целое успешнее. Успех определяется несводимостью метафоры к тому, что говорится о прошлом буквально (иначе нарратив просто должен был бы уступить место буквальному измерению).
Обратимся непосредственно к историческому нарративу. Можно утверждать, что он является прототипом любого повествовательного текста, поскольку логика именно исторического текста максимально подходит для упорядочения прошлого не только отдельного человека, но и целого народа. Тут мы сталкиваемся с «разделением» исторического метода, принятого в немецкой философской мысли, на «историческое исследование» и «нарративное написание истории». «Историческое исследование» предполагает сбор историком фактов исторического события и стремление добраться до его сути, пытаясь отразить «всё как было». Логику этой части работы хорошо раскрыл Р.Дж. Коллингвуд в «Идее истории». Он уподобил историка детективу, который пытается расследовать убийство Джона Доу, а затем старается изложить результат своих поисков, переходя на стадию написания текста, то есть, излагая факты в историческом повествовании. Это и есть «нарративное написание истории».
Было бы не совсем оправданно ставить между двумя этими «методами» чёткую границу. Известно, что крайние точки зрения (размывание границ или непроницаемая грань) ведут к заблуждениям относительно занятий тех или иных историков. Те, кого интересует только фактическая сторона дела, занимаются постановкой отдельных фактов исследуемого события. По сути, это.археологи. С другой стороны, мы видим учёных, которые занимаются созданием исторического текста, собирая по крупицам факты, открытые историками. Можем даже иногда наблюдать, как «учёные-нарративисты» в своих работах путаются в фактах, поскольку их главной целью остаётся изображение целого и то, как это целое будет адекватно изображать сумму фактов. Перефразируя, можно сказать, что их волнует релевантность текста относительно прошлого и его интерпретативная сила.
Такие аспекты профессиональной деятельности историка, какими, например, являются факт и возможности его адекватной интерпретации, ценности, влияющие на интерпретацию и понимание, и многое другое, глубоко разработаны в философии истории. Но остаётся непрояснённой проблема нарративного написания истории, а она имеет серьёзные последствия. Например, неадекватное понимание исторического текста, его некорректная интерпретация и многое другое. Всё это оставалось за кадром и только в 70-е годы XX века в работе X. Уайт «Метаистория» было удостоено внимания.
С самого начала нарративизм подвергся критике со стороны герменевтической теории, поскольку совершенно не брал в расчёт интенциональные действия человека. С другой стороны имеются описательные теории, чуждые интересующим эпохам и описываемым людям. Плюс ко всему незаконно объединяются какие-то исторические действа в, например, «холодную войну», что не даёт возможности выйти за поставленные границы. Аргумент в пользу нарратива состоит в том, что его построение основано на логической природе языка и текста, которому он служит необходимой платформой, на базе которой возможно решать философские проблемы истории. Следует ещё отметить, что нарратив не является беллетристическим произведением или историческим романом. Его нужно понимать как синоним исторической интерпретации, поскольку он является точкой зрения на историческое прошлое.
Также следует учесть чисто психологические аспекты нарратива, которые позволяют ему служить коммуникативным средством между историком и читателем. Основная мысль данного требования заключается в работе психологического аппарата читателя в процессе чтения текста (то есть уровень языка). Историк выступает проводником через исторические документы к целостному видению картины на уровне упомянутого психологического аппарата, так как именно с его помощью возникает переживание прошлого события. Но исторический документ не является самим прошлым как таковым, что приводит к путанице прошлого как такового и исторических документов.
Интерпретация прошлого посредством «нарративной субстанции»
В чём же тогда сущность искусства, если невозможно отличить произведения искусства от предметов реальности? По мысли А. Данто, различие только лишь в интерпретации: «...я покажу, что неразличимые объекты посредством их дифференциации и различной интерпретации станут весьма различными и самостоятельными произведениями искусства, так что я склонен думать об интерпретациях как о функции, которая преобразует материальные объекты в произведения искусства. Интерпретация есть эффект, рычаг, под воздействием которого объект прорывается из реального мира в мир художественный» [цит. по 4, С. 263].
В историописании эквивалентом служит размывание границы между прошлым и реальностью, что приводит к разделению прошлого и настоящего. Это выражается в микроисториях К. Гинсбурга, Э. Ле Руа Ладюри и других. Суть их заключается в освещении маленького, совершенно незначительного случая в прошлом. Микроистория не включает в своё повествование каких-либо крупных исторических событий. Историческое значение уступило место описаниям, преследуя основную цель микроисторий — дать современное изображение прошлого (или историзация настоящего, если вспомнить о дилемме А. Данто в искусстве). «В историописании, где прекращается реконструкция и начинается изобретение, существует важный вопрос, который, как я надеялась, читатели зададут и о котором задумаются, — вопрос аналогии с неясной границей между самомоделированием событий и их расположением в моём нарративе» [цит. по 4, С. 265]. То есть реконструкция прошлого и изобретение в настоящем теряют свою границу и, следуя за А. Данто, микроистории скорее стоит расценивать как утверждения о природе репрезентации. Эти произведения являют собой не рассказы о самом прошлом, а скорее границу между прошлым и его исторической репрезентацией. С другой стороны, мы имеем историю ментальностей, которая сосредоточилась на описании чувств, идей, мыслей людей, живших в прошлом. Это история мужчины, женщины, семьи, рода, смерти.
Таким образом, основываясь на концепции Р. Барта, можно сделать вывод, что реальность прошлого в историческом произведении является творением эффекта реальности. Историческая реальность, исходя из данного положения, не существует вне текста, но проецируется им, являясь его продуктом. История сравнивается Р. Бартом (а потом и постмодерном) не с наукой, а реализмом в искусстве и литературе, что отодвигает на второй план сциентистскую установку истории и даёт большую свободу для околонаучных и популярных исследований природы исторического.
XX век породил огромное количество работ в различных сферах исторической дисциплины. Выбор позиции в этом «историческом море» оказался действительной проблемой. Нынешняя ситуация такова, что число практикующих историков превышает их число со времён Геродота до 1960 года. Но, с другой стороны, современный век — это век информации. Информационный взрыв привёл её в почти «физическое состояние»; она «течет», «накапливается», «покупается» и «продаётся», «организуется», и, говоря о ней, мы подчёркиваем её исключительную важность и необходимость, которая заполняет нас как жидкость и занимает всё окружающее пространство. По сути, реальность и есть информация, хотя более точно было бы сказать, что информация является атрибутом реальности, имеющая собственный онтологический статус.
Постмодерн, и это его важнейший постулат, множит информацию. Она, будучи важнейшим компонентом, никогда не порождает конца информационного потока, но наоборот. Отдача от удачной работы максимальна. Это значит, что, например, книги К. Маркса, Л. фон Ранке, Ж. Мишле не поставили точку в историописании, но оказались мощным стимулом для появления новой волны информационного потока.
Постмодерн скорее несциентичен, чем антисциентичен, и это демонстрируется на примере деконструкции каузальности. Ещё Ф. Ницше положил этому начало, указав на необходимость следствия в поиске причины, что переворачивает причину и следствие с ног на голову. Возражение против этого Ф. Ницше видел в устоявшемся порядке, навязываемом образованием, поскольку выход за его рамки был бы губителен. Но изменение этой иерархии послужило добрую службу интеллектуальному развитию постмодерна и привело к способу существования вещей (в постмодерне). Наука тем самым оказывается дезориентированной.
Историописание лучше всего иллюстрирует принцип постмодерна, поскольку исторические интерпретации прошлого самоидентифицируются только благодаря другим интерпретациям. Познакомившись только с одной интерпретацией исторического факта, можно сказать, что не знаешь никакой интерпретации, а, следовательно, и самого исторического факта.
Рассуждение о реальности уподобляется самой реальности и процессам, в ней происходящим. Это значит, что онтологическое различие между языком и реальностью исчезает; в языке, как в зеркале, более не отражается реальность, но язык становится частью этой реальности и так же нуждается в изучении. Язык становится вещью, поскольку теряет свою прозрачность, и примером тому является язык историописания. Так X. Уайт говорил, что история должна быть рассмотрена подобно тексту, написанному на иностранном языке, со всеми синтаксическими, грамматическими, лексическими и другими измерениями, как и всякий текст.
Это сближает историописание с эстетикой. Язык художника в произведении искусства не является миметическим и воспроизводящим реальность, но является заменой реальности. Эстетизм стоит рядом с природой историописания и его стилистическим измерением. Стиль (форма) и содержание больше не противопоставляются, и подтверждением тому является указание на то, что различные аспекты исследуемого объекта в произведениях историков являются следствием стилистических особенностей работы с материалом.
Проблемы европейской философии истории XIX — XX вв
Однако возвышенное и травма противоположно направлены: травма работает с памятью, а возвышенное, в свою очередь, с забвением. Это показывает психологическую точку зрения, где отношение к коллективному прошлому может заставить отказаться от него. Данный отрезок прошлого не будет восприниматься как часть собственной идентичности, а нынешняя идентичность определяется благодаря отказу от прошлой идентичности, то есть «мы, парадоксальным образом, суть те, кем мы уже больше не являемся» [3, С. 434].
Здесь мы подходим к существу исторического опыта, поэтому совершенно справедливо задаться вопросом о сути истории. С момента, когда Цицерон предложил формулу historia magistra vitae (история — наставница жизни), многие пытались сформулировать её место и значимость. Например, пожалуй, самым распространённым остаётся утверждение, что собственная идентичность находится в прошлом, соответственно ответом на вопрос относительно себя будет рассказ (история) о своей жизни. С этим тезисом соглашался 3. Фрейд, когда говорил о наших поступках, представленных в виде истории содеянного. С этих позиций только истории подвластен доступ к идентичности социальных, политических и других институтов. Написав историю их развития, обнаруживаем потенциальность успешной деятельности по изучению выбранной проблематики. Как сказал Л. фон Ранке, «Задача истории состоит в том, чтобы из ряда предшествующих событий выявить и осознать сущность государства, задача же политики — в том, чтобы далее развить и довести её до совершенства на основе состоявшегося понимания и добытого знания» [цит. по 3, С. 436.]. То есть политик приступает к работе после историка, поскольку именно политик призван логически продолжить его дело и развить то, что складывалось прошлыми поколениями.
Ф. Ницше подверг критике концепцию историзма, связывавшую назначение с историческим процессом, основываясь на принципе забвения, как необходимой возможности совершать любые осмысленные действия. Иначе тень прошлого затянет в неспособность и нерешительность действовать: «Представьте себе как крайний пример человека, который был бы совершенно лишён способности забывать, который был бы осуждён видеть повсюду только становление: такой человек потерял бы веру в своё собственное бытие, в себя самого, для такого человека всё расплылось бы в ряд движущихся точек, и он затерялся бы в этом потоке становления» [114, С. 162.].
Из этого можно сделать вывод, что позиция историзма более последовательна, чем позиция Ф. Ницше. У него мы имеем индивида, который в силу своей идентичности не может с ней справиться в полном объёме и её необходимо выдавать порциально, что бы он мог справляться с делами, а что-то оставлять за рамками памяти, то есть забывать. В итоге Ф. Ницше предлагает введение неисторического измерения для человека и надысторического — для прекрасного. Это является возвратом к Просвещенческому трансцендентализму, с его верой в историчность всего, кроме историка, в обязанности которого вменяется нахождение объективного знания о прошлом.
Но обращение к Ф. Ницше, который, на первый взгляд, явился противником истории, вполне обоснованно, поскольку он подошёл к этой теме, чтобы содействовать историку в забвении определённых моментов, на что есть свои причины. Можно заметить, что истории чужда мысль о забвении, и историки, которых могла соблазнить эта мысль, непоследовательны. Но всё гораздо сложнее.
Условно (вслед за Ф. Ницше) можно выделить четыре типа забвения. С первым из них мы сталкиваемся в обыденной жизни, когда индивиду предписано его психическим здоровьем забывать некоторые моменты прошлого, никак не связанные с его идентичностью. Примером может послужить меню на обед недельной давности или вчерашняя прогулка по парку. Однако есть возражения, сутью которых является утверждение, что история обыденности несёт в себе особый смысл, лежащий в основе образа того или иного будущего. История повседневности, таким образом, обладает огромным потенциалом и так же имеет значение и для коллективной идентичности.
Вторым типом забвения можно обозначить нечто, что вообще не попадало в горизонт нашего интереса и часто ускользало из-за кажущейся бесполезности. Это важно, если взять пример с психоанализом и тем, как второстепенные, казалось бы, поступки формируют особенности личности. Говоря же об истории нации, историки не всегда брали во внимание социально-экономические условия общества, забывая их значимость и опираясь лишь на политические достижения, что вызывало определённые порицания в неполноте данного исторического изображения.
Третьим типом забвения выступает забывание болезненных моментов. Очевидный аналог этому мы найдём в психоанализе, когда, например, 3. Фрейд забывал слово «саван», связанное с неприятным воспоминанием похорон кого-то из близких. Та или иная сторона прошлого просто вытесняется из памяти для сохранения психического здоровья не только конкретного человека, но и коллектива или нации. Однако вытеснение — это не стирание из памяти болезненного события, а перевод его в область бессознательного. Но уровень бессознательной памяти является неартикулированным скоплением разных событий, воспоминания о которых находятся в нашей сознательной памяти.
Четвёртым типом забвения является «новый мир». После Французской революции Европа вступила совершенно в новый мир, родившийся благодаря забвению старого мира и приобретению новой идентичности.
Репрезентация исторического опыта: Х.-Г. Гадамер, И. Хёйзинга
Из этого можно сделать вывод, что позиция историзма более последовательна, чем позиция Ф. Ницше. У него мы имеем индивида, который в силу своей идентичности не может с ней справиться в полном объёме и её необходимо выдавать порциально, что бы он мог справляться с делами, а что-то оставлять за рамками памяти, то есть забывать. В итоге Ф. Ницше предлагает введение неисторического измерения для человека и надысторического — для прекрасного. Это является возвратом к Просвещенческому трансцендентализму, с его верой в историчность всего, кроме историка, в обязанности которого вменяется нахождение объективного знания о прошлом.
Но обращение к Ф. Ницше, который, на первый взгляд, явился противником истории, вполне обоснованно, поскольку он подошёл к этой теме, чтобы содействовать историку в забвении определённых моментов, на что есть свои причины. Можно заметить, что истории чужда мысль о забвении, и историки, которых могла соблазнить эта мысль, непоследовательны. Но всё гораздо сложнее.
Условно (вслед за Ф. Ницше) можно выделить четыре типа забвения. С первым из них мы сталкиваемся в обыденной жизни, когда индивиду предписано его психическим здоровьем забывать некоторые моменты прошлого, никак не связанные с его идентичностью. Примером может послужить меню на обед недельной давности или вчерашняя прогулка по парку. Однако есть возражения, сутью которых является утверждение, что история обыденности несёт в себе особый смысл, лежащий в основе образа того или иного будущего. История повседневности, таким образом, обладает огромным потенциалом и так же имеет значение и для коллективной идентичности.
Вторым типом забвения можно обозначить нечто, что вообще не попадало в горизонт нашего интереса и часто ускользало из-за кажущейся бесполезности. Это важно, если взять пример с психоанализом и тем, как второстепенные, казалось бы, поступки формируют особенности личности. Говоря же об истории нации, историки не всегда брали во внимание социально-экономические условия общества, забывая их значимость и опираясь лишь на политические достижения, что вызывало определённые порицания в неполноте данного исторического изображения.
Третьим типом забвения выступает забывание болезненных моментов. Очевидный аналог этому мы найдём в психоанализе, когда, например, 3. Фрейд забывал слово «саван», связанное с неприятным воспоминанием похорон кого-то из близких. Та или иная сторона прошлого просто вытесняется из памяти для сохранения психического здоровья не только конкретного человека, но и коллектива или нации. Однако вытеснение — это не стирание из памяти болезненного события, а перевод его в область бессознательного. Но уровень бессознательной памяти является неартикулированным скоплением разных событий, воспоминания о которых находятся в нашей сознательной памяти.
Четвёртым типом забвения является «новый мир». После Французской революции Европа вступила совершенно в новый мир, родившийся благодаря забвению старого мира и приобретению новой идентичности.
Можно выделить общность невозможно, и память о той или иной травме будет постоянно присутствовать — ив этом заключается их глубокое различие. Но стоит заметить, что в рамках третьего типа забвения конфликт между присутствующим в сознании и присутствующим в бессознательном возможно разрешитьэтих типов: все они связаны с некоторыми болезненными моментами нашей истории, однако, в третьем типе можно избавиться от травматического воспоминания, пряча его в лабиринтах бессознательного, а в последнем это сделать. Травма может предстать в виде нарратива (это основной методом психоаналитической традиции), что введёт её в историю чьей-то жизни, избавляя от зловещего характера. Используя точную терминологию, происходит примирение болезненного опыта и идентичности, что даёт возможность для дальнейшего существования.
Четвёртый тип забвения играет огромную роль для истории. Он всегда связан с чувством потери и утраты чего-то важного и невосполнимого. Отказа от прежней идентичности, связанный с коренным переломом всего жизненного уклада, является болезненным переживанием; оно заставляет человечество уйти от прежней идентичности и вступить в новый мир. Но такая возможность появляется только после забвения идентичности, не удовлетворяющей современные запросы. Последствия подобного опыта рождают совершенно новую идентичность, но воспоминания о прошлом не покинут нашей памяти и всегда, как тень, будут следовать по пятам. Новая идентичность определяется именно травмой от потери старой идентичности, которая заявляет о себе в терминах невозможности возвращения. Однако желание вернуться в прошлое сублимируется в постоянном поиске какого-то знания о нём, что даёт историописанию огромную мотивацию. История, таким образом, является наиболее удачным мостом, который призван сократить пропасть между знанием и бытием.