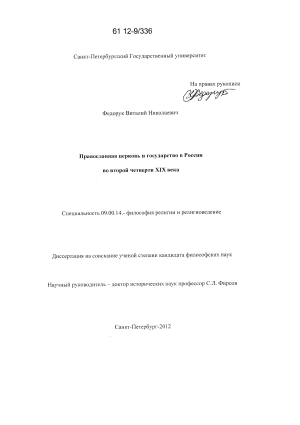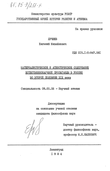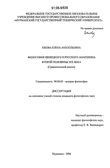Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Реорганизация управления Православной Российской Церковью при Николае I 36
1.1. Характер и особенности института обер-прокуратуры как основного проводника государственного влияния при Николае I 36
1.2. Изменения в синодальной структуре и их преемственность по отношению к церковной политике первой четверти XIX века 69
1.3. Структурные изменения в Св. Синоде при Н.А. Протасове 77
1.4. Реорганизация духовно-учебного дела 92
1.5. Устав духовных консисторий 1841 года и положение епископата; духовенство в Св. Синоде 111
Глава II. Церковно-государственные отношения во второй четверти XIX века 120
2.1. Эволюция церковно-государственных отношений во второй четверти XIX века как отражение эволюции общества 120
2.2. Идеологическое содержание и обоснование административных изменений в Св. Синоде при Николае I 137
2.3. Св. Синод и епархиальные учреждения Русской Православной Церкви 155
2.4. Укрепление позиций обер-прокуратуры Св. Синода в свете мнений и отзывов современников .161
2.5. Ведомство православного исповедания при Николае I 180
Заключение
- Изменения в синодальной структуре и их преемственность по отношению к церковной политике первой четверти XIX века
- Реорганизация духовно-учебного дела
- Идеологическое содержание и обоснование административных изменений в Св. Синоде при Николае
- Укрепление позиций обер-прокуратуры Св. Синода в свете мнений и отзывов современников
Введение к работе
Актуальность исследования
Религия занимает одно из важнейших мест в жизни общества, и её взаимоотношения с властью на различных исторических этапах всегда служили индикатором социально-политического и духовного уровня развития в государстве. Отношения верховной власти и религиозных институций, в первую очередь Православной Российской Церкви, всегда занимали важное место в российском самосознании. Без правильного представления системы церковно-государственных отношений невозможно объективное понимание как прошлого, так перспектив будущего развития Российского социума.
Длительный период становления церковно-государственных отношений допетровской эпохи завершился созданием Св. Синода. Заложенная тогда синодальная система, развивалась вместе со всем государственным аппаратом империи и окончательно сложилась во второй четверти XIX столетия и действовала вплоть до 1917 г. В XIX веке Церковь стала важной составляющей государственной идеологии, что сказалось на той роли, которую играло Православие в общественной жизни. Актуальность работы обусловлена тем, что Церковь и государство, в создании своей общественно-политической модели, сегодня неизбежно ощущают влияние прошлых социальных и административных систем, среди которых – синодальный принцип управления Православной Церковью.
Актуальность исследования заключается в том, что Русская Православная Церковь сегодня играет большую роль в общественной жизни, обладает влиянием на социум. Аспекты взаимодействия Церкви с властью вырабатывались в течение длительного исторического периода, в котором вторая четверть XIX столетия – один из важнейших этапов, без понимания которого невозможно решение многих внутри - и околоцерковных проблем современности. Хронологические рамки исследования соответствуют второй четверти XIX века, так как в этот период в управлении церковными делами схема «император – обер-прокурор», возобладала над прежней – «император – Св. Синод»; утвердился бюрократический принцип, приведший к слиянию Церкви и государственной системы в общественном сознании. Церковно-государственные отношения при Николае I представляют собой значительный этап в развитии теории и практики сосуществования государства и Церкви – материальной и сакральной составляющих общества.
Объектом исследования являются преобразования в системе управления Православной Российской Церковью, произошедшие во второй четверти XIX века, их предпосылки и результаты.
Цели и задачи исследования
Целью исследования является научно обоснованная религиоведческая реконструкция основных тенденций взаимодействия Церкви и императорской власти в царствование Николая I; данная целевая установка обусловила постановку следующих задач исследования:
1) Изучение церковно-государственных отношений в России второй четверти XIX века в свете государственной идеологии, богословских воззрений и общественной мысли. Выявление взаимосвязи теории официальной народности и отношений между императорской властью и Церковью.
2) Уточнение характера и особенностей института обер-прокуратуры как основного проводника имперской идеологии в церковной политике государства.
3) Исследование причин структурных изменений в Св. Синоде при Николае I, их преемственности по отношению к предшествовавшему царствованию Александра I. Изучение взаимосвязи синодальных преобразований и логики отношения самодержавия к господствующей Церкви.
4) Анализ преобразований в структуре управления Российской Православной Церковью, имевших место при обер-прокуроре Н.А. Протасове. Определение этих преобразований как продолжения и логического завершения церковной политики императорской власти XVIII – первой четверти XIX веков. Рассмотрение различных аспектов положения Церкви, создавшегося в период правления императора Николая I.
Методология исследования
Методы исследования определяются целью и задачами диссертации. Исходя из того, что религиоведение является комплексной дисциплиной, в работе рассматривается религиоведческая составляющая социальных и политических процессов, происходивших в российском обществе в николаевское царствование. Ряд взаимосвязанных исторических фактов на основе анализа их причинно-следственных элементов группируется в целое, и получает историко-религиоведческое обоснование. Задачи исторической реконструкции обусловливают применение классической методологии источниковедения, с помощью которой воссоздаются исторические факты. Реконструируемые процессы в области церковного управления и религиозного правосознания анализируются в рамках системного подхода. Общественно-культурные и религиозно-мировоззренческие явления эпохи Николая I исследуются методами структурного и функционального анализа с опорой на четко выверенный логико-понятийный и терминологический аппарат. Теоретические и практические аспекты реформы духовного образования и системы церковного управления представлены в контексте указанных методов в совокупности конкретно-исторических данных. Основным принципом, определяющим порядок изложения материала, является проблемно-хронологический метод. Религиоведческая проблематика основ церковного управления иллюстрируется на примере конкретных фактов истории Св. Синода и духовного просвещения.
Источниковая база исследования
История Православной Российской Церкви второй четверти XIX столетия дала нам обширную источниковую базу. Специфика темы исследования определила необходимость привлечения большого количества исторических и богословских, которые следует разделить на несколько групп.
1) К опубликованным источникам относится богатый законодательный материал, касающийся церковного управления. Это акты, вошедшие в «Полное собрание законов Российской империи» и «Свод законов Российской империи», определявшие статус Православной Российской Церкви, структуру её управления, проведение церковных реформ, правовое положение духовенства. Они необходимы для изучения религиозной политики верховной власти. Часть документов напечатана в специальных изданиях. Среди официальных источников использовались также ежегодно публиковавшиеся отчеты обер-прокурора, содержащие сведения о хозяйственной и административной деятельности Синода с приложением подробных статистических данных.
2) Вторая группа источников включает в себя опубликованные материалы по идеологии – сочинения митрополита Московского Филарета (Дроздова), Н.М. Карамзина и С.С. Уварова, ставшие основой теории официальной народности и повлиявшие на взаимоотношения Церкви и императорской власти.
3) В диссертации активно использованы воспоминания и переписка духовных и светских лиц, имевших отношение к синодальным преобразованиям второй четверти XIX века.
4) Большая часть источников по истории синодального периода не опубликована. Основной объём хранится в фондах Св. Синода в РГИА. В диссертации широко использованы материалы Канцелярии Св. Синода (ф. 796) и Канцелярии обер-прокурора Синода (ф. 797), проливающие свет на развитие синодальной системы, отражающее состояние отношений духовной и светской власти. В ходе работы просматривались документы Хозяйственного управления Св. Синода (ф. 799), Управления контроля (ф. 801), Учебного (ф. 802) и Училищного (ф. 803) комитетов Синода; присутствий Синода - по делам православного духовенства (ф. 804), придворного духовенства (ф. 805), военного и морского протопресвитера (ф. 806), Канцелярии греко-униатской церкви в России (ф. 823).
5) Небольшую, но интересную группу источников представляют материалы ОР РНБ. Это неизданные учебные работы учащихся СПбДА (ф. 574), не введённые в научный оборот и иллюстрирующие отношение к синодальным преобразованиям в церковных кругах. Также рассмотрены не изучавшиеся ранее материалы из фонда ближайшего помощника Н.А. Протасова, К.С. Сербиновича (ф. 690). Они показывают детали подготовки важных изменений в структуре синодального управления, доказывающие, что авторство проектов синодальных преобразований принадлежит именно К.С. Сербиновичу, на что никто из исследователей не обращал внимания.
Степень изученности темы
При написании диссертации были использованы теоретические работы, затрагивавшие различные аспекты отношений власти и религиозных институций, религии и Церкви и их роли в обществе. Среди зарубежных – классические труды М. Вебера, М. Блока, Т. Парсонса, Х. Кокса, М. Элиаде. Большое внимание было уделено монографиям отечественных философов и религиоведов. Из классиков можно назвать В.В. Болотова, Н.Н. Глубоковского, С.Н. Булгакова, Н.О. Лосского. Богословские аспекты отношений власти и Церкви в России анализировали Н.Н. Алексеев и В.В. Зеньковский. Методологически очень значимы работы современных российских религиоведов – В.И. Гараджи, И.Н. Яблокова, Е.Н. Салыгина.
В российском религиоведении и исторической науке существует значительное количество работ, где освещены эпоха синодального управления Русской Церковью в целом, и период царствования Николая I в частности. Активный интерес к ним возникает в эпоху либеральных реформ Александра II, когда появляются многочисленные публикации, посвященные различным аспектам церковной жизни недавнего времени. В дореволюционный период история Св. Синода нашла отражение только в трудах преподавателей духовных академий и историков Церкви.
Положение Церкви в империи не освещалось в общих курсах по истории Русской Церкви или сочинениях о царствовании Николая I, в монографиях по русской истории. В них описывались только отдельные эпизоды отношений Церкви и государства. Так, С.М. Соловьев, затронул общественное положение митрополита Московского Филарета (Дроздова) в николаевский период, объяснив внутреннее противоречие в отношениях церковного иерарха и императорской власти. В.О. Ключевский не рассматривал деятельность Св. Синода, но указал на условия, в которых происходили синодальные преобразования 1830-40-х гг.
В 1870-80-х гг. церковные историки обращаются к изучению Русской Церкви второй четверти XIX века, и включают в этот период в учебные пособия для духовных училищ. Это работы А.П. Доброклонского, В.А. Малицкого, И. Денисова, а также труд П.В. Знаменского, выдержавший много изданий и не утративший ценность в качестве учебного пособия. В нём дана положительная оценка синодальным преобразованиям без их подробного описания. Первое исследование по истории Церкви николаевского времени принадлежит священнику М.Я. Морошкину. Оно посвящено изучению центрального и местного церковного управления, основано на богатом архивном материале и содержит подробный обзор событий церковной жизни рассматриваемого периода. В ней описаны (но не проанализированы) нововведения в синодальном управлении второй четверти XIX века.
Единственно разработанной в дореволюционной науке оказалась тема духовного просвещения, здесь появляется критическое отношение к некоторым вопросам церковной истории. В 1883 г. вышла в свет работа профессора Петербургской духовной академии Д.И. Ростиславова, посвященная истории академии в николаевский период, а также взаимоотношениям Н.А. Протасова с духовенством и преподавательским составом. Одним из крупнейших исследователей духовного образования был И.А. Чистович. Ему принадлежат монографии об истории Санкт-Петербургской духовной академии, переводе Библии на русский язык и о руководящих деятелях духовного просвещения первой половины XIX века. И.А. Чистович, избегая собственных оценок, впервые подчеркнул единство взглядов на духовное просвещение императора, синодального обер-прокурора и Министерства народного просвещения. Многие вопросы духовного образования затронул Н.А. Астафьев в книге о переводе Библии на русский язык. Отношение правительства Николая I и, следовательно, Н.А. Протасова к переводу Библии и духовно-учебному делу исследователь выводит из «охранительных» начал политики данного периода.
В конце XIX века вышли в свет фундаментальные работы по истории Св. Синода Т.В. Барсова и Ф.В. Благовидова. Главное достоинство монографии Т.В. Барсова заключается в том, что он впервые ввел в научный оборот обширный фактический материал. Являясь сотрудником Св. Синода, Т.В. Барсов высказывал весьма осторожные суждения его положении в государственной системе управления, не затрагивал вопросы государственной идеологии. Первую попытку изучить церковно-государственные отношения в контексте внутриполитической ситуации осуществил Ф.В. Благовидов. Он обстоятельно изложил историю взаимоотношений синодальной обер-прокуратуры и высшей церковной иерархии, отметил последовательность действий обер-прокурора и их преемственность относительно предшествовавшего развития отношений Церкви и государства. В работе Ф.В. Благовидова из-за цензурных ограничений не указано на полное соответствие шагов обер-прокуратуры с тем, как понимал задачи церковной политики сам Николай I.
В 1901 г. вышла работа С.Г. Рункевича – первый обобщающий труд по истории Русской Церкви в XIX столетии. Работа хорошо систематизирована, в ней нашли отражение практически все стороны церковной жизни; это впервые предложенный официальный взгляд на становление синодальных учреждений в XIX веке. В.М. Грибовский написал статью о церковном управлении при Николае I, в которой отметил преемственность политики синодальных прокуроров в отношении епископата, дал интересные психологические характеристики деятелей эпохи. В.М. Грибовский, как и, впоследствии, К.П. Дьяконов, в своих монографиях во многом опирались на обширную мемуарную литературу. В отличие от этих исследователей, А.Н. Котович и П.В. Верховской не давали личных характеристик. Они подчеркивали общие направления правительственной деятельности в отношении Церкви. В целом, никто из историков XIX века не обратил внимания на полное соответствие синодальных преобразований 1830-1840-х гг. политической системе времени Николая I. Так, например, Б.В. Титлинов говорил о протасовской эпохе истории Св. Синода, вырывая этот период из исторического контекста развития обер-прокуратуры.
После отмены в 1906 г. цензурных ограничений, выходит ряд монографий о русской церковной жизни николаевской эпохи. Книга К.П. Дьяконова о духовных школах во второй четверти XIX века продолжает направление, начатое Д.И. Ростиславовым и И.А. Чистовичем. В отличие от предшественников, К.П. Дьяконов осуждает все начинания «протасовской» обер-прокуратуры. В книге Ф.Н. Белявского «О реформе духовной школы» критикуется деятельность обер-прокуратуры и политика правительства в отношении к Церкви. П.В. Верховской, отмечал, что при Н.А. Протасове складывается синодальная система, существовавшая в течение всего последующего времени, а сам обер-прокурор приобрёл положение министра, не связывая это с общим внутриполитическим курсом Николая I. А.А. Корнилов и А.Е. Пресняков в своих статьях анализируют идеологию николаевского царствования, не определяя место Церкви в идеологической системе.
В большинстве случаев исследователи обращали внимание либо на исторические факты, либо на вопросы государственной идеологии и православного богословия. При этом историки, занимавшиеся изучением Церкви в XIX веке, оставляли за рамками своих исследований религиоведческие проблемы; а религиоведы ХХ века не обращали достаточного внимания на конкретно историческую ситуацию.
Правовое положение Церкви в Российской империи рассматривали Н.Н. Алексеев, В.В. Ивановский, Н.И. Лазаревский, Н.А. Заозерский, Н.С. Суворов, В.Н. Латкин и мн. др. Среди правоведов нет единого мнения о положении Св. Синода среди высших органов государственного управления, а также о месте обер-прокурора в ряду первых должностных лиц империи. Л.А. Тихомиров, подробно описав все типы взаимоотношений Церкви и государства, подчеркивал, господство бюрократического начала в церковном управлении XIX веке.
Среди исследователей Русского Зарубежья традиции школы XIX века продолжил Н.Д. Тальберг. Исключительное место занимает труд И.К. Смолича, содержащий описание русской церковной истории с 1700 по 1917 гг. Рассматривая николаевское время, И.К. Смолич говорит о синодальных «реформах», их исторических предпосылках, намечавшихся еще до обер-прокуратуры Н.А. Протасова. В работе затронуты все стороны церковной жизни в России синодального периода, но недостаточно освещены вопросы церковно-государственного взаимодействия. Следует отметить труд протоиерея Георгия Флоровского «Пути русского богословия», где дан всесторонний и глубокий анализ развития богословия и духовного просвещения; но автор не ставил задачи исследования отношений светской и духовной властей.
В Советский период вопросы церковно-государственных отношений XIX века рассматривались только в контексте принятого крайне негативного взгляда на Церковь как на «прислужницу самодержавия» и утверждения о «единодушии» государства и Церкви во всех направлениях внутренней политики России до 1917 г. Этот взгляд был изложен Н.М. Никольским, и, впоследствии, растиражирован в многочисленных книгах и статьях. Аппарат церковного управления описан только в учебных пособиях, какие-либо противоречия между Церковью и государством не рассматривались. Среди общих работ советского времени следует отметить статью Б.Г. Литвака. По истории обер-прокуратуры николаевского царствования до второй половины 1990-х гг. не вышло ни одной специальной работы.
В современном отечественном религиоведении существует ряд работ о церковно-государственных отношениях при Александре I и Александре II, а также отдельных событиях и деятелях николаевского царствования. С.В. Римский придавал большое значение законодательной основе и политическим предпосылкам реформ синодального правления. В работах Е.А. Вишленковой всесторонне рассматриваются взаимодействие Церкви и светской власти в первой четверти XIX века, чётко определяется место Св. Синода в государственном аппарате; впервые в послереволюционной историографии анализируется духовно-учебная реформа александровского времени. Неразрывность социальных, культурных процессов с историей высшей церковной администрации подчеркивается в труде Б.Н. Миронова. Представляет интерес работа З.П. Тининой, посвящённая церковно-государственным отношениям эпохи Александра I. К вопросу о месте Св. Синода в системе высших государственных учреждений Российской империи обратилась в своей монографии С.И. Алексеева. В 2003 г. О.М. Журавлёва защитила диссертацию, посвящённую церковно-государственной деятельности митрополита Московского и Коломенского Филарета (Дроздова), показав его деятельность на фоне николаевской системы.
В современных исследованиях все чаще подчеркивается связь синодальных преобразований с внутриполитическим курсом. Л.А. Андреева говорит о сакрализации власти монарха в ущерб Церкви. Автор ряда монографий по истории Церкви в первой половине XIX века, Ю.Е. Кондаков, уделяет большое внимание церковно-государственным отношениям, делая акцент на внутренней покровительственной политике светской власти в отношении Церкви. Исследователь вводит понятие «православная оппозиция» и подробно рассматривает причины недовольства царской политикой в церковной среде.
Большой интерес представляют статьи С.Л. Фирсова, посвящённые вопросам восприятия властью Церкви сквозь призму официальной «охранительной идеологии» николаевского времени, личным взглядам Николая I на вопросы веры, отношения Церкви и государства. Необходимо отметить современные работы, анализирующие государственную идеологию николаевской эпохи. Среди них труды А.Л. Зорина, О.Ю. Малиновой, М.С. Стецкевича. Зарубежные авторы также затрагивают вопросы официальной идеологии, имевшие прямое отношение к церковно-государственным отношениям в России. Ц. Виттекер проанализировала отношение власти к Церкви и народной вере в рамках уваровской триады. Р. Уортман дал глубокий психологический анализ атмосферы николаевского царствования, внутренних предпосылок возникновения государственной идеологии.
Можно заключить, что исследователи XIX–начала ХХ вв. положение Церкви рассматривали вне политического процесса. В этот период не существовало религиоведческой школы, и, соответственно, религиоведческого анализа идеологической доктрины и места Церкви в государстве. Историки дореволюционной школы, изложив богатый фактический материал, наметили основные направления для дальнейших исследований. В современном религиоведении сложилась традиция изучения церковно-государственного взаимодействия в России, но среди современных исследований нет работ, специально посвящённых отношениям государства и Церкви во второй четверти XIX столетия.
Научная новизна работы
1. В представленной работе впервые в религиоведении даётся комплексный анализ положения Православной Российской Церкви в эпоху Николая I. Указанная тема раскрывается на стыке религиоведческого и исторического подходов. Новизна настоящего исследования обусловлена отсутствием исследований междисциплинарного характера, посвященных проблеме церковно-государственного взаимодействия во второй четверти XIX столетия.
2. Положение Церкви в Российской империи впервые изучается как система, возникшая на основе синтеза светских и церковных представлений о русской государственной идее. Эти представления логически вытекали из всего предыдущего периода развития общественной мысли и религиозного мировоззрения.
3. Полномочия обер-прокуратуры в первый раз рассматриваются в рамках политической системы, в соответствии с внутренней логикой развития российской государственности.
4. Введены в научный оборот новые источники, иллюстрирующие синодальные преобразования при Н.А. Протасове. Собрана и систематизирована информация, отражающая исторические и религиоведческие аспекты положения Православной Церкви в политической структуре николаевской России. На этой основе дана попытка объективного освещения роли Церкви как общественного института во второй четверти XIX века, представленная в рамках религиоведения.
Основные положения, выносимые на защиту
1) Эволюция церковно-государственных отношений во второй четверти XIX века стала отражением эволюции всего российского общества. Преобразования в области церковного управления при Николае I определили жизнь Церкви как социального института вплоть до начала ХХ века.
2) Идеологическое обоснование церковно-государственных отношений во второй четверти XIX века было обусловлено логикой развития российского самодержавия и политикой Николая I в области образования и культуры.
3) Реорганизация духовно-учебного дела и создание Устава духовных консисторий, имевшие место при Николае I, заметно отразились на истории Церкви, оказали влияние на развитие богословской мысли XIX века и уровень подготовки духовенства. Устав духовных консисторий определил положение епископата и духовенства не только в административной структуре, но и обществе в целом.
4) Бюрократические преобразования в управлении Церковью выявили радикальные изменения в отношении государства к Церкви, закрепив её подчинённое положение по отношению к светской власти.
Практическая значимость работы
В диссертации содержатся общие методологические предпосылки для изучения взаимоотношений Церкви и государства в России с исторической, социально-философской, религиоведческой, культурологической точек зрения. Конкретные материалы и выводы диссертационного исследования могут быть использованы в соответствующих разделах лекционных курсов по истории религии и религиоведению, а также в курсах лекций по отечественной истории и истории Русской Православной Церкви.
Апробация работы
Основные положения диссертации обсуждались на заседаниях кафедры философии религии и религиоведения Санкт-Петербургского государственного университета. Материалы, связанные с темой диссертационной работы, излагались в виде докладов на конференции «Русская религиозность: историко-философский, филологический и библиографический ракурсы изучения», организованной Фондом по изучению истории Русской православной церкви во имя Святителя Димитрия Ростовского (СПб., 1-2 декабря 2000), на VII Санкт-Петербургских религиоведческих чтениях «Сакральные тексты в истории культуры». (СПб., 19-21 октября 1999 г.), на конференции «Православная эсхатология: источники, основные проблемы изучения, сравнительно-исторические параллели» (СПб., 1-2 декабря 1999 г.).
Структура работы
Работа состоит из введения, включающего обзор литературы и источников, двух глав, разделённых на параграфы, заключения, списка использованной литературы и источников.
Изменения в синодальной структуре и их преемственность по отношению к церковной политике первой четверти XIX века
В целом, рассмотренные работы не заключают в себе осмысления идеологической доктрины и места Церкви в государстве с точки зрения религиоведения. Это и не входило в задачу исследователей. По причине жестких цензурных условий историкам было сложно подчеркивать определяющую роль верховной власти на каждом из направлений деятельности обер-прокуратуры. Исследователи XIX - начала XX вв. указали на основные тенденции развития церковно-государственных отношений николаевского царствования, до определенной степени установили их взаимосвязь с событиями предшествовавшего времени, но история Св. Синода рассмотрена еще вне контекста политического процесса. Историки дореволюционной школы наметили все направления, по которым следует изучать этот процесс. А.В. Карташов в 1903 г. отмечал, что «в общем история Русской Церкви еще не переросла задачи простого объединения фактических материалов и их первоначальной систематической обработки и едва приближается к возможности ее цельного синтетического построения».
В Советский период вопросы церковно-государственных отношений XIX века рассматривались только в контексте принятого крайне негативного взгляда на Церковь как на «прислужницу самодержавия» и тезиса о полном «единодушии» государства и Церкви во всех направлениях внутренней политики России до 1917 г. Подобный взгляд изложен в известной книге Н.М. Никольского. 5 В связи с этим, по истории Церкви второй четверти XIX в. до 1990-х годов не вышло ни одной специальной работы. Подробно рассматривался аппарат церковного управления только в учебных пособиях,6 причем какие-либо противоречия между Церковью и государством не принимались во внимание. В конце советского времени некоторые вопросы, связанные с историей Русской Церкви, впервые были обозначены в работе Б.Г. Литвака.67
В эмиграции, традиции дореволюционных исследователей продолжил Н.Д. Тальберг. Он отметил резкое усиление влияния императорской власти и ущемление прав иерархии в управлении Церковью. В исторической литературе, посвященной Православной Российской Церкви, исключительное место занимает труд другого представителя русского Зарубежья, И.К. Смолича,69 содержащий описание русской церковной истории с 1700 по 1917 гг. В настоящий момент это наиболее полное исследование синодального периода, включающее историографический обзор. Достоинство книг И. К. Смолича — многоаспектность рассматриваемых им проблем истории Церкви, данная в связи с социальной и культурой жизнью России того времени. Уделяя внимание эпохе Николая I, И.К. Смолич так же, как и Ф.В. Благовидов, говорит о «реформах», об исторических предпосылках синодальных преобразований, «намечавшихся еще до появления самого Протасова». Исследователь тщательно изучил влияние отдельных представителей епископата на ход событий и назвал эпоху Николая І в истории Церкви «эпохой филаретовской». Изучая деятельность иерархов, И.К. Смолич сделал шаг вперед по сравнению с дореволюционной историографией, писавшей о предстоятелях Церкви как бы «отдельно» от общеполитических тенденций эпохи и их влияния на церковную жизнь. В работе И.К. Смолича кратко освещены все аспекты церковной истории России Синодального периода. Подводя итог изучению николаевского времени, ученый писал: «При Николае I господствующая Церковь окончательно превратилась в Церковь, находившуюся под опекой государства. Правительство считало себя вправе предоставлять Церкви свободу действий лишь настолько, насколько это казалось целесообразным в пределах общей внутренней политики».71 Автор не имел доступа к архивным документам, но проработал практически всю существовавшую к тому времени литературу, в силу чего его произведение можно расценивать как итог всей предшествовавшей историографии.
Говоря об исследователях русского Зарубежья, нельзя не упомянуть труд протоиерея Георгия Флоровского «Пути русского богословия». Это важное историко-философское сочинение по теме нашего исследования. Г. Флоровский дал всесторонний и глубокий анализ развития богословия, духовного просвещения, различных сторон взаимоотношений светской власти и Церкви. В книге уделяется большое внимание личным взглядам Николая I, Н.А. Протасова, митрополита Московского Филарета и других видных деятелей эпохи. Отмечая завершение процесса подчинения церковного управления государству, отец Георгий писал: «Протасов был верным проводником николаевских начал в церковной политике «...» хотел не только властвовать в церковном управлении, но именно перестроить или устроить его в точном соответствии с основным принципом абсолютного и конфессионального государства. В этой планомерности вся историческая значимость его деятельности».
Среди изданий, вышедших в последнее время, следует отметить книги СВ. Римского,73 П.Н. 3 ырянова, Е.А. Вишленковой, СИ. Алексеевой, Ю.А. Кондакова. СВ. Римский придавал большое значение законодательной основе и политическим предпосылкам, служившим почвой для изменения форм синодального правления; деятельность Н.А. Протасова рассматривается в данном случае только как отражение царственной воли Николая I. Изучая детали епархиального управления, СР. Римский подробно изучил протасовский Устав духовных консисторий и его значение для русской церковной жизни. Исследователь не обошел вниманием финансовые вопросы, правовое положение духовенства, духовное образование, интерес представляет и его статья о конфессиональной политике России в Западном крае.75 Монография П.Н. Зырянова содержит интересную информацию о юридическом положении монастырей и об отношении их к Св. Синоду, а также о посещении Николаем I монастырей. В 1994 г. вышла статья Т.Г. Фруменковой, содержащая перечень обер-прокуроров с кратким изложением главных вех истории синодального управления Церковью.76 Появление подобных публикаций говорит о растущем интересе исследователей к истории Св. Синода.
Реорганизация духовно-учебного дела
Методы работы Н.А. Протасова не могли устраивать его современников из духовенства. Иерархи, вынужденные действовать в условиях неканонического управления Церковью, привыкли мириться с синодальной системой, принимать её в общих чертах. Н.А. Протасов, кадровый военный, выделялся из ряда светских чиновников - обер-прокуроров. Членов Св. Синода в данном случае особенно раздражал стиль общения графа. Активная деятельность Н.А. Протасова - носителя светского сознания, в церковной среде часто вызывала подозрения в его неправославии. Эти подозрения не имели под собой реальной основы. Н.А. Протасова неоднократно характеризовали как «иезуита, скрытого католика». Сам обер-прокурор в одной беседе с англиканским богословом В. Пальмером признавался в плохом знании богословия, а такого человека клирики могли заподозрить и в неправославии. Вопрос о «неправославии» обер-прокурора рассматривал и К.П. Дьяконов. Исследуя «католическое влияние» во взглядах Н.А. Протасова, он обратил внимание на «общее направление правительственной системы», ее консервативно-дисциплинарную направленность. «На самом деле, - писал К.П. Дьяконов, - Протасов старался оградить православную Церковь от влияний, чуждых духу её восточного происхождения ... хотел основать реформу духовного образования на неизменных началах православия».2
При чтении мемуаров о «протасовском» периоде в истории Св. Синода можно выявить следующую закономерность. Люди, непосредственно подчинявшиеся обер-прокурору, как светские чиновники (А.Н. Муравьев, Ф.Ф. Измайлов), так и духовные лица (епископ Никодим, Филарет, митрополит
Московский) оценивали деятельность Н.А. Протасова негативно, при этом отдавая дань его деловым качествам. Современники критиковали административные преобразования Н.А. Протасова, его духовно-учебную реформу (исключая Д.И. Ростиславова), и это объяснимо, поскольку любые реформы встречают противников в силу инерции. Показательно, что воссоединение с Православием западнорусских униатов, естественным образом вызвало положительный резонанс в русском обществе, и особенно в среде духовенства. Присоединение униатов стало, видимо, самым ярким событием за период обер-прокурорства Н.А. Протасова. Его роль в «униатском вопросе» заслуживает особого внимания. Еще одна закономерность: современники Н.А. Протасова, люди, имевшие прямое отношение к событиям 1830-1840-х гг., критиковали происходящее. Но, через определённое время, те же источники отзывались о Н.А. Протасове положительно. Так, Красноярский епископ Никодим, автор выше цитированных воспоминаний, подвел своеобразный итог: «Н.А. Протасов желал добра русскому духовенству и был человек умный».204
Митрополит Литовский Иосиф (Семашко),205 архиепископ Полоцкий и Витебский Василий (Лужинский) и другие видные деятели воссоединения Унии писали о государственном уме и неутомимой энергии обер-прокурора, проявленных им в униатском вопросе. Архиепископ Василий отмечал, что «державная воля следила» за всеми его действиями, а граф Протасов был «сановником достойным».206 Светские чиновники, имевшие отношение к делу воссоединения, также оставили самые положительные отзывы. Говорили о «рыцарской прямоте и простоте в общении»" (Н.В. Сушков, витебский, а, затем, минский губернатор, по собственному признанию, ставленник Н.А.Протасова). А.И. Ломачевский, жандармский офицер, работавший в 1830 1840- гг. в униатских губерниях, писал о Н.А. Протасове как об «одном из главнейших двигателей этого исторического переворота».
Как уже отмечалось, члены Св. Синода были крайне недовольны действиями С.Д. Нечаева. Н.А. Протасов представлялся им неким антиподом своего предшественника. Синодальное духовенство видело в назначении Н.А. Протасова освобождение от деспотизма С.Д. Нечаева, и оно было встречено в Св. Синоде с радостью. Так, митрополит Московский Филарет писал новому обер-прокурору, что ожидает от него всего самого лучшего «не просто по обычаю ... но из опыта временного служения»209 Н.А. Протасова в Св. Синоде.
Находясь в должности исполняющего обязанности обер-прокурора, Н.А. Протасов, по отзывам современников, держал себя тактично, благожелательно относился к членам Синода, иногда даже заискивал у них. Он быстро производил текущие дела и вообще не подавал надежд превратиться в «тяжёлого» обер-прокурора, каким стал впоследствии. Можно допустить, что присутствовавшие в Св. Синоде, в отличие от светских людей, легко поддавались на внешнюю благожелательность. Только митрополит Московский Филарет, хотя и приветствовал нового обер-прокурора, подозревал, что Н.А. Протасов может проявить себя с неожиданной стороны: «избавились от Нечаева, а тут новая нечаянность. Новый-то обер-прокурор Протасов как бы нас не протасовал по-своему ... и тогда последняя будет горше первых».210 Сочувственное отношение членов Св. Синода к новоназначенному обер-прокурору можно объяснить тем, что они от всякого нового лица на этой должности ожидали перемен к лучшему. Здесь сказалось традиционное (даже архаическое) восприятие личности вне исторического контекста.
При исследовании синодальной системы николаевского времени необходимо учитывать, что обер-прокурор был, главным образом, выразителем взглядов правительства. Об отношении к Н.А. Протасову императора Николая I можно заключить, что последний вполне ему доверял и ценил его за деловые качества. Н.А. Протасов - военный, что имело огромное значение в николаевскую эпоху. Обер-прокурор любил порядок во всех делах и быстроту в их исполнении, что соответствовало и личным качествам самого императора. Легкое, не удивившее современников, удаление П.С. Мещерского, весьма кратковременное нахождение в должности С.Д. Нечаева и неожиданное назначение Н.А. Протасова можно объяснить тем, что правительство, в первую очередь сам Николай І, в течение долгого времени находились в поиске подходящей кандидатуры.
Идеологическое содержание и обоснование административных изменений в Св. Синоде при Николае
Внесение чуждых церковному образованию предметов было возможно во многом благодаря необходимой «уступчивости», о которой говорил епископу Никодиму митрополит Московский Филарет. В дальнейшем, в семинарские курсы были введены сельская архитектура (1847 г.) и геометрия (с 1849 г.). Традиционные семинарские предметы по правилам 1840 г. повелевалось сообразовывать с общими целями духовного образования - унификацией духовных школ и усилением нравственного влияния на народ. Здесь можно согласиться с Г.В. Флоренским, который писал, что «весь замысел Протасова был не что иное, как ставка на опрощение. Протасов предлагал во всём школьном строе усилить «характер общенародное», придать всему преподаванию направление, сообразнейшее с нуждами сельских прихожан».281
Несмотря на новшества, богословская наука оставалась, в целом, вне каких-либо глубоких изменений, «независимым островком» от государственной идеологической системы. В связи с этим, Н.А. Протасов, не знавший богословия, но хорошо чувствовавший дух эпохи, пожелал произвести реформу в самом направлении богословских наук. Обер-прокурор утверждал, что церковное Предание в церковном и научном отношениях равно со Св. Писанием, и что Предание выше Св. Писания в вопросах достоверности текста и служит правилом его изъяснения. Для задуманной реформы богословия Н.А. Протасов решил привлечь авторитет ректора Петербуржской духовной академии епископа Афанасия (Дроздова), которого можно назвать одним из главных помощников обер-прокуратуры в духовно-учебной реформе.
Усиление власти обер-прокурора, а, следовательно, углубление государственного влияния на церковные дела проявлялось, главным образом, в подчинении епископата и всестороннем контроле над ним. Это нашло отражение в появлении Устава духовных консисторий, от произвола которых часто страдало сельское духовенство. Устав был разработан в 1838 г. под руководством Н.А. Протасова и утвержден в марте 1841 г., с некоторыми изменениями переиздан в 1883 г. и служил правовой основой епархиального управления. Поводом к разработке этого документа послужило издание Свода законов 1832 г., где действующие церковные указы и синодальные распоряжения не были систематизированы, что усложняло церковное законодательство. Создание Устава духовных консисторий указывает на то, что церковное управление находилось в прямой зависимости от любых изменений, происходивших в государственном механизме.
Четыре части Устава содержали: 1) общие положения о консисториях и их задачах; 2) полномочия и порядок деятельности епархиального управления; 3) определения о епархиальных судах и их производстве; 4) состав консисторий и их делопроизводство. Систему отношений в церковной иерархии, заданную обер-прокуратурой в этом Уставе, церковный историк М.Я. Морошкин охарактеризовал как «сокрушение всякого самовластия со стороны епархиальных архиереев».
Параллельно с Уставом духовных консисторий, в 1838 г. было предпринято составление Наказа благочинным, в соответствии с которым дано точное распределение благочинных округов. Как известно, границы епархий обычно совпадали с границами губерний. Епархии состояли из двух и более округов, с духовными правлениями во главе. С 1840 г. их постепенно упраздняли, с передачей средств на усиление консисторий. «Ближайший надзор за нравственностью духовенства и за надлежащим исполнением его обязанностей принадлежит благочинным архиереям, которых действия нуждаются в твердых правилах, чтобы лица, облекаемые в сие звание, могли быть в упомянутом надзоре прямыми помощниками епархиальному начальству».284 В этом вопросе все начинания обер-прокуратуры сводились к укреплению единства делопроизводства и контроля.
В отношении высшей епархиальной власти на местах обер-прокуратура сыграла следующую роль. Со второй четверти XIX в. епископы были поставлены под контроль, как в своей деятельности, так и в распоряжении финансами, отпускаемыми в ту или иную епархию. Еще в 1838 г. обер-прокурор разослал по всем епархиям циркуляр «О введении правильной отчетности в суммах, отпускаемых преосвященным на обозрение епархий». В случае надобности, епархиальные архиереи должны были предоставлять обер-прокуратуре оправдательные документы. Так, например, в 1838 г. Н.А. Протасов потребовал от псковского епископа отчета об употреблении сумм, отпущенных на ризницу и хозяйство архиерейского дома. В дальнейшем, в 1844 г., при участии митрополита Филарета Московского, была выработана общая форма ежегодных отчетов, которые епископы должны были представлять в Синод. Одновременно секретарям консистории были предписано доносить обер-прокурору обо всем, совершающемся в епархиях, их юрисдикция распространялась как на духовенство, так и на мирян; ведению консистории подлежали дела, связанные с церковными имуществами, и жалобы, как духовенства, так и мирян на духовных лиц.287 По мнению СВ. Римского, «Протасов сделал из консистории не помощника в управлении
Укрепление позиций обер-прокуратуры Св. Синода в свете мнений и отзывов современников
Идее естественного равенства людей, свойственной Просвещению и активно распространявшейся в масонских кругах в начале XIX в., Н.М. Карамзин противопоставляет мысль о естественном праве как уступающему гражданскому. Право, государство, сословный строй России он связывает с идеей самобытного народного духа, который составляет нравственное могущество государства, уважение к своему народному достоинству. Высоко ценя Петра I, Карамзин порицает его за искоренение древних навыков и введение иностранных обычаев, считая что «русская одежда, пища, борода не мешали заведению школ». Идя по пути просвещения, власть не должна навязывать народу чуждые ему законы и учреждения, сами законы народа должны быть основаны на его собственных понятиях, нравах, местных обстоятельствах. В подготовленном при участии М.М. Сперанского проекте Уложения гражданских законов Н.М. Карамзин усмотрел лишь перевод Гражданского кодекса Наполеона. В России, полагал историограф, нужно либо подготовить Кодекс, основанный на обобщении и согласовании указов и постановлений, изданных со времен царя Алексея Михайловича, либо издать полную сводную книгу российских законов или указов. Точно так же Н.М. Карамзин протестовал против возможных преобразований государственных учреждений, даже инициированных царской властью. Всякая новость в государственном порядке есть зло, к коему надобно прибегать только в необходимости. Главной ошибкой законодателей своего времени Н.М. Карамзин считал создание новых государственных учреждений - разных министерств, Государственного совета и пр.
Как видно, в «Записке» Н.М. Карамзина сформулированы основные принципы охранительной идеологии, несколько десятилетий противостоявшей в России идеям либеральных реформ. «Перемены сделанные не ручаются за пользу будущих: ожидают их более со страхом, нежели с надеждой, ибо к древним государственным зданиям прикасаться опасно. Россия же существует около 1000 лет и не в образе дикой Орды, но в виде государства великого, а нам все твердят о новых образованиях, о новых уставах, как будто бы мы недавно вышли из темных лесов американских! Требуем более мудрости хранительной, нежели творческой. Если история справедливо осуждает Петра I за излишнюю страсть его к подражанию иноземным державам, то оно в наше время не будет ли еще страшнее?»342
Стремлению к реформам Н.М. Карамзин противопоставляет несколько наивную веру в управление Россией 50 «умных и добросовестных губернаторов». Они-то и «обуздают хищное корыстолюбие нижних чиновников и господ жестоких, восстановят правосудие, успокоят земледельцев, ободрят купечество и промышленность, сохранят пользу казны и народа».343 Для наведения порядка в правосудии, утверждал Н.М. Карамзин, монарх должен быть строг и смотреть за судьями: «У нас не Англия; мы столько веков видели судью в монархе и добрую волю его признавали высшим уставом... В России государь есть живой закон... Не боятся государя - не боятся и закона!»344 Ссылаясь на Макиавелли, Н.М. Карамзин подчеркивает, что самым действенным побуждением из всех прочих является страх. «Сколько агнцев обратилось бы в тигров, если бы не было страха!» Одной из важнейших общественных язв своего времени историограф считал безбоязненность, отсутствие суровых наказаний.
Рассуждая о роли Церкви и духовенства в современной ему России, Н.М. Карамзин советует возвысить духовенство, приниженное, по его мнению, во времена Петра. Тем самым историограф России делает вполне прозрачный намёк на неканоничность синодальной системы. По своему значению Синод должен быть поставлен рядом с Сенатом. «Не довольно дать России хороших губернаторов, - надобно дать и хороших священников, - замечал Карамзин; -без прочего обойдемся и не будем никому завидовать в Европе. Дворянство и духовенство, Сенат и Синод как хранилище законов, над всеми - Государь, единственный законодатель, единственный источник властей. Вот основание Российской монархии». 3
Рассмотренная нами «Записка», выражавшая настроение основной массы дворянства, сыграла решающую роль в отставке и опале М.М. Сперанского, в прекращении проектов либеральных реформ. По авторским копиям «Записка» была известна ряду современников; в 1830-40-х гг. печатались её отдельные отрывки в различных изданиях. Возражения Н.М. Карамзина против каких бы то ни было перестроек в государственном и общественном строе России и их аргументация были восприняты охранительной идеологией николаевской эпохи. Огромную роль сыграло и личное общение историографа и Николая Павловича как до, так и сразу после 1825 г. Авторитет Н.М. Карамзина для Николая был непререкаем.
Однако нельзя утверждать, что личные взгляды Николая I и содержание «Записки» Н.М. Карамзина абсолютно совпадали. Историк апеллировал к нравственному долгу власть предержащих, имел смелость критиковать отдельных монархов и политику Александра I, удостоившего автора «высочайшего молчания» и, по сути, скрытую опалу. В любом случае, нравственный долг - определённое ограничение власти самодержца, а любое ограничение власти монарха и возможность его критики не соответствовали взглядам Николая I. Позиция, проявленная Н.М. Карамзиным 25 декабря 1825 г., а также тот факт, что историк был наиболее авторитетным мыслителем своего времени, повлияли на создание государственной идеологии преимущественно под влиянием «Записки».
Общие историософские взгляды Н.М. Карамзина, отчеканенные С.С. Уваровым в универсальную формулировку, идеально соответствовали представлениям Николая I о России и её месте в мире. Единство веры, государства и народа предполагало в идеале такое развитие всех сфер социальной, экономической и политической жизни, при которых различные слои общества стояли бы в едином духовном измерении, в свете православно-монархического правосознания устремлялись бы к общему благу. Именно здесь лежат корни унификации всех частей государственного управления, и Св. Синод не мог остаться в стороне от активной правительственной деятельности в этом направлении. «Борьба с нежелательными политическими идеями и охранение господствующего православного исповедания как основы существующего государственного строя» легли в основу николаевской идеологии.