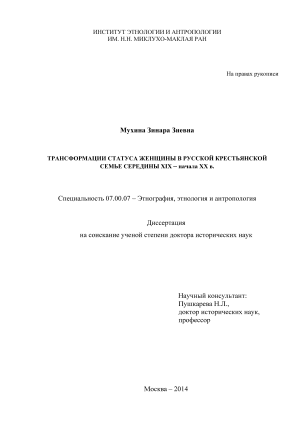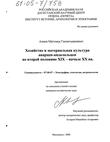Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Социализация девочки и девушки в крестьянской семье 68
1.1. Развитие социальных и эмоциональных отношений в период детства (возрастной интервал: от рождения до подросткового возраста) 68
1.2. Лиминальность девичьего подросткового возраста и воспитание в девочках приемлемости традиционного тендерного контракта 90
1.3. Взросление в крестьянской семье: статус девушки в условиях навязываемого неполноправия традиционной тендерной композиции 111
1.4. Социокультурные особенности добрачного полового поведения девушек 133
1.5. Столкновение традиционного и инновационного в условиях и порядке заключения брака крестьянками 148
Глава II. Жизненный уклад замужних крестьянок 181
2.1. Женское пространство в традиционном тендерном контракте 181
2.2. Обновленный тендерный контракт. Женское крестьянское отходничество 216
2.3. Репродуктивное поведение русских крестьянок в период эрозии традиционного тендерного контракта 251
2.4. Перемены в эмоционально-чувственной сфере жизни крестьянки пореформенного времени 303
2.5. Право обычное и право писаное. Динамика изменений социально-правового положения крестьянки 330
Глава III. Особенности социального статуса незамужних, разведенных и представительниц иных групп неполноправных крестьянок 361
3.1. Своеобразие положения старых дев, черничек, монашек и влияние на него модернизационных процессов 361
3.2. Вопрос о праве и практиках развода в крестьянской семье. Социальное положение разведенных женщин 372
3.3. Вдовы и солдатки 389
3.4. Нищенки, старухи, знахарки, колдуньи, сироты 410
Глава IV. Изменение социокультурных стереотипов восприятия женщины в крестьянском социуме 440
4.1. Внешний вид и одежда как маркеры возраста и статуса крестьянки 440
4.2. Особенности женской крестьянской субкультуры (ритуальные функции, женские суеверия, сплетни, пьянство) 464
4.3. Восприятие книжности женщинами-крестьянками. Образование и просвещение 486
4.4. Социокультурные стереотипы восприятия женского мира в фольклоре и новации пореформенного времени 520
4.5. Женская крестьянская преступность 544
4.6. Стереотипы восприятия женщины в крестьянском социуме 575
Заключение 589
Список сокращений 597
Список источников и литературы 598
- Лиминальность девичьего подросткового возраста и воспитание в девочках приемлемости традиционного тендерного контракта
- Репродуктивное поведение русских крестьянок в период эрозии традиционного тендерного контракта
- Вопрос о праве и практиках развода в крестьянской семье. Социальное положение разведенных женщин
- Восприятие книжности женщинами-крестьянками. Образование и просвещение
Лиминальность девичьего подросткового возраста и воспитание в девочках приемлемости традиционного тендерного контракта
Поясним подробнее, что дает каждый из этих подходов в исследовании данной темы. Ориентация на тендерный подход предполагает соответствующую эпистемологическую базу исследования - синтез и обобщение исследований женской истории, тендерной этнологии и антропологии, истории повседневности. Крестьянская культура, которая может казаться примитивной, в действительности демонстрирует глубину и сложность. Еще древнерусская культура была неразрывна от нравственных принципов. Человек чувствовал себя частью природы. Не случайно в восточном, «красном» углу крестьянской избы вешались иконы - на стороне солнца, изба была храмом. Нравственный смысл придавался земле-кормилице: «Мать сыра земля!», к ней относились как к святыне. Повсеместно почитали рощи и деревья, источники - колодцы и родники {Лихачев 2000: 101]. Традиционно-мифологические представления выглядят непривычно, а порой парадоксально. Однако их примитивность только кажущаяся, эти представления успешно справились с непростой задачей формирования крестьянского цельного мировоззрения. Для нашего современного общества крестьянская культура не является чужеродной системой, с этой культурой мы соединены многообразными связями. Крестьянской культуре не была чужда доброта и альтруизм, бескорыстие и милосердие, смирение и любовь к ближнему. В то же время в крестьянской культуре парадоксальным образом сосуществуют полярные противоположности, сочетающие возвышенное и низменное, небесное и земное, духовное и грубо телесное, мрачное, жестокое и комичное. Это уже «иное», другая культура, с другими представлениями и ценностями, уже отошедшая в прошлое, и в то же время с нами тесно связанная.
Для комплексного исследования жизни крестьянки и изменений этой жизни под воздействием процессов модернизации главным инструментом является рассмотрение сферы повседневности. История повседневности, к которой в последнее время все чаще обращается современная наука, позволяет исследовать вопросы, не только лежащие на поверхности «общественного бытия», но и раскрыть глубины народной жизни. В центре внимания истории повседневности - реальность, которая представляет для людей целостный жизненный мир. Возникновение истории повседневности как самостоятельной области изучения прошлого представляет одну из составляющих историко-антропологического поворота, начавшегося в 1960-е гг. [Пушкарева 2002: 36]. Исторические исследования настолько сложны, что их невозможно свести к одному способу описания, к одному определению, одному видению. Вспомним слова Ф. Броделя: «Мне остается оправдать последний выбор: ни более, ни менее как включение в сферу исторического изучения повседневной жизни. Было ли это полезно? Необходимо? Ведь повседневная жизнь - это мелкие факты, едва заметные во времени и в пространстве. Чем более сужаете вы поле наблюдения, тем больше у вас шансов очутиться в окружении материальной жизни: круги большого радиуса обычно соответствуют «большой» истории, торговле на далекие расстояния, сети национальных или городских экономик. Когда же вы сужаете наблюдаемое время до малых промежутков, то получается либо какое-либо событие, либо какой-то факт. Событие должно быть уникально и полагать себя единственным; какой-либо факт повторяется и, повторяясь, обретает всеобщий характер или, еще лучше, становится структурой. Он распространяется на всех уровнях общества, характеризует его образ существования и образ действий, бесконечно их увековечивая. Иной раз бывает несколько забавных историй, для того чтобы разом высветить и показать образ жизни. ... Так ли это неважно? Из маленьких происшествий, из путевых заметок вырисовывается общество. И никогда не бывает безразлично, каким образом на разных его уровнях едят, одеваются, обставляют жилище. Эти «мимолетности» к тому же фиксируют от общества к обществу контрасты и несходства вовсе не поверхностные. Воссоздавать такие картинки -увлекательная игра, и я не считаю его пустым занятием» [Броделъ 1986: 39-40]. По словам Г. Потанина, для этнографа единичные случаи и исключения дают для сравнения такой же интересный материал, как и общие случаи [Потанин 1899: 182]. Иногда несколько фактов могут высветить и помочь понять образ жизни. Отдельные конкретные факты позволяют видеть ситуацию не с точки зрения стороннего наблюдателя, а в какой-то степени дают возможность прикоснуться к личностному восприятию, посмотреть на явления глазами людей, живших в ту эпоху. В этом ценность изучения обыденной жизни. По словам Ю.М. Лотмана, «Подлинная история совершается в частной жизни» [Лотман 2010в: 341]. Дать увидеть - так же важно, как дать понять.
К Ф. Брод елю восходит идея о двух уровнях структур в обществе: материальной жизни и структур повседневности. С последней связаны самые разнообразные сферы обычной, повседневной жизни: питание, одежда, жилище, ритуалы, лечение болезней, трудовая деятельность и т.д. Историческая наука должна охватывать все стороны жизни человека и общества. Такой глобальный взгляд возможен лишь при комплексном изучении отношений между людьми, их поступков, норм и ценностей, форм и институтов брака, семьи, религиозных культов, политической организации, бытовой психологии. Повседневная обыденная жизнь своеобразным путем аккумулирует все стороны бытия человека и общества. Главное различие между этнографическим изучением быта и историей повседневности заключается в понимании событийной истории. Не просто описание материальной среды обитания, переживаний отдельных людей, а анализ того, как решаются жизненные проблемы, почему возможны происходившие коллизии и девиации. Изучение повседневности не просто фиксирует бытовые детали, но способствует выяснению механизмов появления новаций в укорененных и привычных структурах, влияния индивидуального восприятия на индивидуальную обыденную жизнь, в том числе и жизнь в сложившейся общественно-политической системе [Пушкарева 2004а: 10-11]. Отметим еще следующее. Воссоздание при исторических исследованиях событий прошлого неизбежно выстраивает их в линейную структуру в соответствии с течением времени. Изучение истории повседневности способствует обретению такой структурой многомерности, объемности, выявлению связей, отношений, особенностей, которые иначе могли остаться незамеченными. Исследования явлений повседневной жизни крестьянской женщины имеют особую важность еще и потому, что в ней преломляются бытовые, ритуальные, мировоззренческие, этические, правовые, поведенческие аспекты, что позволяет под особым ракурсом осветить жизнь крестьянской семьи и крестьянского социума.
Изучение повседневности женщин-крестьянок, выявление сложнейшей динамики, многообразия факторов, на первый взгляд могущих казаться мелкими и незначительными, дает возможность достичь большей «степени разрешения». Показательны в этом отношении слова Р. Коллингвуда. Он задавался вопросом о том, можно ли написать историю так, какой она была в действительности, «на самом деле»? И отвечал, что это было бы возможно, если бы мы могли проникнуться мыслями и чувствами тысяч и миллионов людей, живших в описываемую эпоху {Лебедев 1996:142]. Конечно, такая сверхзадача никогда не может быть решена, но любое к ней приближение увеличит возможность не только добавить отдельные фрагменты, но и объемнее представить всю картину в целом.
История повседневности находится в русле тех же идей. Биение пульса повседневной жизни, специфическое, индивидуальное дает возможность выявить то, что было присуще женщинам-крестьянкам того времени. Это слой действительности с ее многообразием и переменчивостью. Очерченный в единичном примере фрагмент конкретной человеческой жизни может быть ничем не примечателен. Но в период ломки социально-экономических отношений при отслеживании в динамике изменений мироощущения отдельных людей, индивидуальных мотиваций выявляются новые сформировавшиеся социальные типы и новые стереотипы поведения, как это произошло в пореформенную эпоху. Через призму повседневной жизни крестьянки, рассмотрение ее чаяний, надежд и разочарований, стремлений, погружения в ее внутренний мир можно понять умонастроения, ощутить атмосферу, почувствовать «аромат» той эпохи. Именно в явлениях повседневной жизни преобладают нюансы и полутона, которые являются гораздо более значимыми в гуманитарном исследовании, нежели жесткие схемы [Кон 1993: 3].
В центре исследовательского внимания - обыденный житейский уклад, история женской повседневности, акцентирующая внимание не просто на быте, а на стоящих за ним жизненных проблемах и их осмыслении представительницами крестьянского сословия ушедших веков.
Репродуктивное поведение русских крестьянок в период эрозии традиционного тендерного контракта
Несоблюдение закона о брачном возрасте стали рассматривать как наказуемое деяние: «Нарушение запрещений постановленных в прошедших статьях относительно браков, от брачных дел возникающие, подлежат суду духовному, или светскому» (Ст. 24) [Свод законов 1857: 5]. «Не вызревшей рябинушки нельзя заломать, не выросшей девушки нельзя замуж взять» [Смирнов 1877: 119-120]. В случаях нарушения брачного законодательства (когда жениху не исполнилось 18, а невесте 16 лет) жених и невеста, их родители, опекуны, родственники должны были наказываться тюремным заключением на срок от 2 до 4 месяцев или подвергаться аресту от 3 недель до 3 месяцев (Ст. 1563) [Уложение о наказаниях 1892: 632]. Возможно, в связи с этим наказанием участились обращения родителей жениха или невесты в Священный Синод разрешить ранний брак (см.: например, [РГИА. Ф. 796. Оп. 178. (2 ст., IV отд.). Д. 3914]).
Следует отметить, что в отдельных местностях возраст вступления в брак допускал вариации, которые были присущи только той или иной локальной традиции [Бернштам 1988: 42]. Если в ряде земледельческих районов (Калужская, Воронежская, Курская, Рязанская и др. губернии) крестьянские девушки выходили замуж в 16-18 лет [АРГО. Р. 19. Оп. 1. Д. 40. Л. 1; Веретенников 1898: 31; Русские 2008: 380], то в северных и центральных губерниях - в более старшем возрасте. Например, в Череповецком уезде Вологодской губернии в возрасте до 20 лет в брак вступило лишь 16.1% крестьянских девушек, а от 20 до 25 лет - 48.2 %. Примерно так же распределился возраст девушек, вступивших в брак, и в Московской губернии: до 20 лет - 31.9% крестьянских девушек, в 20-25 лет - 43% [Афиногенов 1903: 31]. Так, например, в Ростовском уезде Ярославской губ. Брачный возраст жениха составлял 18-19 лет («к женихам подходит»), невесты 17-18 лет («к невестам подходит») [Титов 1888: 33]; а на Вятке (Рязанская губ.) средний возраст соответственно составлял 18-20 и 16-19 лет [Севастьянова 2005: 143]. По обычному праву для мужчин допускалось вступление в брак до 70 лет, для женщин - до 40, считалось, что при нарушении этого будут глумиться и смеяться [Соколовский 1889: 2]. В законодательстве был указан и максимальный возраст для вступления в брак: «Запрещается вступать в брак лицу, имеющему более восьмидесяти лет от роду» (Ст. 4) [Свод законов 1857: 2]. Крестьяне считали допустимым брак мужчин «не старее» 60 лет, женщин - 40-50 [РКЖБН 1: 466; 2.2: 151; 3: 205; 6: 479]. Характерным стало увеличение диапазона оптимального возраста вступления в брак русских крестьянок. Еще недавно девушкам, которым было за 20 лет, нередко доставались лишь мужья-вдовцы. В конце ХГХ в. возраст девушек, выходящих замуж, составлял 16-25 лет, причем оптимум начинал смещаться к 20-25 годам [Семенова-Тян-Шанская 2010: 28; РКЖБН 7.1: 197]. Процессы сближения брачного возраста мужчин и женщин в рассматриваемый нами период были характерны и для русского крестьянского населения других российских регионов, например Сибири [Зверев 1985: 86]. Но за 25-летнюю девушку сватались обычно уже вдовцы [РКЖБН 2.2: 349; 3: 204, 310; Всеволожская 1895: 5].
В пореформенный период брачный возраст стал составлять в среднем для девушек 21 год, а для юношей - 24 года, ощутимо проявлялось стремление избегать ранней женитьбы [Покровский 1896: 460]. Так, в с. Борисоглебском (Пошехонский уезд Ярославской губ.) мужчины, женившиеся в возрасте не старше 21 года, в 1865 г. составляли 50%, а в 1888 г. составили всего 26% [Балов 18976: 59]. Тенденция к повышению брачного возраста в пореформенный период была связана, с одной стороны, с развитием в деревне товарно-денежных отношений, с другой - введением в 1874 г. всеобщей воинской повинности, согласно которой все пригодные к воинской службе мужчины по достижении 21 года обязаны были пройти действительную службу в течение 3-6 лет [Дурденевский 1915: 50-54]. Стало обычным, когда женитьба происходила после возвращения со службы. Если в одном из приходов Владимирской губернии в 1868-1874 гг. средний возраст женихов составлял 21 год, то в 1875-1880 гг. он повысился до 24.5 лет. На возраст невест указанный фактор не повлиял [Beсин 1891а: 65].
Мотивация ранних браков со стороны семьи жениха была ясной - стремление получить еще одну работницу. А вот семью невесты обуревали противоречивые чувства. С одной стороны, родителям не хотелось терять дочь-работницу, с другой - была боязнь «греха», т.е. добрачных связей дочери, ведь тогда на семью ляжет позор и выход дочери замуж станет проблематичным. Сама девушка не питала иллюзий о будущей жизни в семье мужа, но при отказе могла потерять хорошего парня и возрастал риск засидеться в девках. Так, отец выговаривал своей дочери, только что возвратившейся из соседней деревни: «Позабудешь у меня к купцу ходить под окно. Завтра же замуж отдам, завтра же! Он те орехами там подчивать, - ты на эфто не гляди: с орехов-то девки родят. Завтра же замуж отдам! Мужику-то он бы поднес - так нет! А девок приучил - хворостиной не прогонишь, завтра же замуж отдам!» [А.В.П. 1882: 9].
В начале XX в. ранние браки уже становились редкостью [РКЖБН 2.2: 257; 5.4: 199]. Например, в Вологодской губернии средний возраст крестьянской девушки при вступлении в брак составлял 22-25 лет [РКЖБН 5.1: 518; 5.2: 727; Синкевич 1929: 31]. Причинами значительно сократившихся, но все еще сохранявшихся ранних браков были, по сообщениям информаторов Этнографического бюро: «чисто хозяйственные соображения», чтобы парни «не взболтались до солдатчины» или в солдатах не остались жить в местах своей военной службы, женившись «на какой-либо горожанке, вовсе не способной к физическому сельскохозяйственному труду барыньке»; девушек старались пораньше выдать замуж, «чтобы подобный товар не залежался и не стал портиться» (Калужская губ.) [РКЖБН 3: 308]. В то же время нередкими были ситуации, когда единственную дочь родители не спешили выдавать замуж, говоря: «успеешь нажитце в чужой семье» [РКЖБН 6: 357].
В крестьянском обществе считалось предпочтительным, чтобы жених и невеста были ровесниками - «ровня», или невеста моложе на 2-3 года [РКЖБН 1: 466; 3: 308; 5.2: 317; 7.1: 197, 284; 7.2: 327, 345]. Старшинство невесты над женихом считалось позорным (Волховский уезд Орловской губ.) [Гура 2012: 29]. «Невеста "обижается", - пишет О. Семенова-Тян-Шанская, - если жених ее старше года на четыре-пять: "Помрет ране меня"» [Семенова-Тян-Шанская 2010: 117]. Девушки боялись рано остаться вдовами. Так, по Курской губернии в 1897 г. на вдовых приходилось 20,60% женщин, тогда как среди мужчин этот показатель составлял только 5,15%, в возрастной же группе от 20 до 40 лет эти показатели были соответственно 5,8% и 1,9% [Первая всеобщая... Курская губ.: 11]. Отмечено немало случаев, когда невеста была старше жениха на несколько лет [РКЖБН 2.2: 257, 349; 3: 308, 430; 5.4: 199]. Подобные браки, видимо, диктовались насущными хозяйственными потребностями в женщинах-работницах.
Имели место случаи заключения брака между молодыми девушками и пожилыми мужчинами, часто вдовцами [РКЖБН 3: 86, 314; 4: 227; 7.2: 328, 345-346; 7.4: 192; 7.2: 345, 346]. В крестьянской среде имело место и обратная ситуация - немолодые женщины выходили за молодых мужчин [РКЖБН 2.1: 409; 4: 227; 5.2: 317]. Неравные браки с большой разницей в возрасте заключались не так часто и по традиционным воззрениям осуждались. В целом отношение к возрастным критериям в браке могло сильно варьироваться в зависимости от экономических и региональных факторов. Тема брачного возраста получила отражение в фольклоре: «За старым жить - только век должить; за малым жить - только маяться; за ровней жить - тешиться»; «За молодым жить весело, а за старым хорошо», «Старого мужа соломкой прикрою, молодого сама отогрею» [Даль 19846: 214].
Препятствием к браку могло быть растущее в пореформенный период различие в социальном положении, «Зять любит взять». Аскриптивные возрастные свойства или возрастные стереотипы призваны отражать качества индивидов и одновременно служат им ценностными ориентирами, образцами, которым стараются следовать [Кон 1981а: 102]. При присущим крестьянскому сознанию уравнительным тенденциям, как правило, преобладали имущественно равные браки, характерные для дореформенного периода [Пушкарева 1997: 167]. Но в пореформенный период стали меняться традиционные представления о браке, происходило усиление избирательности брака. Менялись ценностные ориентации, в брачных вопросах наметилась, пока еще слабая, тенденция перехода от брака по расчету или принуждению к браку по личной склонности, больше стали прислушиваться к велению сердца. Ослабление внешнего социального контроля давало для молодежи большую свободу личного выбора. Молодое поколение могло вести себя не так, как их отцы и деды, его поведение нередко шло вразрез со сложившимися традиционными канонами о браке. «Что лучше, чтобы невеста была красивая или работящая?» - «Да для кого как. Вон Карамай женился, так про Душку Пальцеву говорил: "Что за баба будет? И выйти на народ не с чем. Мне надо такую, чтобы показать было что". А вот Васька Полянский, тот говорит: "Мне нужно хозяйку: красоту-то не лизать, с хорошей наживешь, а с плохой что и есть проживешь"» [РКЖБН 1: 57]. Неравные браки стали обычным явлением, нередко богатые парни женились на бедных, но красивых девушках, а бедные молодые парни на богатых некрасивых невестах, которые часто были старше их по возрасту [РКЖБН 2.1: 409; 5.2: 144, 727; 5.3: 389]. Хотя такой брак для богатого жениха мог выглядеть «бесчестьем и уроном своего достоинства» (Калужская губ.) [РКЖБН 3: 310; 5.2: 319]. «Один богатый, а другой бедный, то значит нам не ровня, и всяко поносят родные богатых семейств бедную семью» [Колобов 1915: 26].
Вопрос о праве и практиках развода в крестьянской семье. Социальное положение разведенных женщин
Отношение к плодоизгнанию и детоубийству в крестьянском обществе и официальном законодательстве. По воззрениям православной религии брак являлся таинством, освященное Богом, и на главном месте стояло производство потомства. Всякие попытки избежать или прервать нежелательную беременность церковь рассматривала как тяжкий грех, за который на женщин накладывались суровые наказания, плодоизгнание приравнивалось к убийству. Наряду с матерью ответственность за грех убийства нерожденного ребенка нес и отец, если он дал согласие на производство аборта. Произведенный аборт без согласия мужа мог служить основанием для расторжения брака. Грех ложился и на того, кто произвел аборт. Согласно 91-му правилу VI-го Вселенского собора "и дающая и принимающая детоубийственныя отравы причисляются к вольным убийцам". Исповедникам надлежало каждый раз подробно выспрашивать у прихожанок, "[с]колико убили в собе детей" [Пушкарева 1996: 172]. В духовных христианских книгах плодоизгнание причисляется к грехам, которым "нет покаяния", т.е. это был такой грех, который нельзя было простить. В качестве наказания назначались епитимьи от 5 до 15 лет, штрафы, иногда отлучали от церкви. В русле церковных воззрений в целом находились и традиционные крестьянские представления, касающиеся вопросов плодоизгнания и контрацепции.
Указанный подход к данным вопросам подкреплялся и официальным законодательством Российской империи. Плодоизгнание допускалось лишь по медицинским показаниям, когда роды ставили под угрозу жизнь и здоровье женщины. Во всех остальных случаях плодоизгнание относили к преступным деяниям. По Уложению о наказаниях 1885 г. плодоизгнание стояло в одном ряду с детоубийством, виновные в этом лишались всех прав состояния и подлежали ссылке в отдаленнейшие места Сибири или на каторжные работы сроком от 4 до 10 лет (Ст. 1461-1463) [Уложение о наказаниях 1892: 573]. По новому и последнему в истории Российской империи уголовному кодексу 1903 г. наказания были несколько смягчены. Но все равно плодоизгнание было оставлено в разделе "Убийство" и за него мать, "виновная в умерщвлении своего плода, наказывалась заключением в исправительном доме на срок не свыше трех лет. Виновный в умерщвлении плода беременной женщины наказывается заключением в исправительном доме" (Статья 465). Если это был врач или повивальная бабка, то еще следовал запрет на практику от одного до пяти лет с опубликованием приговора [Таганцев 1904: 627].
В условиях несвободы и регламентации жизни не только крестьянства, но и российского общества в целом, ущемления прав женщин, когда имелись жесткие предписания, что им позволено и что не позволено, отношение к абортам и контрацепции и не могло быть иным. Эти вопросы самым тесным образом были связаны с социальным положением женщины. Ее место определялось экономической ролью в крестьянском хозяйстве, выполнением некоторых социальных функций и, самое главное, репродуктивной функцией. Но женщина как личность находилась далеко на заднем плане. Поэтому любые шаги, направленные к регулированию своей семьи, воспринимались как покушения на существующие порядки. Заметим, что Россия не была одинока по отношению к рассматриваемым проблемам. Аборты преследовались и на либеральном Западе - в странах Европы и Северной Америки.
Статистические данные по абортам являются очень скудными, но все же попытаемся оценить масштаб явления. По данным А.В. Грегори, за 1885-1904 гг. по Варшавской губернии было заведено 47 дел по плодоизгнанию, к ответственности было привлечено 80 человек, 36 дел было прекращено, 11 доведены до суда, в трех случаях был вынесен обвинительный приговор [Грегори 1908: 1]. В.Г. Линденберг ссылается на материалы Витебского окружного суда за 1897-1906 гг., согласно которым за аборты было заведено 6 дел, все они были прекращены за недоказанностью преступления. Приблизительно только в одном из 1000 случаев дело доходило до суда. За 1892-1905 гг. обвинялось от 10 до 33 человек в год, осуждалось от 3 до 17 человек {Линденберг 1910: 63, 65]. По России в этот период за аборты было осуждено 92 человека, из которых 21 мужчина и 71 женщина. Не должно вызывать удивления небольшое число заведенных дел и несоизмеримо малое число осужденных. Круг посвященных был очень узок, он ограничивался повитухами и врачами, самими женщинами и, может быть, кем-то из близких и подруг. Ясно, что старались избежать огласки, и от самого преступления не было пострадавших. Косвенные представления о масштабе явления может дать статистика о числе внебрачных детей. В 1901-1905 гг. на 100 тыс. жителей приходилось 0.1 - 0.24 обвиняемых по делам об абортах. В сельской местности имелось около 3% внебрачных детей, в городах 5 - 7.6% {Линденберг 1910: 26]. Причем надо учитывать, что значительная их часть в городах была детьми крестьянок {Ransel 1978: 189-217]. Если население империи было приблизительно 150 млн. человек, а по делам об абортах ежегодно обвинялось 200 - 300 человек, то принимая во внимание приведенную оценку, согласно которой до обвинения доходило одно дело из тысячи, можно экстраполировать число абортов 100 - 150 тыс. в год. Это согласуется с оценкой Б.Н. Миронова - к 1910 г. более 125 тыс. женщин делали аборты или применяли противозачаточные средства {Миронов 2000а: 183]. Рождаемость в 1908 г. составляла 44.1 на 1 тыс. жителей {Рубакин 1912: 47]. Тогда получаем, что количество абортов составляло около 170 тыс. в год. Все три оценки дают величину одного порядка, которую можно считать достаточно обоснованной. и при недонесении о такой просьбе (Ст. 878, 879) [Уложение о наказаниях 1892: 396].
Но отношение к плодоизгнанию («заморение зародыша») было не столь однозначным [Мухина 20126: 149]. Обратимся к сообщениям информаторов Этнографического бюро: «осуждают подобный грех только строгой жизни люди»; «Изгнание плода, сравнительно с детоубийством, во взгляде народном считается менее важным преступлением, потому что в плоде не заключается той совершенной жизни, какая находится в ребенке, произведенном уже на свет и одушевленном, поэтому к плодоизгнательнице относятся довольно снисходительно или, вернее, неопределенно» (Калужский уезд Калужской губ.) [РКЖБН 3: 331]; «Тут настоящего ребенка еще нет, ...есть только зародыш. Все едино как яйцо или рыбья икра, и потому тут убийства нет, а есть только деторастление» (Ростовский уезд Ярославской губ.) [РКЖБН 2.2: 383]; это преступление, но «меньшее, чем убийство живого дитя, потому что в этом случае "христианская душенька загублена"» [РКЖБН 5.4: 219]. Как отмечает Т.А. Листова, в народном понимании представление о душе, как о необходимом условии зарождения жизни и ее продолжения после смерти, являлось основным и определяющим смыслом человеческого существования {Листова 2002: 102]. Не только настроения либеральной интеллигенции, но и неоднородность в самой крестьянской среде по отношению к абортам способствовали вызреванию представлений о необходимости легализации абортов.
Восприятие книжности женщинами-крестьянками. Образование и просвещение
Старым женщинам отводилась одна из центральных ролей в ритуальных действиях, связанных со свадьбой и похоронами [РКЖБН 1: 102; РКЖБН 2.2: 214, 390; РКЖБН 3: 312-313; РКЖБН 4: 255-259; РКЖБН 5.4: 206-208; РКЖБН 6: 76]. Когда хотели женить сына, после того как была выбрана подходящая невеста, посылали за какой-нибудь родственницей-старухой, чаще всего за теткой жениха, и упрашивали ее быть свахой, при этом ее потчевали и ублажали до предела. Она обычно давала согласие и на следующий день, принарядившись, отправлялась в дом невесты (Елатомский уезд Тамбовской губ.) [Звонков 18896: 36].
В определенном смысле можно говорить о субкультуре старух. Данная социовозрастная группа осознавала себя как отдельное сообщество, отличное от других социовозрастных групп. Группа «старухи» утверждала себя в качестве некоего надзирающего и контролирующего субъекта крестьянского социума. Старухи принимали самое деятельное участие в формировании деревенского «общественного» мнения и распространении новостей. Приведем характерный пример. Старуха Мосевна вмешалась в разговор женщин и посвятила их во все тайны деревни. Она скоро убедила их, что Надежда «скопытилась», что, когда муж приедет, то «рыло он ей сколотит». «"Надежда! Чего напаратилась? Аль к купцу в крали пошла?" - крикнула Мосевна. - "В том худа нет, что добрые люди любят, а не костят, как тебя, старую ведьму! Поди до заутрени, ровно домовой, всех кур выщупала" - ответила хладнокровно Надежда. Бабий круг был ужасно доволен этой травлей и хохотал. - "Надо правду сказать: Надежда ноне скопытилась. Народ, вон бает, мне что: мне Господь с ней!" - подожгла Мосевна. - Матвеевна (бабушка Надежды) не вытерпела: "Да чего ты, чапельник ты старый, брешешь, что брешешь! Ведь в землю глядишь, а все людей позоришь! Скоро стащат, старую, на погост, а она все брешет, - ровно пес цепной, прости Господи! Ну, пошто бабенку загоняли? Чем она вам не угодила? - сама ты, кочерга безногая!" - "Она те двойню принесет, в ту пору и миру в ножки поклонишься. Да не ровен час - опоздаешь!" - "Пускай двойню принесет! К суседу не пойду: сама вырощу! Не поклонюсь! С сумой не пойду, не поклонюсь!"» [А.В.П. 1882: 20-21, 24].
Как отмечает А.А. Панченко, «С некоторой долей условности можно утверждать, что в крестьянской традиции старость воспринималась, прежде всего, как период ожидания смерти и подготовки к ней» [Панченко 2005: 2/8]. В крестьянской среде смерть воспринималась как неизбежное событие и к ней готовились заранее. Об этом свидетельствует, например, одежда, которую специально готовили для похорон повсеместно [Маслова 1984: 85; Кремлева 2005: 520-521]. Исследователь писем русских крестьян О.Б. Иокояма пишет об одной из представительниц этой социовозрастной группы из богатой крестьянской семьи, что «она давно уже готовилась к смертному часу, откладывая деньги, на которые были проведены похороны и заказан сорокоуст (ежедневное молитвенное поминание в течение сорока дней), а оставшаяся сумма, по ее завещанию, была послана на Афон» {Иокояма 2014. 2: 404]. Обычай подготовки к смерти сохраняется среди женщин старшего поколения и в настоящее время.
Консерватизм был характерной чертой крестьянских женщин. У старых крестьянок он мог принимать крайние формы. Когда в 1899 г. для оказания помощи пострадавшим от неурожая губерниям создавались ясли-приюты, наиболее враждебную позицию заняли старухи: «Мы жили и детей носили, и жать ходили, да обходились без нянек, а нынче что это? Одно баловство, баба только изленится». Все же такое отношение было не у всех, часть старух отнеслись к новому делу более благожелательно и, несмотря на свой консерватизм, трудность пересмотреть веками сложившиеся понятия, они работали в яслях нянями, в той или иной степени успешно справляясь с детьми [Ганзен 1900а: 122, 134-135].
Крестьянское общество естественным образом разделялось по полу, а затем по социовозрастным группам. Каждая группа была в значительной степени однородной и во всех отношениях жестко регламентированной. Допускалась лишь небольшая подвижность по отдельным направлениям. Женщины, которые в силу жизненных обстоятельств выпадали из общего порядка (старухи, вдовы, сироты, старые девы и др.), образовывали самостоятельные группы. Такие группы по отдельным позициям были социально неполноценными. Но эти группы входили в традиционное общество максимально согласованным образом, устанавливались такие связи и отношения, которые были призваны не нарушать, а сохранять и укреплять сложившийся уклад жизни.
Знахарки и колдуньи. Очень своеобразным слоем русской деревни были знахарки и колдуньи, причем не всегда можно было провести различительную черту между ними. В словаре В.И. Даля к колдовству отнесена способность ворожить и гадать [Даль 1979: 135], а знахарка - лекарка, ворожея, колдунья, шептунья, кто портит и правит людей [Даль 1978: 689]. Эти понятия часто означали одно и то же, были синонимами, как, например, в Ростовском уезде Ярославской губернии. В любом случае обе эти категории женщин в народном сознании представлялись связанными с потусторонним миром и нечистой силой, поэтому неудивительно, что колдовство и знахарство вызывало страх и в то же время уважение и почитание. Колдовством занимались мужчины и женщины, колдуны и колдуньи пользовались сходными приемами [Титов 1888: 113; АИЭА РАН. Ф. 22. Оп. Д. 142. Л. 3]. К этому ряду еще примыкают кликуши, эта группа подробно рассмотрена в книге К.Уоробек [Worobec 2003], поэтому кликуш не будем касаться. В колдовской и знахарской практике для борьбы со злыми силами использовали разного рода травы и соответствующие средства, которым придавались сверхъестественные свойства: заговоры, заклятия, привороты, отвороты и т.п. Все эти порождения народной фантазии, не лишенные поэзии и сохранившие остатки старинных преданий, пускались в ход против дьявола, злого человека, разных болезней [Нефедов 1877: 50]. Главным образом знахарством занимались женщины, мужчин-знахарей было гораздо меньше [И-ва 1884: 58]. Знахари и знахарки являлись главными лекарями деревни, они всегда были «под боком» и от них ожидали помощи [Столяров 1989: 338]. Сельских фельдшеров и врачей в деревне нередко воспринимали иронически. Причина заключалась не только в их действительных недостатках, а еще в распространенном суеверии, что все фельдшеры и врачи слуги Антихриста. В крестьянском мировосприятии болезни посылались от Бога, а раз так, только Он один, если на то будет Его воля, может излечить ее. Такое не дано какому-нибудь лекарю, грешному, как и все люди. Иное дело знахари и знахарки, связанные с потусторонним миром и наделенные невидимой силой. Поэтому их заговоры целебны от порчи, сглаза, всяких болезней и напастей. А лекари -«разорители, куроеды и трупорезы» (Казанская губ.) [Можаровский 1877: 114-115]. В пореформенный период, хотя медленно и с большим трудом, такие представления стали уходить в прошлое. По сообщению некоторых информаторов, настоящие знахарки к началу XX в. стали редкостью, вымирающим элементом [Шингарев 2010: 142]. Приведенные утверждения следует воспринимать лишь как тенденцию, без знахарок невозможно представить жизнь русской деревни того времени, они были постоянно присутствующим компонентом ее обыденной жизни. Так, знахарка Аксинья лечила крестьян своей деревни и окрестных деревень. Если больному становилось легче, получала плату натурой. На свои заработки содержала пьяницу-мужа и детей, еще побиралась по околотку. Надо заметить, что в деревне, где жила Аксинья, нищенство было своего рода промыслом [Богаевский 18896: 101]. Знахарки при лечении нередко использовали самые дикие, с позиций медицины, средства. К примеру, голову золотушного ребенка могли обмазать раствором зеленого купороса в сметане. Вследствие невежественного лечения даже вначале легко протекавшие болезни переходили в неизлечимые (Нижегородская губ.) [Кудрявцев 1877: 90; Гиляровский 1878: 153]. Наиболее многочисленными пациентами знахарок были грудные дети. Заговоры, умывания с уголька, если и не приносили прямого вреда, то оттягивали получение настоящей медицинской помощи [Шингарев 2010: 142]. В Елатомском уезде, одном из самых глухих уголков Тамбовской губернии, при болезни обычно перепробовали все суеверные средства, затем обращались к колдунам и знахарям (обоего пола), после этого уже шли к попу - причащать больных [Звонков 1889а: 64]. Считалось, что знахарки водой, «наговоренной» на горячих углях, лечат от разных болезней, наговоренной шерстяной ниткой вправляют вывихи, владеют приворотными и отворотными средствами [Балов 1897: 70; Столяров 1989: 338-339], могут гадать о здоровье, о кражах и разных несчастьях [Балов 1898: 80], могут лечить особый вид порчи, который напускался на молодых - неспособность мужа к супружеским обязанностям («нестоиха»). Неспособность объяснялась колдовством: злой враг околдовал молодых, когда они шли из церкви, стояли в дверях или находились на брачной постели. Здесь прослеживается своя логика: иррациональные причины болезни или несчастья соответственно требуют для их устранения средства того же иррационального, магического ряда. Эту болезнь знахарки лечили нашептыванием. При этом интересы знахарки оказывались вполне рациональными, земными, лечение обходилось недешево, знахарка брала за него 1-2 пуда муки [Костоловский 1901: 131; Бондаренко 1890в: 10]. Среди пациенток знахарок свое место занимали женщины, не желавшие больше иметь детей, для этой цели пускались в ход и магические средства. Вот пример такого действия, направленного на предохранение от новой беременности. После менструации женщина отдавала знахарке свою рубашку, та ее стирала, воду с наговором сливала в бутылку, которую прятала в темное место. Теперь женщина, отдавшая знахарке рубашку, могла быть спокойна. Но при необходимости ситуация была обратимой, если женщина хотела опять рожать, бутылку извлекали и выливали воду (Сердобский уезд Саратовской губ.) [Смирнова 1911:252].