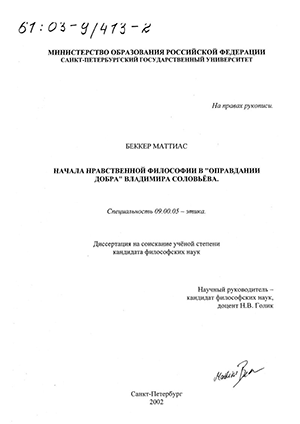Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. B.C. Соловьев и вопрос о свободе воли 17
1. Воля у Соловьева и Канта
2. Введение Соловьевым возможности абсолютного произвола
3. Поворот Соловьева как "коперниканский переворот" Канта
ГЛАВА 2. Стыд и аскетизм как основания единства человека в нравственной философии В. С. Соловьёва 40
1. Структура чувства стыда. Чувство стыда как различённость чувства (чувственности) и действия (действительности)
2. Чувство стыда как нравственное самосознание
3. Чувство стыда как факт действительности
4. Подлинный и мнимый нравственный аскетизм
5. Аскетизм как единство чувственности и разума
ГЛАВА 3. Жалость и альтруизм как осуществление нравственной полноты человека в учении B.C. Соловьёва 63
1. Жалость как соединение чувства и разума
2. Жалость и воля человека
ГЛАВА 4. Противоположность блага и добра (критика Соловьевым отвлеченного эвдемонизма)... 78
1. Определение человека как человека, "желающего чего-то"
2. Критика благоразумного эвдемонизма
3. Различие между нравственным и эвдемонистическим аскетизмом
4. Критика утилитаризма
ГЛАВА 5. Отношение блага к добру как основное начало в нравственной философии В. С. Соловьёва 99
Заключение 115
Список литературы 1
- Введение Соловьевым возможности абсолютного произвола
- Чувство стыда как нравственное самосознание
- Жалость как соединение чувства и разума
- Критика благоразумного эвдемонизма
Введение Соловьевым возможности абсолютного произвола
Соловьев поставил вопрос о свободе воли уже во введении к "Оправданию добра". В этом введении он затронул проблемы, которые, согласно его пониманию, предваряют нравственную философию, поэтому он не включил их в свою этическую теорию. Следует заметить, что у Соловьева в окончательном варианте труда "Оправдание добра" предлагаются разные варианты введений, ибо перед введением еще стоят предисловия первого и второго изданий, из которых особенно второму, названному "Нравственный смысл жизни в его предварительном понятии", можно приписать характер введения. Настоящее введение же носит заглавие "Нравственная философия как самостоятельная наука". Это такого рода введение, в котором Соловьев рассматривает проблемы, решения которых уже излагались в разных системах этики, но в понимании Соловьева приведенные проблемы не принадлежат к собственно нравственной философии. Однако нравственная философия предполагает эти проблемы, характеризующие разные степени приближения к настоящей, нравственной философии. Последней проблемой, которая представляет собой переход к нравственной философии, т.е. к первой главе "Оправдания добра", является вопрос о свободе воли, касающийся основного положения этики Канта, которого Соловьев считал самым важным предшественником своей нравственной философии.
О характере таких предварительных проблем нравственной философии надо добавить то, что они имеют раздвоенный характер, потому что, с одной стороны, они затрагивают действительные проблемы разных этических теорий, несмотря на то, что они не оказываются важными для основной задачи нравственной философии, поставленной Соловьевым, а, с другой стороны, они исключены из "настоящей" нравственной философии и, таким образом, они рассматриваются в качестве мнимых проблем нравственной философии. Такая двойственность обостряется в случае последней проблемы введения, когда поставлен вопрос о свободе воли. Вопрос о свободе воли считается вопросом, связанным в истории этики с именем Канта, ибо возникновение и решение этого вопроса ведет в самый центр этики Канта. Соловьев же занимался этим вопросом необходимым после этики Канта только во введении. Двойственность отношения Соловьева к вопросу о свободе воли выражается также и в его общем отношении к Канту, которое полагается во втором предисловии и во введении. Свое общее отношение к Канту и к дальнейшим главным направлениям философии Соловьев обрисовал во втором предисловии таким образом:
"Основатель ее (нравственной философии, автор) как науки, Кант, остановился на первом существенном признаке абсолютного добра - его чистоте, требующей от человека формально-безусловной, или самозаконной, воли, свободной от всяких эмпирических примесей: чистое добро требует, чтобы его избирали только для него самого; всякая другая мотивация его недостойна. Не повторяя того, что хорошо изложено Кантом по вопросу о формальной чистоте доброй воли, я обратился в особенности ко второму существенному признаку добра - его всеединству, не отделяя его от двух других (как сделал Кант относительно первого), а прямо развивая разумно-мыслимое содержание всеединого добра из тех действительных нравственных данных, в которых оно заложено. Получилось, таким образом, не диалектические моменты отвлеченной идеи (как у Гегеля) и не эмпирические осложнения натуральных фактов (как у Герберта Спенсера), а полнота нравственных норм для всех основных практических отношений единичной и собирательной жизни. Только такою полнотою оправдывается добро в нашем сознании, только под условием этой полноты может оно осуществить для нас и свою чистоту, и свою непобедимую силу".9
Однако, затрагивая вопрос о свободе воли, Соловьев проводил четкую грань между этикой Канта и его пониманием свободы воли. Разграничение выражается в том, что он считал вопрос о свободе воли не важным, может быть, даже мнимым, но ещё и плохо поставленным Кантом:
"Очень распространен взгляд, что судьба нравственного сознания зависит от того или другого решения вопроса о свободе воли. Вопрос сводят к альтернативе: или наши действия свободны, или они необходимы - и затем утверждают, будто второе из этих двух решений, именно детерминизм, или учение о том, что все наши действия и состояния происходят с необходимостью, делает невозможною человеческую нравственность, и тем отнимают всякий смысл у нравственной философии. Если, говорят, человек есть только колесо в мировой машине, то о каких же нравственных деяниях может быть речь? Но вся сила такого аргумента заключается в неправильном смешении детерминизма механического с детерминизмом вообще - ошибка, от которой не свободен сам Кант".
Но эта необходимость, всегда себе равная в своем общем понятии, видоизменяется, однако, в различных областях своего проявления, и по трем главным видам необходимости (относительно явлений и действий) мы различаем и три вида детерминизма: 1) механический, который, если бы он был единственным, действительно исключил бы нравственность, как такую; 2) психологический, допускающий некоторые нравственные элементы, но плохо согласимый с другими, и 3) разумно-идейный, дающий место всем нравственным требованиям во всей их силе и в полном объеме".11
Итак, по Соловьеву вопрос о свободе воли решается не тем, чтобы признать или не признать свободу воли, а именно утверждением разных степеней этой свободы, соответствующих главным формам детерминизма. В труде "Оправдание добра" Соловьев еще раз противопоставил себя пониманию свободы воли у Канта и критиковал скудость чисто формального принципа:
"Чтобы наша воля была чистою, или (формально) самозаконною, она должна определяться исключительно уважением к нравственному долгу, - это ясно, как то, что А равно А. Но почему требуется вообще это А? На чем основано требование именно "чистой" воли? Если я хочу получить чистый водород из воды, то, конечно, я должен удалить из нее кислород. Но если я хочу пить или умываться, то мне именно чистого водорода совсем не нужно, а требуется только его определенное соединение с кислородом Н20, называемое водою. В Канте, без сомнения, следует признать Лавуазье нравственной философии. Его разложение нравственности на автономный и гетерономный элементы и формула нравственного закона представляют один из величайших успехов человеческого ума. Но ведь дело не может ограничиваться здесь одним научным интересом. Кант говорит о практическом разуме как безусловном принципе действительного человеческого поведения, и тут его утверждения похожи на то, как если бы химик стал требовать или считал возможным, чтобы люди употребляли вместо воды чистый водород".12
Проблема критики Канта Соловьевым состоит именно в том, что он различает вещи, которые у Канта взаимно обусловливаются. Таким образом, выражается двойственность критики Канта Соловьевым. Можно понимать ее как творческое стремление к преодолению недостатков этики Канта при сохранении ее достижений в истории практической философии. Однако общее направление критики Канта Соловьевым оказывается не совсем новым в философском мышлении после Канта13, но надо обратить внимание на особенные акценты его критики.
Чувство стыда как нравственное самосознание
Однако надо заметить, что только такой структурой, созданной чувством стыда, возникает, на деле, понятие нравственности, потому что этой структурой в чистой форме полагаются основные определения и понятия нравственной деятельности и их взаимоотношения. Этим задается вообще философский корень чувства стыда, выражающийся именно в основоположении нравственной структуры, включая в себя возникновение особенного положения действительности, к которой одновременно относится и не относится нравственная деятельность (или нравственная субъективность).
В этом отношении возникает вопрос о продолжительности чувства стыда, которое не только связано с моментом проявления чувства стыда, но и с определенной ситуацией, включая особенное отношение к половому акту. Можно даже сказать, что Соловьев создал чувство стыда, чтобы оно полностью соответствовало его чисто философскому намерению. Философское значение чувства стыда утверждается определением особенного положения данной действительности, полагая основоположение нравственной субъективности. Однако это основоположение нравственной субъективности чувством стыда связывалось с данностью времени, с данным пространством и с определенными условиями, а поэтому ограничивается в данной действительности и оказывается не абсолютным. Итак, чувством стыда полагается какая-то относительная нравственная основа, приводя свое самоограничение также определением особенной данной действительности. Из этого требуется выводить нравственное чувство в нравственный принцип аскетизма, чтобы преодолеть ограниченности времени и пространства данной действительности созданием самостоятельной самобытной нравственной действительности.
Но, с другой стороны, ограниченность чувства стыда остается в рамках его собственной структуры. С этим связано то, что связь с данной действительностью времени и пространства не упраздняется, так что с этой точки зрения возникает относительность общей, созданной чувством стыда философской структуры. Следовательно, из-за этой относительности возникает двойственность в понимании нравственной философии Соловьева, в которой, с одной стороны, в последовательности что-то доказывается, а, с другой стороны, из-за относительности в отношении к данной действительности что-то только предполагается. Но такая относительность действительности, включенная в структуру нравственной философии, учитывает, на самом деле, проблему практической философии, которая намеревается оказать влияние на действительность, данной только определенными условиями времени и пространства. Поэтому не исключается, что каждая нравственная структура не только утверждается в соответствии с логикой мышления, но и оправдывается или не оправдывается относительностью данной действительности. Как данной действительности не удовлетворяют заключения мысли, так ей, может быть, уже хватает данной нравственной структуры и вообще не требуются никакие обобщения мысли. В обоих случаях данная действительность отклоняет выводы практической философии, во-первых, из-за не тождества мышления и бытия, и во-вторых, из-за уже созданного тождества мышления и бытия. Вследствие этого требуется такая структура нравственной философии, которая доказывает что-то, но при этом рассчитывает на то, что она лишь предлагает это.
Также у Соловьева можно заметить двойственное отношение к этике Канта, ибо он не совсем не отклонял его. Проблема состоит в том, что возражения Соловьева в направлении кантовской этики и ее категорического императива, на самом деле, относится не только к тому, насколько действительно добро оказывается осуществляемым на основе применения категорического императива, но и к тому, насколько вообще считается необходимым то, что практическая философия поднимается на самый всеобщий уровень, чтобы она могла осуществляться в действительности. Иными словами, вопрос состоит в том, насколько в виду конкретности нравственной действительности осуществлению добра мешает то, что Кант определил всеобщую разумную основу. Несомненно, Соловьев в определенной мере был убежден в последовательности кантовских заключений и даже в их применимости, поэтому он только наполовину их отрицал и сохранил характер его предложений в своей нравственной философии, относительно оправданных с точки зрения истории философии и не отвергнутых в нравственной философии, а также применимых в данной действительности.
Чтобы излагать связь чувства стыда с нравственным принципом аскетизма, следует сначала подчеркнуть отличие чувство стыда от чувства жалости, что касается нравственной субъективности. При этом такое отличие относится еще и к тому, как Соловьев понимал сущность обоих нравственных чувств, а это не исчерпывается тем, что стыд - нравственное чувство, относящееся к тому, что находится подо мной, а жалость (или сострадание) -чувство, относящееся к тому, что - рядом со мной. Что касается единства нравственного чувства и нравственного принципа, можно излагать это так, что Соловьев утвердил при указании на чувство жалости неотделимую связь этого чувства с действующим альтруизмом, чтобы представить чувство и действие только в единстве, но подобное единство чувства стыда и аскетизма он не объяснил. Важным оказывается здесь то, что чувство стыда отделяется от течения событий данной действительности и обусловливается как нравственное чувство. На самом деле, ради основоположения нравственной философии чувство стыда должно сохраниться отдельным в границах чувства, чтобы полагать в чистой форме основные нравственные понятия - человек, факт действительности, существование. С этой точки зрения, чувством стыда задано то, что подчеркивает самые общие нравственные определения. Но, с другой точки зрения, чувством стыда получаются противоположности, определенные только чувством стыда полового акта и не выдерживаемые стыдящимся человеком. Речь идет, прежде всего, о противоположности человеческого и животного. Именно эта противоположность человеческого и животного становится началом нравственного принципа аскетизма. Этим Соловьёв ссылается на всеобщее противоречие внутри человека, которое человеку внушает действовать, а при этом не только из-за противоречия, но и из-за обобщения этого противоречия, которое именно как внутреннее противоречие действующего человека получает разные выражения, например, как противоречие духовной и материальной природы. Соловьев объяснил значение этой общей внутренней противоположности для аскетизма таким образом:
"Основное нравственное чувство стыда фактически заключает в себе отрицательное отношение человека к овладевающей им животной природе. Самому яркому и сильному проявлению этой природы дух человеческий, даже на очень низких степенях развития, противопоставляет сознание своего достоинства: мне стыдно подчиняться плотскому влечению, мне стыдно быть как животное, низшая сторона моего существа не должна преобладать во мне, -такое преобладание есть нечто постыдное, греховное. Это самоутверждение нравственного достоинства - полусознательное и неустойчивое в простом чувстве стыда - действием разума возводится в принцип аскетизма".
Вследствие этого следует утверждать одно важное положение: Соловьев отмечал, то, что проявляется как животное, представляется по-разному, например как материальная природа, или даже материя вообще, или как низшая природа, а также как плоть или плотские влечения. С другой стороны, противоположности находятся не только между существованием в качестве человека или человеческого, но и духом или духовным, разумом или высшей природой. На самом деле, все эти понятия с обеих сторон противоположности естественно не совпадают и имеют разные значения, но совпадают в определенном отношении, ибо все они оказываются едиными в отношении к другой стороне противоположности. Таким образом, несмотря на то, что эти разные понятия с обеих сторон противоположности имеют разные оттенки, они отождествляется, поскольку они выражаются, прежде всего, в противоположности к другому и определяются не сами собой, а только в рамках противоположности. Концепцию аскетизма Соловьева можно оценить таким образом, что он поставил противоположность как абсолютную, а противоположности в отношении друг к другу как относительные.
Жалость как соединение чувства и разума
Чтобы глубже понимать функции трех основных нравственных чувств, следует обратить внимание на главу "Мнимые начала нравственности (Критика отвлеченного эвдемонизма в различных его видоизменениях)". Можно сказать, что эта глава считается одной из важнейших частей "Оправдания добра", потому что здесь выражается какое-то общее отношение этого труда Соловьева к общим направлениям истории этики и к важным высказываниям прошлого. Прежде всего, Соловьев продолжает традиции кантовской этики с его противопоставлением долга и склонности (расположения), но он развернул проблему в другую плоскость. Противопоставление склонности и долга у Соловьева лежит не в области этики, а в опыте или в здравом смысле, что человек, как и животное, желает приятного или стремится к удовольствию, исключая всякие внешние требования. Таким образом, если человек как особенный человек живет, то он желает чего-то. Этот общий подход по Соловьеву характеризуется принципом эвдемонизма. Но как принцип эвдемонизм уже является принципом этики или практической философии. Преимущество этого принципа для этики Соловьев описал так:
"Этот эвдемонистический принцип (...) имеет то видимое преимущество, что он не вызывает вопроса почему } Можно спрашивать, почему я должен стремиться к нравственному добру, когда это стремление противоречит моим естественным влечениям и причиняет мне только страдания, но нельзя спрашивать, почему я должен желать своего благополучия, ибо я его и без того желаю по необходимости природы, - это желание нераздельно связано с моим существованием и есть его прямое выражение: я существую как желающий и желаю, конечно, лишь того, что меня удовлетворяет или что меня приятно. Всякий полагает свое благополучие или в том, что непосредственно причиняет ему удовольствие, или в том, что к этому ведет, т.е. служит как средство для доставления приятных состояний. Таким образом, благополучие определяется ближайшим образом чрез понятие удовольствия (...)."
Чтобы понять направление мышления Соловьева, следует сначала точнее выделить плоскость его противопоставления долга и склонности, ибо этот эвдемонистический принцип в этике он отклонил в дальнейшем ходе труда "Оправдание добра". Структура мысли у Соловьева образуется так, что он исходил из Я, которое желает чего-то, чтобы потом доказать несовместимость желающего Я и нравственного Я. Вследствие этого, нравственный долг и эмпирическая склонность ни в чем не совпадают. Чтобы подробнее определить отличие Соловьева от Канта, следует обсудить предпосылку Соловьева, насколько этот Я, желающий чего-то, разумеется сам собой. Соловьев подвергнул рассмотрению основу этого желающего Я: предметов или состояний далеко не всегда соответствует степени реальной приятности ощущений, ими доставляемых. Так, при сильном эротическом влечении к определенному лицу другого пола факт обладания именно этим лицом желается как величайшее блаженство, перед которым исчезает желательность обладания всяким другим лицом, между тем реальная приятность, доставляемая этим бесконечно-желательным фактом, наверное, ничего общего с бесконечностью не имеет и приблизительно равна приятности всякого иного удовлетворения данных инстинктов. - Вообще желательность тех или других предметов, или значение как благ, определяется не последующими субъективными состояниями удовольствия, а объективными взаимоотношениями этих предметов с нашею телесною или душевною природою, причем источники и свойства этих отношений большею частью не сознаются нами с достаточною ясностью, а обнаруживают лишь свое действие в виде слепого влечения. Но если удовольствие не есть сущность блага, или желанного как такого, то оно во всяком случае есть его постоянный признак."63
Здесь можно признать, что Соловьев сам допустил, что это отвлеченный желающий Я более или менее является какой-то конструкцией мышления. Проблема состоит в том, что желающий человек разделяет предметы своего желания по разным ценностям. Удовольствие или приятность ощущается не только как это удовольствие или эта приятность в настоящем моменте и в данном месте, а также как комплекс взаимоотношений разных удовольствий. Иными словами, никакое удовольствие не оказывается совсем отдельным, а можно понимать любое удовольствие в разных степенях, как ставшее и становящееся удовольствия одновременно. Таким образом, ощущение и ценность удовольствия изменяется постоянно с точки зрения действующего и ощущающего лица. Пример Соловьева из области эротики и любви разъясняет это в самые крайние варианты: с одной стороны, чрезвычайная любовь к определенному лицу выделяет предмет желания от массы желаемых предметов, и, с другой стороны, действительное эротическое влечение, может быть, особенным качеством не отличается от других влечений. На самом деле, разрешается констатировать только то, что всякое желаемое и действительное удовольствие зависит от взаимосвязи предмета и желающего Я, подлежащей разными внешними и внутренними условиями.
Какие выводы можно сделать из этой проблемы разнообразных определений желаемых удовольствий? Трудность этой проблемы не позволяет определить общую классификацию удовольствий с разных точек зрения. Из-за того, что невозможно отвергнуть того факта, что человек постоянно желает чего-то, требуется не избегать этой проблемы. Для разрешения проблему можно разделить на два общих направления: субъективное и объективное. Субъективное направление подчеркивает такой момент, что человек сам определяет целостную структуру удовольствий. В жизни встречаются разные оттенки удовольствий и приятностей, но чтобы их понимать как именно мои удовольствия и мои приятности, этот Я, как желающий чего-то, должен признать
Там же, стр. 209; или: Собр. соч., там же, стр. 148 их как действительно или справедливо мной желаемые удовольствия и приятности. Это не одно и то же дело. Суть дела в том, что человеку уже даны определенные требования жизни, хотя эти требования являются требованиями разного рода, например нравственного, естественного или другого рода, а все эти разнообразные требования более или менее смешаны с удовольствиями и приятностями. Иными словами, в человеке внешнее и внутреннее, т.е. внешнее требование и внутреннее ощущение, в результате выполнения требования трудно отличаются друг от друга. Поскольку человеку придется определить себя как этот желающий Я в жизни, ему надо признать то, что ему принадлежит как свое внутреннее, а, что оказывается ему чужым и внешним.
Эта проблема индивидуального определения стала в XIX веке проблемой практической философии, сохраняющейся и до сих пор в ней как одна из главных проблем. Вопрос состоит в том, как можно отличить внутреннее от внешнего, если, на самом деле, невозможно отделить целостность внутреннего состояния удовольствия и приятности от разнообразия внешних требований. При этом, надо учесть также тот момент, что иногда удовольствие проявляется только во взаимосвязи с какой-то необходимостью требований, и наоборот. Чтобы в рассмотрении проблемы не потерять плоскость желающего Я, можно выразить вопрос еще так: чего надо желать, чтобы желание оставалось именно моим желанием, или иначе: какое удовольствие считается действительно моим собственным удовольствием? Отречение от мира (например, у Шопенгауера) и "воля к власти" в философии Нитцше представляют примеры решения этой проблемы.
Что касается философии Ницше, "воля к власти" обозначает не обладанием самим собой, а обладанием желаниями и удовольствиями, чтобы обладать самим собой, как процессом разделения ценностей желаний и удовольствий. Иными словами, "воля к власти" требует, чтобы при сложности смещения необходимости и удовольствия восстанавливался и сохранялся основной желающий Я, который, именно как желающий положен не влиянием внешнего предмета, а обладает собой, определяя мнимость предмета желания, отклоняя или отвращаясь от него.
Однако вопреки этому Соловьев утвердил объективное направление этого желающего Я, говоря просто-напросто, что, несмотря на то, что желания и удовольствия подлежат разнообразному взаимоотношению желающего человека и предмета желания, образуется постоянный признак, выражающийся Я как желающим. Этим Соловьев полагал то, что с внешней точки зрения существуют лишь определенные чередующиеся действия желания. Таким образом, каждое действие желания включает в себя, с одной стороны, предмет желания и удовольствия и, с другой стороны, Я, желающего чего-либо. При этом все эти действия желания имеют также свое ограниченное пространство и отделяются по времени от другого действия желания, так как они чередуется. Для такого действия, само собой разумеется, что существует Я, желающий чего-то, и предмет желания и удовольствия. Это его постоянный признак. Следовательно, важным оказывается только то, что какое-то Я желает чего-то, а не то, что Я и предмет являются моментами или частями определенной связи или даже определенного взаимоотношения.
Критика благоразумного эвдемонизма
Итак, целость человека как сущность нравственности означает какую-то определенную, содержательную субъективность человека, отличающуюся от предположения отвлеченного единства нравственного субъекта. Человек считается целостным, поскольку в нем создается, сохраняется и укрепляется единство для того, чтобы нравственно действовать. В этом смысле, нравственное действие связано, в первую очередь, с основоположением какого-то внутреннего, содержательного и формального единства, которое отделяется от превосходства результатов нравственного, или вообще какого-то человеческого действия. Что касается результатов действия, можно приписывать их только благам, но не добру. Добро именно определяется каким-то внутренним самостоятельным нравственным единством человека, отличающимся от текущей практической действительности, в то время относящимся к ней. Отношение определяется таким образом, поскольку нравственная самостоятельность относится к какой-то данной практической самостоятельности. Этим отличием полагается главным образом целость человека как сущность нравственности. Итак, можно выделить целость человека в отношении к двум сторонам. С одной стороны, она отличается от отвлеченного противопоставления нравственно действующего человека данной практической действительности, чтобы этот нравственно действующий человек как единство себя сам определял перед нравственным действием, происходящим в практической действительности. С другой стороны, целость человека ограничивается достаточным расстоянием от практической действительности, чтобы содержательно и формально отделить нравственное действие от практической действительности, устраняя то, что нравственное действие включается совсем в практическую действительность.
Все-таки, следует добавить, что целость человека не значит просто-напросто какую-то практическую субъективность, определяя себя собственным и самостоятельным от данного мира предметом. Вообще говоря, Соловьев предполагает всегда такую практическую действительность, которая составляется данными практическими действиями человека, направленными на предмет желания или удовольствия. Итак, дан человек вместе со своими предметами, т.е. даны только разные субъективности, соответствующие предметам желания и способам их достижения. Отсюда вопрос поставлен о целости человека. Поэтому, проблема состоит в том, что целость человека не создается обобщением единства человека, данного вместе со своими предметами, а определением нравственной формальности как единственной возможности выделить человека из предметности. Эта формальность имеет такой скудный характер, что дана сначала только структура пространства типа внизу, рядом и вверху (чувства - стыд, жалость и благоговение). Таким образом, самым важным оказывается то, что возникает целость человека из единства общей формы и содержания, разрешая человеку действовать и с формальной точки зрения и с точки зрения предметности в практической действительности.
Если сравнить отношение к предметности в нравственной философии Соловьева с таким же в этике Канта, то следует обратить внимание на то, что у Канта основным отличием склонности от долга положено отделение предметов действия (дано в склонностях к чему-нибудь) от нравственного долга, определяющегося только в разуме, между ними находятся суждения, так что разум у Канта только суждениями относится к предметам действия человека. Содержание нравственности разум получает от суждений, которые сами являются произведениями определяющего характера рассудка. Склонности вычисляются из области суждений, потому что они имеют самостоятельность своим прямым отношением к предметам (или чувственности этих предметов). Поэтому на предметы желаний разум вообще не обращает внимания в своем самоопределении, только посредством суждений. Таким образом, у Канта остается, на самом деле, не затронутый разумом мир, лежащий в отдельности и независимости данным предметам, к которым относится человек со своими непосредственными и особенными желаниями, удовольствиями, наслаждениями, склонностями. Этот мир устраняется от области нравственности постольку, поскольку он не подчиняется самоопределению разума в отношении к суждениям, имеющим в виду предметы желаний и склонностей. Итак, получается таким образом, что человек разделяется на две стороны: с одной стороны, он, применяя формулы категорического императива, является совершенным нравственным субъектом, которому остается только правильно применить эти всеобщие формулы, чтобы постепенно осуществлять всеобщие требования разума и завершить мир нравственности, а, с другой стороны, он, желая просто-напросто чего-то, или угнетает свои желания ради утверждения нравственного мира, или он не может предотвращать своих желаний и склонностей. Вследствие того, существует мир предметов, не подпадающих под нравственные требования самостоятельного разума, а утверждающихся из-за необходимости отдельных желаний и склонностей. Сказать то, что эти предметы постепенно подпадут под нравственные требования, оказывается неправильным, потому что они только даны как отдельные предметы непосредственными желаниями и склонностями, но не как суждения относительно обобщенного характера. Иными словами, между отдельными предметами желания и суждения этих желаний нет никакой связи, чтобы получить общение между ними. Поэтому за нравственными целями возникает область предметов практической деятельности тем сильнее, чем достовернее разум утверждает свою абсолютную субъективную силу. Есть этот выше уже указанный вариант, угнетать эти предметы желания, или просто-напросто не обращать внимания на них ради нравственных целей, но, несмотря на игнорирование предметов желания, эти предметы непосредственного желания еще существует как такие, и не подчиняются нравственной необходимости. На самом деле, в этике Канта отсутствует место столкновения или общения нравственности и склонностей, потому что ясное отличие нравственности от склонностей предполагается в самим собой определяющемся разуме, но действительное противоречие их для практического действия не укрепляется. Этому уже служит сопоставление непознаваемой вещи самой по себе и обоснование познающему субъекту приписанных форм представлений (т.е. пространство и время) в "Критике чистого разума". Таким образом, уже там предположено, что устраняется тот факт, что каждый непосредственный предмет желания просто-напросто существует отдельно в пространстве и во времени, независимо от того, насколько условия представлений данности предмета (т.е. пространство и время) вне человека существуют или внутри человека предполагаются. Непосредственная связь человека с отдельными предметами желания означает то, что предмет дан неразрывной целостью и невозможно убрать от него какие-то человеку особенные способы представления. Таким образом, уже в трансцендентальной эстетике Кант создал фундамент для того, что возникает расстояние между предметом желания (или склонности) и непостижимой вещью самой по себе, которая существует совсем независимо от человека (т.е. именно независимо от желания человека). Эта вещь сама по себе соответствует самому собой определяющемуся разуму, на который предмет желания не имеет уже никакого влияния, потому что этот для желания действительный предмет уже совсем исключен с точки зрения разума.
Нравственная философия Соловьева вообще не оправдывает предмет желания, а поэтому нельзя сказать, что она в этом отношении стоит в прямой противоположности к этике Канта, но она пытается обосновать нравственность в действительном противостоянии к предмету желания, насколько это возможно в нравственной философии как теории в отличии от практической действительности. Одну из центральных ролей в обосновании практического столкновения предметности и разумности играет ясное отличие добра от блага. При этом следует добавить, что Соловьев создал свою нравственную философию в противоположности к ответу Гегеля на понимание предметности и разумности в философии Канта. Гегель именно строил весь мир из основного единства предметности и разумности в диалектическом развитии так, что предмет и разум постепенно и по очереди совпадают и потом не совпадают, но без возможности того, что противоположность предметности и разумности обобщается и получается какое-то практическое значение. Разум, в конце концов, поглощает всю предметность и теряет этим основу разумного практического действия человека. Поэтому, на самом деле, отличие добра и блага у Соловьева обосновывает и обобщает противоположность предметности и разумности для практической действительности, чтобы решить этот вопрос для практической действительности действующего человека. Таким образом, разумность утверждается только в связи с действием человека, который, как действующий, может быть только отдельным. При этом только он сам может основать свою разумность. Однако, в отличие от Канта, разумность определяется в столкновении с предметностью в отношении к практической действительности. Только в отношении к практической действительности противоречие предметности и разумности имеет значение, потому что только там все решается для преобладания разума. Итак, отличие добра от блага, выведенное до антиномии добра и блага, выражает противоположность предметности и разумности, потому что благо исходит из Я, желающего какого-то предмета, а в добре обосновывается самое ясное и достоверное субъективное начало человеческого действия. Благо и добро являются выражениями разумности и предметности в практической действительности, чтобы они там действительно общались друг с другом. Таким образом, тождество добра и блага (как блаженство) в религии приписывается, на самом деле, практической действительности, так что это тождество Соловьев не основал метафизическими ссылками.