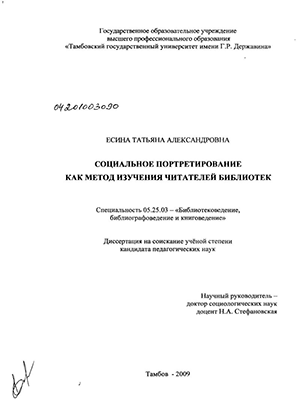Содержание к диссертации
Введение
1. Теоретические и исторические основы социального портретирования читателей библиотек 13
1.1. Теоретико-методологические аспекты социального портретирования... 13
1.2. Элементы социального портретирования в исследованиях отечественной читательской аудитории XI - XVIII вв 46
1.3. Элементы социального портретирования в российских исследованиях читателей в XIX - XX вв 63
2. Гносеологический потенциал социального портретирования читателей библиотек (на примере Липецкой области) 92
2.1. Стратификационный профиль социального портрета читателей как показатель социокультурного позиционирования библиотеки 92
2.2. Аксиологический профиль социального портрета читателей библиотек как основа контента библиотечного обслуживания 115
Заключение 145
Список использованной литературы 150
Приложения 173
- Элементы социального портретирования в исследованиях отечественной читательской аудитории XI - XVIII вв
- Элементы социального портретирования в российских исследованиях читателей в XIX - XX вв
- Стратификационный профиль социального портрета читателей как показатель социокультурного позиционирования библиотеки
- Аксиологический профиль социального портрета читателей библиотек как основа контента библиотечного обслуживания
Введение к работе
Актуальность исследования. Актуальность поиска новых методов исследования читателей библиотек в настоящее время возрастает в связи с тем, что социально-экономические и политические трансформации в России конца XX в. существенно изменили не просто содержание информационных запросов, но и структуру, менталитет читательской аудитории. Читательская сфера, столь долго считавшаяся нечувствительной к изменениям, принадлежит сегодня к числу наиболее динамично развивающихся областей культуры. Выстраивается более сложная, чем ранее, многомерная стратификация читательской аудитории, растет её дифференцированность как по показателям читательской активности, традиционно важным для библиотековедения, так и по новым критериям (финансовое положение, сфера занятости, стиль жизни, отношение к религии и др.). Корректное выявление новых дифференцирующих показателей, а тем более определение их влияния на читательское поведение требуют поиска адекватных исследовательских методов и процедур, поскольку в библиотечной документации учитывается и отражается лишь минимальный набор социально-демографических характеристик.
Сегодня читатели стали объектом пристального внимания не только библиотековедов, но и социологов, культурологов, психологов, педагогов, литературоведов, которые за особенностями читательского поведения пытаются увидеть динамику развития современного российского общества. Междисципли-нарность исследовательского интереса в этой области ведет и к интеграции научных методов. Поэтому изучение проблем и возможностей метода социального портретирования в библиотековедческих исследованиях имеет большую значимость.
В современных условиях для совершенствования обслуживания читателей в библиотеке важно не только знать состав читательской аудитории, но и взаимосвязь читательских характеристик с социальными. Но пока еще в большинстве случаев исследователи располагают лишь фрагментарными сведения-
ми об объекте своего изучения, балансируют на грани точного знания и ассоциативного эвристического поиска, связывая воедино множество разрозненных читательских характеристик. Преодолению этой фрагментарности может способствовать обращение к построению социального портрета читателя библиотеки как единой интегративной характеристики социальных и культурных параметров читательской аудитории. Но в библиотековедении отсутствуют единые теоретические подходы к созданию социального портрета читателей, что делает избранную тему исследования особенно актуальной.
Обострение и финансовых, и материально-технических проблем усугубляет несоответствие сложившейся системы обслуживания требованиям новых и неожиданных для библиотеки групп. В связи с нарастающей ротацией контингента пользователей библиотек (вымывание научных работников и специалистов, увеличение доли студентов и малоквалифицированных групп, изменение целей обращения в библиотеку и приоритетов спроса и т.д.) социальное портре-тирование может дать обширную стратегическую информацию о динамике структуры пользователей в ситуации изменения социального контекста деятельности библиотеки и стать основой для определения приоритетов ее развития.
Методология библиотековедения постоянно развивается и сегодня на этапе интеграции научного знания и исследовательских методов важно своевременно и корректно привлекать к исследованию и использовать методы других наук. Поэтому избранная тема представляется весьма актуальной.
Разработанность темы исследования. Понятие «социальный портрет» широко используется в современной социологии, но понимается не всегда однозначно, поскольку не выработано общего научно обоснованного определения этого понятия. Теоретической основой составления социального портрета в социологии стала концепция идеальных типов М. Вебера.
Определение понятия социальный портрет дано в работе М.П. Карпенко, М.В. Кибакина, В.А. Лапшова. Социальный портрет молодёжи, студенчества, возрастных когорт рассмотрен в исследованиях Л.А. Беляевой, Ю.Р. Вишневского, Д.Д. Ешпановой, А.Н. Нысанбаева, Л.Я. Рубиной, В.Т. Шапко. Социальный
портрет высокостатусных групп и предпринимателей представлен в исследованиях Б.В. Головачева, СВ. Гришаева, Ж.М. Грищенко, Л.Б. Косовой, И.Н. Лапши, В.Г. Немировского, Л.Г. Новиковой. Социальные портреты различных групп рассмотрены в работах У.С. Борисовой, В.А. Викторова, СИ. Платонова, М.П. Мчедлова, Ю.А. Гаврилова, А.Г. Шевченко, Г.В. Разинского, А.В. Решетникова, В.В. Фаузера. B.C. Собкин и П.С. Писарский обратились к социологическому портрету учащегося ПТУ. А.С Кокоревым и Н.Б. Николюкиной рассмотрен социальный портрет преподавателя провинциального вуза.
В библиотековедении к понятию «социальный портрет» обращался В.И. Грачёв, изучая проблемы библиотечной профессиологии. Он дал определение и сформулировал требования к разработке социального портрета библиотекаря. Но следует заметить, что в библиотековедческой литературе не сложилось чётко обоснованной методики социального портретирования и единых структурных элементов социального портрета.
Методологические основания исследования чтения как социального явления в отечественной науке были заложены в рамках книговедческих и библиотековедческих исследований Н.А. Рубакиным, М.Н. Куфаевым. Значительный вклад в накопление эмпирического банка данных и разработку методик изучения читателей и чтения внесли работы исследователей XIX в.: А.С. Пру-гавина, СА. Раппопорта, Н.А. Рубакина, Д.И. Шаховского. В первой половине XX в. разработка новых исследовательских методов осуществлялась Д.А. Бали-кой, Б.В. Банком, М.А. Смушковой, Н.Я. Фридьевой, Е.И. Хлебцевичем, Я.М. Шафиром и др.
Оценка потенциальной читательской аудитории дана в трудах Я.Е. Водар-ского, С.С. Дмитриева, В.М. Кабузана, А.И. Рейтблата, Б.В. Сапунова, А.И. Соболевского, СМ. Троицкого.
История чтения, состав читательской аудитории, отдельных читательских групп в различные исторические периоды проанализированы в работах К.И. Абрамова, Н.А. Баклановой, Б.В. Банка, Е.М. Блиновой, А.В. Блюма, А.Я. Вилен-кина, Н.А.Ефимовой, В.З.Когана, СП. Луппова, З.Э. Лусс, А.И. Рейтблата,
Н.Н. Розова, Л.И. Петровичевой, А.Ю. Самарина, Б.В. Сапунова, A.M. Топорова, А.Е. Шапошникова, И.А. Шомраковой и др.
Состав читателей и содержание чтения в дореволюционных библиотеках анализировались в работах К.И. Абрамова, А.В. Блюма, М.Ю. Матвеева, А.И. Рейтблата, В.В. Ялышевой.
Динамика читательской культуры современного общества в широком социальном контексте, чтение как фактор социокультурной стратификации исследовались Л.Д. Гудковым, Н.Е. Добрыниной, Б.В. Дубиным, Н.А. Зоркой.
Проблемы социальных факторов детерминации чтения (читательской моды, межличностных каналов распространения чтения, влияния референтных групп и «лидеров чтения»), места чтения в структуре бюджета свободного времени и образа жизни изучались В.Я. Аскаровой, М.Д. Афанасьевым, И.А. Бутен-ко, Л.А. Гордоном, Е.Б. Груздевой, Л.Д. Гудковым, Б.В. Дубиным, Д.И. Думно-вым, Е.О. Кабо, В.Д. Патрушевым, С.Н. Плотниковым, В.М. Рутгайзером, С.Г. Струмилиным, И.Н. Тартаковской, А.И. Шмаровым и др.
Особенности чтения различных социальных и возрастных групп, качественные и количественные характеристики чтения как показатель социального развития молодежи исследовались П.Б. Бирюковым, Т.Г. Браже, И.А. Бутенко, Е.В. Захаровой, Ю.П. Мелентьевой, М.М. Самохиной, М.Д. Смородинской, В.Д. Стельмах, Н.А. Стефановской, В.П. Чудиновой и др.
Разработка системы показателей, характеризующих читательскую аудиторию, представлена в работах Н.В. Дадали, Ю.С. Зубова, Г.Г. Лепилиной, О.М. Масловой, В.Д. Стельмах, С.А. Трубникова. В статьях автора диссертации Т.А. Есиной охарактеризованы некоторые особенности эмпирического портрета пользователей библиотек и проанализированы исторические аспекты социального портретирования в отечественном библиотековедении.
Однако, несмотря на значительное количество исследований по проблеме изучения чтения и читателей, вопросы теории и методики социального портретирования в библиотековедении, выявления и учёта круга необходимых пара-
метров социального портрета пользователей библиотек не получили в них всесторонней детальной разработки.
Проблема исследования заключается в наличии противоречия между признанием специалистами-библиотековедами важности социальных характеристик читателей, их влияния на особенности чтения в широком социокультурном контексте и неразработанностью теоретико-методических основ социального портретирования в библиотековедении, отсутствием чётко разработанных методик и рекомендаций по выявлению и учёту круга необходимых параметров социального портрета читателей библиотек, по их использованию для совершенствования библиотечного обслуживания.
Объект исследования - социальный портрет читателей.
Предмет исследования - теоретические, исторические, методические аспекты социального портретирования читателей библиотек как метода библиотековедческих исследований.
Цель исследования: разработка теоретико-методических основ социального портретирования читателей библиотек.
Поставленная цель требует решения следующих задач:
Выявить теоретические основания социального портретирования как исследовательского метода.
Проанализировать историю развития социального портретирования читателей в отечественных исследованиях.
3. Обосновать структуру социального портрета современных читате
лей библиотек.
4. Описать спектр гносеологических возможностей метода социального
портретирования читателей библиотек как информационной основы стратегии
развития библиотек на примере Липецкой области.
Методологической основой исследования послужили теоретические положения социологии культуры, социологии чтения и культурологии о включённости читательской деятельности в широкий социокультурный контекст жизни личности (Н.А. Рубакин, И.А. Бутенко, Б.В. Дубин, Л.Н. Гудков), социо-
логическая концепция идеальных типов и концепция видов социального действия (М. Вебер), положения об интегративности библиотековедческого знания и его взаимосвязи с социальными науками (О.С. Чубарьян, В.В. Скворцов, Н.С. Карташов, B.C. Крейденко), теории библиотечного обслуживания и чита-телеведения о дифференцированном подходе к читателям (Н.А. Рубакин, В.Ф. Сахаров, А.Я. Айзенберг, Ю.П. Мелентьева, В.А. Бородина, С.А. Езова, М.Я. Дворкина, И.А. Мейжис и др.).
Методы исследования - методы анализа и синтеза, сравнения, дедукции и индукции; исторический метод; метод анализа документов; компаративный анализ; анкетирование.
Источниковая база. Диссертантом привлекались источники по библиотековедению, социологии, книговедению и истории книги, статистические сборники (материалы государственной статистики).
Эмпирическую базу составили результаты трех социологических исследований, проведённых автором в библиотеках Липецкой области, основное -«Социальный портрет читателя Липецкой области» (2008 г.). В нём использовалась районированная выборка (1250 респондентов). Анкетный опрос проводился в библиотеках областного центра и муниципальных библиотеках г. Ельца и девяти районов Липецкой области. Исследованием были охвачены все основные социально-демографические и социально-профессиональные группы читателей библиотек, начиная с шестнадцати лет. Распределение респондентов по полу и возрастным группам рассчитано на основании данных Липецкого статистического ежегодника и ежегодных статистических отчетов библиотек соответствующих районов Липецкой области. Естественная неточность выборки в пределах 5%. Статистические данные проанализированы с использованием пакета SPSS 11.5.
Научная новизна исследования состоит в том, что:
- обоснована авторская дефиниция понятия «социальный портрет читателя библиотеки» (определение дано в «Положениях, выносимых на защиту»);
выделены два профиля социального портрета читателей библиотек -стратификационный и аксиологический;
предложена периодизация социального портретирования читателей, включающая шесть периодов, выделенных на основании базового критерия -преобладающего объекта портретирования (см. «Положения, выносимые на защиту»);
сформирован дифференцированный социальный портрет читателя общедоступных библиотек Липецкой области, включающий пять групп, различающихся как по объективным стратификационным показателям, так и по мотивации чтения и обращения в библиотеку.
Теоретическая значимость исследования заключается в следующем:
выделены стратификационный и аксиологический подходы как основа для формирования социального портрета читателя в библиотековедении;
разработана структура социального портрета современных читателей библиотек, представленная системой базовых и дополняющих демографических, социальных и аксиологических показателей;
определены критерии для выделения качественно различных этапов социального портретирования читателей (объект портретирования, набор показателей социального портрета, диахроническая ориентация портретирования, база формирования социального портрета);
выявлены тенденции развития методики социального портретирования читателей библиотек (постепенное расширение количества показателей социального портрета, углубляющаяся дифференциация социальных портретов читателей).
Практическая значимость исследования состоит в том, что предложенная методика социального портретирования послужила основой разработки региональных стратегий развития Липецкой областной универсальной научной библиотеки и общедоступных библиотек Липецкой области. Методика социального анализа различных групп читателей предложена для использования в муниципальных библиотеках Липецкой области, в общедоступных библиотеках
Тамбовской области. Результаты диссертационного исследования используются в учебных курсах «Обслуживание читателей», «Социология чтения», «Научно-исследовательская работа в библиотеках» в процессе подготовки специалистов высшей квалификации по специальности «Библиотечно-информационная деятельность» в Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина.
Апробация работы. Исследование выполнено в рамках научного направления кафедры библиотековедения и документоведения ТГУ им. Г.Р. Державина -«Проблемы повышения эффективности библиотечно-библиографической деятельности: региональный аспект». Результаты исследования излагались на международной научной конференции «Книжная культура: опыт прошлого и проблемы современности» (Москва, 2008), международных научно-практических Интернет-конференциях «Проблемы государства, права, культуры и образования в современном мире» (Тамбов 2006, 2007, 2008), общероссийской конференции «Инициатива молодых» (Москва, 2008); всероссийской научно-прак-тической конференции «Homo legens в прошлом и настоящем» (Нижний Тагил, 2007), на V Денисьевских чтениях (Орел, 2007), межрегиональных научно-практических конференциях: «Чтение, грамотность и читательская компетентность в меняющемся мире. Гуманистический подход» (Липецк, 2008), «Центральная региональная библиотека: современное развитие и ресурсный потенциал» (Липецк, 2008), «Чтение и грамотность - инструменты развития личности» (Липецк, 2007).
Основные положения и выводы диссертации изложены в четырнадцати публикациях, в том числе двух - в журналах, рекомендованных ВАК РФ.
Положения, выносимые на защиту:
1. Социальный портрет читателей библиотеки - это интегрированное описание основных отличительных демографических, социальных и ценностных характеристик, присущих определённой группе читателей, представленное в виде стратификационного и аксиологического профилей. Стратификационный профиль включает демографические и социальные показатели. Аксиологический профиль социального портрета включает универсальные аксиологические параметры, а также ценностные характеристики читательской деятельности.
Развитие социального портретирования читателей в отечественных исследованиях может быть разделено на несколько периодов на основании критериев доминирующего объекта портретирования, набора показателей социального портрета, диахронической ориентации портретирования, источниковой и эмпирической базы формирования социального портрета: для периода XI-XIV вв. характерно формирование ретроспективного социально-демографического портрета грамотных, для периода XV-XVI вв. - ретроспективного портрета заказчиков рукописных книг, для периода XVII-XVIII вв. - ретроспективного социального портрета покупателя книг, для 1-й половины XIX в. - ретроспективного и актуального портретов читателя публичных библиотек, для 2-й половины XIX - начала XX вв. (до 1917 г.) - ретроспективного и актуального портретов «народного» читателя, для XX - начала XXI вв. - актуального портрета читателя общедоступных библиотек.
Спектр характеристик, используемых для формирования социального портрета читателя, имеет устойчивую тенденцию к постоянному расширению. Усиливается корреляция особенностей читательской деятельности с материальными основами существования различных групп населения и степенью их обеспечения, а также с преобладающим характером занятий.
Гносеологический потенциал социального портретирования читателей библиотек в современных условиях выражается в том, что построение стратификационного профиля портрета читателей библиотек в сравнении с показателями по населению региона и России позволяет выстроить долгосрочную стратегию продвижения чтения и библиотечных услуг для различных групп населения, оценить потенциал привлечения новых пользователей. Формирование аксиологического профиля создает научно-информационную основу для выделения творческих приоритетов деятельности библиотек, формирования многоаспектного контента библиотечного обслуживания населения региона.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы (237 названий) и приложений.
Элементы социального портретирования в исследованиях отечественной читательской аудитории XI - XVIII вв
Реконструкция облика читателя XI — XVIII веков представляется очень сложной. Проблема выявления данных о составе реальной читательской аудитории связана с ограниченной источниковедческой базой. Как отмечает Ю.Н. Столяров, «чем дальше продвигаемся мы вглубь веков, тем меньше документальных свидетельств» [207, С.366]. По мнению Б.А. Рыбакова [173], русские письменные источники не позволяют нам заглянуть в историю Руси глубже X столетия. Поэтому бесценным источником, из которого частично могут быть извлечены материалы о характеристиках читателей и особенностях чтения, выступает изустная историческая память народа в виде сказаний, былин, пословиц, на что обращает внимание Ю.Н. Столяров [207].
Специалистами-историками книжного дела для исследовательской работы в этой области использовались различные источники: пометы на книгах и рукописях, данные книготорговли, списки подписчиков на периодические издания и книги, а также другие архивные и литературные материалы. Важными источниками для изучения читателя Древней Руси являются рукописные книги XI-XIII вв., письменные памятники домонгольского периода, дошедшие в более поздних списках, выходные и вкладные записи на книгах, немногочисленные приписки и пометы читателей.
Отечественные исследователи, обращавшиеся к историческим аспектам библиотековедения и книговедения, анализируя развитие читательской культуры, в той или иной мере обращались и к описанию социального облика читателей различных эпох. Е их работах встречаются отдельные элементы социального портретирования. Во второй половине XX - начале XXI вв. были опубликованы многочисленные работы по истории русской книги. В работах Н.Н. Розова [163; 164] на основе сохранившихся рукописных книг дается их классификация, определяется социальный состав заказчиков и мастеров, география распространения книг в XI — XV вв. Н.А. Бакланова [6] анализировала, среди каких групп населения России была распространена книга в XVII в. Три тесно связанных этапа истории русской книги - XVII век, петровское время, послепетровский период — рассмотрены в монографиях СП. Луппова [121; 122; 123; 223]. В этих работах собран и исследован материал по книгопечатанию, распространению книг, книжной торговле, выявлены особенности формирования библиотек и частных книжных собраний. Б.В. Сапунов [180; 181] предпринял реконструкцию читательской аудитории и основных групп читателей в XI — XVII вв. Социальную, географическую, тендерную характеристику читателей русской книги гражданской печати второй половине XVIII в. даёт А.Ю. Самарин [174; 175]. Исследование массового чтения в русской провинции конца XVIII - первой четверти XIX в. предпринято в статье А.В. Блюма [20]. А.Е.Шапошников [231] рассматривает закономерности развития чтения и читательской аудитории в нашей стране в IX — XX вв.
По мнению Т.И. Кондаковой, весьма важно учитывать и тот факт, что хотя и существует взаимосвязь в развитии явлений общественной жизни и их наименовании в языке, однако, полное совпадение во времени здесь отсутствует. Поэтому, зная о возникновении того или иного социального феномена в жизни страны, не следует ожидать его немедленного отражения в текстах этого периода. Как правило, общественное явление лишь по прошествии какого-то времени кристаллизируется в сознании носителей языка в понятие и лишь затем находит своё выражение в языковом термине. Известно, что читатель существовал на Руси издавна. Однако, определенная узость количественных и социальных характеристик этого явления общественной жизни России вплоть до XVII в. препятствовала отражению его в русском языке того времени [106, С. 109].
Учитывая источники составления портретов для XI в. мы можем сформировать социально-демографический портрет грамотных. Традиционно появление читателей на Руси связывается с образованием Древнерусского государства и утверждением христианской веры. Принято считать, что до этого периода славяне, а затем и русичи «были совершенно темными, непросвещенными, безграмотными» [207, С.365]. Опровергая этот стереотип, Ю.Н. Столяров проанализировав сюжеты славянских, преимущественно русских сказок, обнаружил, что тема письменной культуры звучит в каждой пятой сказке [207]. По сказкам можно составить социально-демографический портрет грамотного человека эпохи Древней Руси: «грамотность была широко распространена во всех слоях общества, ... ею широко владели крестьяне... Обыденным явлением считалась грамотность среди женщин» [207, С.369].
К середине XI в. в Киевской Руси появились «книжники», любители, знатоки и ценители книг. Среди «книжников», по данным А.Е.Шапошникова [231], были представители феодальной знати, духовенства. Числились среди них и основатели монастырей, рядовые монахи, встречались и простолюдины. Можно отметить, что указываются почти исключительно мужские имена. В исторических источниках сохранились всё же упоминания о княгинях, обучавших своих детей «святым книгам и всякой премудрости» [231, С.9]. Таким образом, исследователи используют тендерный признак и социальное положение как важнейшие характеристики читателей уже с XI в. Хотя в целом им не удается охватить все социальные слои и создать единый читательский портрет. Так, скудны сведения о книголюбах среди купечества, нет в исторических исследованиях упоминаний о книголюбах среди воинов и ремесленников. По мнению А.Е.Шапошникова [231], это не значит, что их не было, не сохранились лишь сведения о них. О том, что горожане имели книги, свидетельствуют многочисленные медные застежки от книжных переплетов, найденные во время раскопок на месте старых пожарищ древних городов (старой Рязани и других). В домонгольское время на Руси сформировалась определённая прослойка высокообразованных по масштабам средневековья, «книжных», по терминологии тех лет, людей. Вместе с ними создавался круг читающих людей. Грамотным в начале XIII в., по подсчетам Б.В.Сапунова, был 1% населения всей Руси. Верхнюю границу грамотности (5%) можно полагать, если исходить из уровня грамотности, характерного для такого большого промышленного города, как Новгород [180].
Репертуар книжного фонда Древней Руси был достаточно обширен и исчислялся сотнями названий. Наиболее почитались книги религиозного содержания. Помимо монастырских и церковных библиотек, обладавших десятками и даже сотнями томов, уже в домонгольское время сложились частные книжные собрания. По мнению Н.Н. Розова, обладание книгами в тот период было больше характеристикой экономического статуса человека, чем его начитанности. Состав читателей этого периода рассматривается во взаимосвязи с репертуаром книг, отмечается, что особенностью репертуара древнерусской книги является то, что он не столько «программировался сверху», сколько создавался самими читателями. Русские книжники XI в. имели возможность пользоваться книгами самого разнообразного содержания и происхождения: богослужебные книги, жизнеописания святых, переводные философские книги, оригинальная древнерусская литература. «Развлекательное» чтение отсутствовало, т.е. беллетристики в России не было до XVI в. [164].
Элементы социального портретирования в российских исследованиях читателей в XIX - XX вв
Если сведения о социальном составе читателей XI-XVIII вв. можно почерпнуть только у современных исследователей чтения, то информация о читателях XIX в. содержится как в современных ретроспективных исследованиях, так и в исследовательских работах учёных того периода, т.е. начиная с XIX в. распространение книжной культуры сопровождается параллельным изучением читательской аудитории. В изучении читателей в России, начиная с этого времени, выделяются несколько периодов: первая половина - конец XIX в.; первая половина XX в. (1917 г. - конец 1930-х гг.); вторая половина XX в. (конец 1950-х гг. - 1980-е гг.); начало 1990-х гг. -настоящее время [129], различных по целям, методике, организации исследований.
Общая характеристика грамотности и читательской аудитории дается в работах А.Г. Рашина, А.И. Рейтблата [159], Л.В. Кошмана [108].
В первой половине XIX в. читала незначительная часть населения России, а на каждого читателя приходилось не менее 20 нечитающих. К концу XVIII в. чтение становится обязательным компонентом дворянского образа жизни (за исключением самого низшего слоя дворянства). В других сословиях (купечество, мещанство, крестьяне-дворовые) нередко встречались активные читатели, однако в процентном отношении они составляли лишь незначительную часть этих слоев. Здесь уровень грамотности был невелик, а к чтению относились неодобрительно.
Однако на практике к книгам обращалась существенно меньшая часть населения. В целом, по оценке А.И. Рейтблата, читательская аудитория страны к началу 1860-х гг. не превышала 1 млн. человек. Она была неоднородна, что было связано с сословной замкнутостью населения, когда разные сословия существенно различались по образу жизни и характеру культуры. Подобные различия в значительной степени закреплялись сословным характером образования. Читательская публика, по мнению цензора Ф.Ф. Веселаго, может быть разделена на три главные группы. Первую составляют люди современно, «серьезно образованные». Эта группа включала не более 30-40 тыс. В эту группу помимо лиц с высшим образованием (по подсчетам В.Р. Лейкиной-Свирской - 20 тысяч [118]), следует включить также студентов университетов (5 тысяч), а также женщин, нередко получавших хорошее домашнее образование. Во второй группе находится «полуобразованная» публика — лица со «средним» и «неполным средним» образованием составляли 200-250 тысяч. Третья группа «простонародная» читательская аудитория — лица с начальным образованием. По косвенным данным, можно предположить, что число их достигало 400-500 тысяч [159]. Таким образом, появляется новый параметр социального портрета — уровень образования, которое определялось не только по формальному наличию документа об образовании, но и по фактическому уровню (например, домашнее).
Можно выделить три основные читательские группы «образованной» публики: учёные и литераторы, учащаяся молодёжь, помещики. Читательские предпочтения различных групп представлены в Приложении 2. Больше всего читала во второй половине XIX в. молодёжь (учащиеся университетов, гимназий, семинарий). В исследованиях этого периода впервые появляется среди социальных характеристик такой параметр как возраст читателей. В пореформенный период резко растет численность провинциальной интеллигенции (главным образом это были земские служащие — учителя, врачи, статистики).
Как отмечает А.И. Рейтблат, в условиях быстрого увеличения объёма читательской аудитории и её дифференциации весьма отчетливо выделился значительный по численности «промежуточный» слой читательской публики, состоящий из «полуобразованных» читателей, уже отошедших от лубочной книги, но не имеющих достаточной подготовки для понимания публикаций «толстого» журнала. По своему социальному положению это были мелкие и средние чиновники, мелкое поместное дворянство, сельские священники, купцы и мещане. Если в начале XIX в. эти социальные группы были слабо приобщены к чтению, то к середине века регулярное чтение становится нормой в данной среде [159].
Самой большой по численности в последней трети XIX в. была быстро увеличивавшаяся «простонародная» читательская аудитория. В результате быстрого развития начальной школы в пореформенный период формировалась многочисленная категория грамотных, но не образованных читателей. Для «простонародных» читателей быстро развивается своя литература, которая дифференцируется, обслуживая различные «прослойки» этой читательской среды. По мнению А.И. Рейтблата, уже в 1870-1880-х гг. отчетливо выделяется категория низового городского читателя. Для его представителей выходили так называемые «уличные листки», позже возникла своя «малая пресса». Среди немногочисленных крестьянских читателей вначале преобладали любители религиозной литературы. Постепенно формируется и самостоятельная рабочая читательская аудитория. Рабочие обычно без особого интереса относились к религиозной литературе и более заинтересованно воспринимали романы и повести, особенно приключенческие. Определённое место в чтении рабочих занимала подпольная книга [159]. Тем самым, исследователи начинают анализировать особенности чтения городского и сельского населения, а также выделять принадлежность к экономическому классу как элемент социального портрета.
Даже беглый обзор демонстрирует значительную дифференциацию читательской аудитории в России во второй половине XIX в., существенные отличия различных групп по отношению к книге, уровню знаний и кругу интересов.
В XIX в. выделяется два главных канала получения книг — покупка и посещение библиотек. Поэтому исследователи анализируют, в первую очередь, именно подписчиков и пользователей библиотек. Исходя из чего, для этого периода уже начинает формироваться достаточно детальный социальный портрет посетителей библиотек. Его описание значительно облегчается тем, что публичные библиотеки с момента их организации начинают вести учёт своих читателей. Основными источниками для описания социальных характеристик пользователей библиотек становятся отчёты библиотек.
Стратификационный профиль социального портрета читателей как показатель социокультурного позиционирования библиотеки
Предложенная нами интегрированная модель социального портрета читателей библиотеки, созданная на основе стратификационного и аксиологического подходов, даёт возможность для соотнесения особенностей читательской деятельности со стратегией библиотек и выработки оптимальных управленческих решений в условиях конкретного региона. Продемонстрируем гносеологический потенциал социального портретирования читателей библиотек на примере построения социального портрета читателей библиотек Липецкой области. Для формирования портрета нами использован материал авторских исследований, проведённых в библиотеках Липецкой области в 2004-2008 гг.: «Изучение читательского спроса пользователей абонемента Липецкой областной универсальной научной библиотеки» (2004 г.) (211 респондентов), «Приоритеты в чтении художественной литературы» (2006 г.) (76 респондентов), «Социальный портрет читателя Липецкой области» (2008 г.) (1250 респондентов). Основной массив первичной социологической информации для формирования социального портрета получен путем анкетного опроса (Приложение 6). Для сравнительного анализа привлекались также данные ряда исследований конца XX - начала XXI вв., частично затрагивающих интересующую нас проблематику: «Чтение в библиотеках России», «Чтение как духовная ценность», «Досуговые интересы и предпочтения населения», «Городские потребители: социально-демографический портрет» [65; 203; 205; 215; 225-229].
В разные времена читательское поведение во многом определялось чёткой структурированностью социума, создававшей предпосылки для объединения людей в группы по книжным предпочтениям. Поэтому, опираясь на теории многомерной стратификации общества, библиотековеды могут отслеживать динамику состава читательской аудитории в соотнесении с динамикой структуры населения в целом, прогнозировать возможные тенденции в её трансформациях.
Под стратификационной структурой понимается многомерное, иерархически организованное социальное пространство, в котором социальные группы и слои различаются между собой степенью обладания властью, собственностью и статусом [214, С. 8].
Социальная стратификация предполагает выделение общественных групп по различным социально значимым критериям или признакам и выстраивание взаимной иерархии этих групп. Построив стратификацию, мы получаем одну из возможных моделей реального общества [55].
Осмыслению процесса стратификации российского общества посвящены исследования Л.А.Беляевой [13; 15], З.Т. Голенковой, М.К. Горшкова [94; 182], Т. Гуровой, М. Тарусина [55], Н.М. Давыдовой [56], Т.И. Заславской [89; 90], Е.Д. Игитханян, И.П. Поповой, Н.Е. Тихоновой [210; 211; 214].
Исследователи отмечают две существенные особенности стратификации современной России. Во-первых, динамический характер социальной стратификации за последние пятнадцать лет, когда произошел переход от одномерной социальной структуры к новому типу, где действует множество факторов и критериев, определяющих положение социальной группы и индивида в социальной стратификации. Во-вторых, подвижность, нестабильность социальной стратификации современной России, поскольку трансформационные процессы в обществе ещё далеко не закончились [15]. За годы реформ в социальной стратификации российского общества произошло заметное углубление дифференциации материального положения, качества жизни и жизненных шансов для различных групп и слоев. Этот факт зафиксирован и массовым сознанием, именно своим материальным положением и реальным образом жизни руководствуется большинство россиян, определяя сегодня свой социальный статус в обществе [210]. Данный критерий использовался в качестве первого шага к построению интегральной модели стратификации российского общества в исследовании Института комплексных социальных исследований РАН «Изменяющаяся Россия: формирование новой системы стратификации». На основе его показателей, создана шкала вертикальной стратификации, показавшая разницу жизненных шансов россиян в сфере потребления, в том числе в сфере культуры и чтения.
Основой построения индекса уровня жизни являлась гипотеза о том, что рассмотрение реального уровня жизни включает не только оценку благосостояния, но и оценку уровня депривации, т.е. испытываемых частью населения лишений и ограничений в общепринятом наборе потребительских благ. Реально имеющиеся у каждого человека «блага» и испытываемые им лишения дают в совокупности реальную картину уровня его жизни. Причём признаки депривации ими испытываемых лишений оценивались при расчете индекса со знаком «минус», в то время как наличие тех или иных ресурсов (имущества, недвижимости, сбережений) - со знаком «плюс». Это позволяло математически отразить тот факт, что испытываемые лишения и имеющиеся блага в жизни каждого человека могут взаимокомпенсироваться.
Аксиологический профиль социального портрета читателей библиотек как основа контента библиотечного обслуживания
Изменения в качестве жизни населения России, резкое падение уровня благосостояния населения, социальное расслоение общества, снижение уровня социальной защищенности основных групп населения, структурные изменения рынка труда оказывают существенное влияние на мотивацию обращения к услугам библиотеки, содержание и качество информации, необходимой для образовательных, профессиональных, культурных, рекреационных целей. Другими словами, характеристики занятости, благосостояния, положения в обществе действуют не прямо, а определяются социокультурным контекстом, выражаются в мотивации обращения к услугам библиотек, информационной культуре и информационном поведении [34]. Эти аспекты могут быть описаны через построение аксиологического профиля социального портрета читателей библиотек.
Аксиология - философская дисциплина, занимающаяся исследованием ценностей как смыслообразующих оснований человеческого бытия, задающих направленность и мотивированность человеческой жизни, деятельности и конкретным деяниям и поступкам [198, С.17]. Её назначением и главной задачей является раскрытие ценностного феномена, его места в реальности, установление структуры ценностного мира, построение иерархии ценностей и их типологизация [151, С.22].
Существует большое количество определений понятия «ценность». В социологической энциклопедии - «ценность — термин, используемый в философии и социологии для указания на человеческое, социальное и культурное значение определённых объектов и явлений и отсылающий к миру должного, целевого, смысловому основанию» [198, С. 1216]. М.Д. Мирзоян даёт следующее определение: «ценности - общие представления, разделяемые большей частью общества, относительно того, что является желательным, правильным, полезным» [131].
Фактически на прикладном уровне чаще используется понятие не «ценность», а «ценностные ориентации». Ценностные ориентации — элементы внутренней структуры личности, сформированные и закреплённые жизненным опытом индивида в ходе процесса социализации социальной адаптации, отграничивающие значимое, существенное для данного человека от незначимого, несущественного через принятие личностью определённых ценностей, осознаваемых в качестве рамки (горизонтов) предельных смыслов и основополагающих целей жизни, а также определяющие приемлемые средства их реализации. Ценностные ориентации проявляются и раскрываются через оценки, которые человек даёт себе, другим, обстоятельствам, через его умение сконструировать жизненные ситуации, принимать решение в проблемных и выходить из конфликтных ситуаций, через избираемые им линии поведения, через умение задавать и изменять доминанты собственной жизнедеятельности [198, С.1215].
В качестве теоретического основания концепции ценностных ориентации выступает учение М. Вебера о ценностно-рациональном действии. Социальное действие — одно из центральных понятий веберовской социологии. По его определению: ««Социальным» мы называем такое действие, которое по предполагаемому действующим лицом или действующими лицами смыслу соотносится с действием других людей и ориентируется на него» [35, С.602 - 603]. Понятие смысла выводится из соотношения цели и средств. Изучение различных вариантов такого соотношения приводит М. Вебера к построению идеальной типологии социальных действий. Речь идёт о том, что любые поступки и действия, совершаемые людьми, могут быть «измерены» с помощью этих своеобразных эталонов, то есть могут с большей или меньшей степенью приближения отнесены к одному из четырёх идеальных типов, описанных М. Вебером.
«Социальное действие, подобно любому другому поведению, может быть: 1) цглграциональным, если в основе его лежит ожидание определённого поведения предметов внешнего мира и других людей и использование этого ожидания в качестве «условий» или «средств» для достижения своей рационально поставленной и продуманной цели; 2) ценностно-рациональным, основанным на вере в безусловную — эстетическую, религиозную или любую другую — самодовлеющую ценность определённого поведения как такового, независимо от того, к чему оно приведёт; 3) аффективным, прежде всего эмоциональным, то есть обусловленным аффектами и эмоциональным состоянием индивида; 4) традиционным, то есть основанным на длительной привычке» [35, С.628].
Только ценностно-рациональное и целерациональное действия, по мнению М. Вебера, являются социальными. Рассмотрим подробнее ценностно-рациональное действие. Этот идеальный тип социального действия предполагает совершение таких поступков, которые основаны на убеждённости в самодостаточной ценности поступка как такового, иными словами, здесь в качестве цели выступает само действие. Ценностно-рациональное действие, по Веберу, всегда подчинено определённым требованиям, в следовании которым индивид видит свой долг. «Чисто ценностно-рационально, - утверждает М. Вебер, - действует тот, кто, невзирая на возможные последствия, следует своим убеждениям о долге, достоинстве, красоте, религиозных предначертаниях, благочестии или важности «предмета» любого рода. Ценностно-рациональное действие всегда подчинено «заповедям» или «требованиям» в повиновении которым видит свой долг данный индивид.» [35, С.629]. Осознанность такой направленности своих действий, соотнесение их с определёнными представлениями о ценностях — о долге, достоинстве, красоте, морали — уже говорит об определённой рациональности, осмысленности. В то же время по сравнению с целерациональным типом «ценностная рациональность» действия несёт в себе нечто иррациональное, поскольку абсолютизирует ценность, на которую ориентируется индивид.