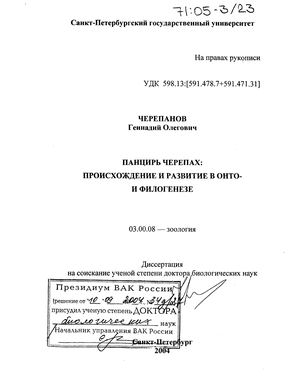Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Развитие панциря в онтогенезе черепах 21
1.1. Средиземноморская черепаха — Testudo graeca 21
1.2. Болотная черепаха — Emys orbicularis 47
1.3. Дальневосточная черепаха — Trionyx sinensis 65
Глава 2. Формирование общего плана строения черепах 80
Заключение 86
Глава 3. Закономерности морфогенеза рогового панциря 87
3.1. Развитие кожи и ее производных 87
3.1.1. Дифференциация эпидермиса и дермы 88
3.1.2. Роговые щитки и чешуи 94
3.1.3. Особенности развития кожи Trionychidae 101
3.2. Разнообразие роговых щитков 104
3.3.1. Индивидуальные свойства щитков 105
3.2.1. Коррелятивные свойства щитков 109
3.3. Изменчивость фолидоза и закономерности формирования мозаики щитков 111
3.3.1. Аномалии щиткования 112
3.3.2. Закономерности формирования мозаики щитков и природа изменчивости 117
Заключение 126
Глава 4. Закономерности морфогенеза костного панциря 129
4.1. Природа невральных и костальных пластинок 129
4.2. Текальные и эпитекальные окостенения в свете морфогенетических данных 136
4.1.2. Нухальная пластинка 137
4.1.2. Костные элементы пластрона 143
4.2.2. Периферальные, супрапигальные и пигальная пластинки 147
4.2.4. Особенности развития пластинок панциря Trionychidae 153
4.3. Индивидуальная изменчивость костного панциря и ее природа 161
4.3.1. Аномалии костного панциря 162
4.3.2. Природа изменчивости костных пластинок 167
4.4. Форма передних элементов пластрона 176
4.4.1. Морфогенетические корреляции 177
4.4.2. Происхождение энто- и эпипластронов Trionychidae 181
4.5. Конструктивные особенности карапакса черепах 186
Заключение 194
Глава 5. Формирование панциря в филогенезе черепах 198
5.1. Проблема происхождение черепах: история изучения 198
5.2. Закономерность морфогенеза и становление конструкции рогового панциря 201
5.3. Происхождение костного панциря и эволюционные преобразования его конструкции 215
Заключение 228
Выводы 231
Литература 235
Приложение 261
- Дифференциация эпидермиса и дермы
- Изменчивость фолидоза и закономерности формирования мозаики щитков
- Текальные и эпитекальные окостенения в свете морфогенетических данных
- Индивидуальная изменчивость костного панциря и ее природа
Введение к работе
Черепахи (отряд Testudinata, или Chelonia) — группа позвоночных, отличающаяся уникальной конструкцией посткраниального скелета. Они имеют короткое туловище, заключенное в мощный панцирь, сложенный элементами различного происхождения. Поверхностный слой панциря составляют производные эпидермиса — роговые щитки, внутренний — развивающиеся в дермальном слое кожи костные пластинки. Кроме обычных для рептилий элементов, образующих панцирь, таких как остеодермы и брюшные ребра (гастралии), в состав костного панциря черепах включены элементы внутреннего скелета — позвонки и ребра, а также покровные окостенения плечевого пояса — ключицы и межключица. Таким образом, формирование консолидированного панциря явилось причиной модификации всей скелетно-мышечной системы черепах и оказало существенное влияние на строение и функционирование внутренних органов и их систем (Burke, 1989 б; Lee, 1996а; Gilbert et al., 2001; Rieppel, 2001).
Панцирь — это генеральная структурная особенность черепах, присущая всем без исключения представителям отряда. Даже самые ранние их формы, позднетриасовые проганохелидии (Proganochelydia), характеризуются типичной конструкцией панциря (Gaffney, 1990). В целом для черепах характерна высокая степень консерватизма их базовой модели. На это указывает ход исторического развития группы: в течение более 200 миллионов лет состав элементов панциря не претерпел принципиальных изменений; за малым исключением, его преобразования касались в основном лишь количественных характеристик (Суханов, 1964; Zangerl, 1969; Mlynarsky, 1976). Это обстоятельство позволяет использовать сведения по развитию панциря в онтогенезе современных черепах для решения вопроса о его филогенетическом происхождении (Vallen, 1942; Cherepanov, 1989, 1997, 2003).
Изучение строения черепах и их онтогенетического развития началось во второй половине XIX века. Это был период становления классических направлений сравнительной анатомии и сравнительной эмбриологии, время, когда данные этих наук стали широко использоваться для эволюционных построений. Крупнейшие морфологи того времени не обошли своим вниманием черепах, посвятив изучению этой группы основополагающие труды (Rathke, 1848; Owen, 1849; Agassiz, 1857; Haycraft, 1890; Goette, 1899, и др.). В результате усилий многих исследователей к началу XXI века накопилась обширная литература по развитию костного панциря у черепах многих видов (см. Zangerl, 1969; Ewert, 1985; Rieppel, 1993 Cherepanov, 1997; Alibardi, Thompson, 19996; Gilbert et al., 2001). Однако различие теоретических позиций, которые занимали разные авторы, оказало существенное влияние как на описание фактического материала, так и на интерпретацию эмбриологических данных. В итоге, единая точка зрения на природу костных элементов панциря черепах не была сформирована.
В результате палеонтологических, сравнительно-анатомических и эмбриологических исследований возникли две принципиально различные концепции происхождения костного панциря черепах, которые не потеряли своих сторонников до настоящего времени. Согласно первой концепции, все или, по крайней мере, основные пластинки панциря имеют сложное
происхождение: они развились у черепах в результате слияния первичного остеодермального покрова с костями внутреннего скелета (Owen, 1849; Hoffmann, 1890; Procter, 1922; Kalin, 1945; Suzuki, 1963; Zangerl, 1969, и др.). Эта точка зрения базируется, в основном, на косвенных сравнительно-анатомических данных; исторически она сформировалась из ныне устаревшей идеи первичности многослойного костного панциря кожистых черепах (Dermochelyidae), раньше выделяемых в особую группу Atheca. Согласно второй концепции, все элементы панциря имеют простую природу, поскольку, как показывают данные по онтогенезу, развиваются каждый из анатомически единого зачатка (Rathke, 1848; Parker, 1868; Goette, 1899; Newman, 1905; Ruckes, 1929; Vallen, 1942, и др.). Указанные различия во взглядах объясняются не только теоретическими пристрастиями авторов, но и недостаточной изученностью вопроса. Несмотря на относительное обилие оригинальных работ, касающихся развития панциря черепах, в большинстве своем они носят частный характер и обычно затрагивают лишь отдельные аспекты проблемы. Однако важнейшая причина спорности выводов, а зачастую и противоречивости морфогенетических данных, кроется в характере исследуемого материала. В подавляющем большинстве работ используемый материал фрагментарен. Он включает лишь некоторые, часто далеко отстоящие друг от друга стадии развития. Это затрудняет, а иногда делает невозможной, реконструкцию процесса морфогенеза, нередко приводит к ошибочным выводам относительно природы исследуемых структур. Еще одной причиной ошибок являются неадекватные целям методы исследования. Так, например, использование исключительно морфологических методов, в частности тотальной окраски скелета, вряд ли может служить достаточным основанием для выводов о гистологическом строении и происхождении костей. Однако этим довольно часто грешат старые литературные источники. Несмотря на явные огрехи в методологии этих исследований, их выводы продолжают тиражироваться в научной и учебной литературе.
Относительно данных, касающихся строения и развития рогового панциря черепах, ситуация имеет принципиально иной характер. Работы по этой теме пока очень редки, а имеющиеся посвящены в основном изучению морфологии эпидермиса взрослых животных, его ультраструктуры и гистохимической организации (Stolk, 1955; Spearman, 1969; Alexander, 1970; Baden, Maderson, 1970; Matoltsy, Huszar, 1972; Solomon et al., 1986; Alibardi, 2002, и др.). О развитии роговых элементов панциря черепах до недавнего времени существовали лишь самые общие и отрывочные сведения (Lange, 1931; Nelsen, 1953). Этим обусловлено практически полное отсутствие данных по обсуждаемому вопросу в крупнейших сводках по интегументу и эмбриологии рептилий (Ewert, 1985; Maderson, 1985; Landmann, 1986).
В последние десятилетия наметилось заметное возрастание интереса к проблеме происхождения черепах. Это связано, с одной стороны, с многолетней интригой нерешенности указанной проблемы, с другой — с появлением новых подходов к филогенетическому анализу, в частности, с развитием молекулярной систематики и кладистики. Однако использование новых методов и привлечение к анализу более широкого спектра критериев привело только к увеличению разнообразия гипотез относительно взаимоотношения черепах с другими группами высших позвоночных (амниот). Так, основываясь на остеологических характеристиках, черепах чаще всего рассматривают в качестве примитивных амниот — парарептилий (Ивахненко, 1987), сближая их с проколофонами (Laurin, Reisz, 1995) или парейазаврами (Lee, 1996а, 1997). Иногда их предков ищут среди карториноморфов — ранних амниот неясного систематического положения (Gaffhey, McKenna, 1979; Gaffney, 1984, 1990; Carroll, 1988). Данные молекулярной систематики указывают на то, что черепахи могут являться одной из групп диапсидных рептилий (Zardoya, Meyer, 1998; Mannen, Li, 1999, и др.). Кроме этого диапсидное происхождение черепах подтверждают и некоторые их морфологические характеристики (Rieppel, 1995; Rieppel, Reisz, 1999). Таким образом, можно заключить, что, несмотря на возросшую интенсивность таксономических исследований, вопрос о филогенетических связях и предках черепах далек от разрешения.
Все вышесказанное утвердило меня в мысли о необходимости проведения широкого системного исследования развития панциря в онтогенезе черепах. В виду отсутствия прямых палеонтологических данных (переходных форм), познание онтогенетической природы панциря, наряду с тем, что само по себе имеет большую самостоятельную ценность, также несет важнейшую информацию об его филогенетическом происхождении. А это является, возможно, пока единственным ключом к решению проблемы происхождения черепах в целом.
Основными целями настоящей работы являются:
1. Провести комплексное изучение развития рогового и костного панциря в онтогенезе черепах.
2. Выявить морфогенетические корреляции и закономерности развития.
3. Основываясь на морфогенетических данных, реконструировать процесс становления и развития панциря в филогенезе черепах.
Чтобы достигнуть указанных целей, предлагаются следующие методологические подходы:
і. Выбор модельных объектов (видов) — представителей разных филогенетических линий черепах, одни из которых имеют сходный морфотип, другие — резко отличающийся. (Это позволит провести сравнительный анализ морфогенезов, решить задачу по выявлению общих и специфических закономерностей развития.)
2. Максимально подробное изучение развития на всех стадиях онтогенеза (эмбриональных и постнатальных), в том числе и на стадиях, предшествующих появлению исследуемых структур. (Это позволит наиболее полно реконструировать ход морфогенеза, представить динамику развития структур.)
3. Исследование развития элементов рогового и костного панциря в комплексе со всеми окружающими структурами. (Это позволит выяснить роль окружающих органов и тканей в процессах формообразования, выявить коррелятивные отношения в ходе морфогенеза, и, в конечном итоге, приблизится к пониманию механизмов развития.)
4. Изучение большого (максимально доступного) числа особей исследуемых видов. (Это позволит выявить весь спектр возможных уклонений от нормы, использовать данные по аномальному развитию в качестве природного эксперимента для уточнения механизмов морфогенеза.)
5. Сочетание «грубых» морфологических методов и «тонких» методов микроскопии. (Это позволит оптимизировать процесс исследования, и в целом при сохранении трудоемких гистологических подходов достигнуть существенного увеличения числа исследуемых особей.)
6. Сопоставление морфогенетических данных с данными палеонтологии и сравнительной анатомии. (Это позволит экстраполировать данные по морфогенезу на филогенез, предложить непротиворечивый эволюционный сценарий становления и развития панциря черепах.)
Следует особо подчеркнуть, что в основе настоящего исследования лежит анализ морфогенетических корреляций и, по возможности, выяснение причинно-следственных связей развития морфологических структур. Каузальный подход представляется наиболее продуктивным в плане получения новой информации, так как именно он позволяет приблизиться к пониманию механизмов онтогенетического развития (см. Филатов, 1941, 1943; Борхвардт, 1982; Коваленко, 1992, и др.). В свою очередь, познание закономерностей морфогенеза является базой для выявления хода исторического развития организмов, поскольку одним из движущих факторов эволюции является изменение способа формирования органов в онтогенезе.
Автор выражает искреннюю благодарность проф. В.Г. Борхвардту за многолетнюю бескорыстную помощь и содействие в проведении исследований, за ценные советы и замечания, сделанные в ходе написания работы, за предоставление многих фиксированных и гистологических материалов. Я глубоко признателен доцентам, Л.И. Хозацкому, А.Э. Айрапетьянц и кандидату биологических наук Т.Х. Спасской (Дагестанский государственный I университет) за содействие в организации сбора коллекций в Туркмении и Дагестане, а также проф. Зенг (Сычуаньский университет, КНР) за предоставленную возможность сбора и обработки китайских материалов. Особую благодарность выражаю члену-корреспонденту РАН, проф. И.С. Даревскому и доктору биологических наук Н.Б. Ананьевой за любезно предоставленную возможность ознакомиться с герпетологическими коллекциями Зоологического института РАН. Я благодарен А.О. Иванову и И.Г. Данилову за помощь в фотографировании тотальных материалов, М.В. Пыстиной за подготовку ряда ализариновых препаратов и Н.В. Балеевой за подготовку части гистологических срезов. Автор сердечно признателен всем сотрудникам и студентам кафедры зоологии позвоночных Санкт-Петербургского государственного университета за многолетнюю помощь и поддержку в ходе полевых и камеральных работ, за создание теплой творческой атмосферы как на кафедре, так и вне ее стен.
Дифференциация эпидермиса и дермы
Строение эпидермиса взрослых черепах видоспецифично, кроме того, его структура варьирует на разных частях тела животного и может быть представлена обособленными альфа- или бета-кератинизированными зонами (см. Maderson, 1985). У большинства черепах голова, шея, конечности и хвост покрыты мягким альфа-кератинизированным эпидермисом, в то время как эпидермальный (роговой) туловищный панцирь образован толстым слоем твердого бета-кератина (Spearman, 1969; Alexander, 1970; Baden, Maderson, 1970; Alibardi, Thompson, 1999a; Alibardi, 2002). Такое распределение характерно, прежде всего, для пресноводных черепах, оно описано, например, у представителей Emydidae — Pseudemys scripta, Chrysemys gicta и Graptemys_ geographica — и у бокошейной черепахи Emydura macquarii. Мною подобное распределение альфа- и бета-кератиновых зон обнаружено у Emys orbicularis. Напротив, роговой покров панциря мягкокожих черепах Trionyx sinensis (Черепанов, 1992) и Trionyx ferox, а также морской черепахи Dermochelys coriacea (см. Maderson, 1985) отличается наличием только альфа-кератина. Особое строение имеет эпидермис чешуи, расположенных на конечностях сухопутных черепах родов Testudo и Gopherus. Наружная поверхность этих чешуи сложена исключительно бета-кератином, как и панцирь, а внутренняя — альфа-кератином. Также как и щитки панциря, эти чешуи характеризуются наличием колец годичного прироста рогового вещества (рис. 66). По характеру чередования альфа- и бета-каратиновых участков указанные чешуи схожи с роговыми элементами, расположенными на туловище крокодилов и на ногах птиц (Baden, Maderson, 1970).
Из исследованных мною черепах развитие покровов панциря у Т. graeca и Е. orbicularis происходит в принципе одинаково (у Tr. sinensis кожа формируется особым образом, что будет рассмотрено отдельно — см. раздел 3.1.3). При сравнении первых двух видов наблюдаются лишь некоторые количественные различия, связанные с небольшими вариациями в строении дефинитивных структур. Так, эпидермис панциря болотной черепахи на стадиях развития близких к вылуплению отличается более интенсивной пигментацией (пигментные клетки встречаются и в области дна роговых борозд) и меньшей толщиной и плотностью рогового слоя (рис. 23, б; 39, а). Плевральные плакоды Е. orbicularis характеризуются более крупными размерами и необычной шаровидной формой (рис. 31), маргинальные плакоды ХП-й пары не сливается, роговые бугорки на пластроне практически не выражены. В кориуме Е. orbicularis коллагеновые волокна не образуют под роговыми бороздами крупных пучков (рис. 39,6), так характерных для Т. graeca (рис. 24).
О формировании кожного покрова можно говорить, начиная со стадии распадения сомитов (11—12-я эмбриональные стадии), когда свободное до этого субэктодермальное пространство заполняется клетками дерматома (рис. 6, б). В основном однослойная прежде эктодерма превращается в эпителий, состоящий из двух клеточных слоев — внутреннего базального слоя и наружного слоя перидермы (рис. 7, а2). На различных частях тела зародыша форма клеток базального слоя варьирует от уплощенной до кубической или цилиндрической, при этом концентрация клеток перидермы в первом случае уменьшается, во втором — возрастает (рис. 6, а ; 30, а).
Следующим этапом в развитии кожи является формирование между базальным слоем эпидермиса и перидермой промежуточного (супрабазального) пласта клеток, характеризующихся округлой или слабоуплощенной формой. Впервые супрабазальные клетки обнаруживаются в области локальных эпидермальных утолщений — эпидермальных плакод (рис. 7), затем клетки этого слоя появляются в других частях эпидермиса. Процесс формирования промежуточного слоя охватывает длительный период эмбрионального развития и завершается приблизительно к 18-й стадии. На этом этапе базальные и супрабазальные клетки, по-видимому, отличаются повышенной митотической активностью (здесь чаще видны митозы в сравнении с перидермой и кориумом). Клетки кориума приобрели звездчатую форму, они расположены относительно рыхло, так как разделены широкими межклеточными промежутками, заполненными матриксом (рис. 8, а; 33). Наличием эпидермиса, состоящего их трех пластов (базального, промежуточного и перидермы) характеризуются и последующие 19 и 20-# стадии эмбрионального развития, наблюдаемые небольшие изменения толщины эпидермиса связаны исключительно с увеличением слоистости (толщины) его промежуточного пласта. Однако дермальный слой кожи на этом этапе претерпевает существенные изменения. Его клетки приобретают веретеновидную форму фибробластов (рис. 18, 49), становятся заметными тонкие коллагеновые волокна и пигментные клетки.
Новый этап развития эпидермиса (21-я эмбриональная стадия) — возникновение зародышевого рогового пласта (рис. 21, а; 54, а). Этот пласт состоит из нескольких слоев чешуевидных базофильно окрашенных клеток, слабо отличимых от клеток перидермы. Между ним и базальным слоем дифференцируются один—три ряда клеток промежуточного пласта с проникающими сюда меланоцитами. Общая толщина эпидермального слоя достигает 20 мкм, что вдвое больше, чем на ближайших предшествующих стадиях онтогенеза.
Завершающим этапом развития покровов панциря черепах является формирование дефинитивной структуры эпидермиса и дермы. Его начало ознаменовано появлением на 22-й стадии эмбриогенеза под зародышевым роговым пластом ороговевающих клеток, дифференцирующихся по пути бета-кератинизации (рис. 21, в; 38, б). Однако полностью сформированный роговой покров наблюдается только на стадии вылупления. Он четко стратифицирован на три пласта: ростковый (включает базальный и промежуточный слои), состоящий из 2—3-х рядов живых клеток; зернистый (ороговевающий), построенный несколькими рядами слабо уплощенных оксифильных клеток; и роговой (бета-кератиновый), составленный плотно сцепленными неокрашенными роговыми чешуйками (рис. 23, б). Характерные для эмбриональных стадий развития перидерма и зародышевый роговой пластслущиваются. Линией разделения между этими провизорными слоями кожи и дефинитивным бета-кератиновым пластом служит формирующийся на финальных стадиях эмбриогенеза тонкий альфа-кератиновый слой.
Изменчивость фолидоза и закономерности формирования мозаики щитков
Мозаика щитков панциря черепах характеризуется высокой эволюционной стабильностью. Уже древнейшие из представителей отряда Testudinata имели типичный рисунок щиткования, лишь деталями отличающийся от такового у современных форм. Вместе с тем давно было замечено, что индивидуальная изменчивость фолидоза черепах имеет необыкновенно широкие пределы, причем как по числу вариантов уклонений от нормы, так и по их встречаемости (см. Zangerl, 1969). На сегодняшний день описаны тысячи аномальных особей черепах, принадлежащие почти всем современным и многим ископаемым видам (см. Gadow, 1899, 1901; Parker, 1901; Newman, 1905; Coker, 1910; Vogel, 1912; Deraniyagala, 1934; Lynn, 1937; Mlynarski, 1956, 1981 Zangerl, Johnson, 1957; Алекперов, Хозацкий, 1971; Douglass, 1977; Ewert, 1979; Pritchard, 1979; Брушко, Кубыкин, 1980; Стальмакова, Харлампиди, 1987, и др.). Однако относительно морфогенетических причин столь высокой вариабельности рогового панциря долгие годы строились лишь догадки. Предполагалось, что аномалии щитков появляются как ответ на какое-то генетическое или тератогенетическое воздействие (Zangerl, Johnson, 1957). Скоррелированность некоторых типов аномалий позволила утверждать, что у черепах существует некая система контроля щиткования (Zangerl, 1969; Ewert, 1979), но суть ее оставалась неясной. Только проведенные в последние годы исследования по морфогенезу панциря черепах способствовали решению обсуждаемой проблемы. Познание хода и закономерностей онтогенетического развития позволило судить о причинах аномалий, более точно оценить их значение для систематики и филогенетики (Черепанов, 1987,1991а, б, 2002, 2003; Cherepanov, 1989).
У 768 экземпляров взрослых черепах четырех видов — Mauremys caspica (78 экз.), Emys orbicularis (231 экз.), Testudo graeca (247 экз.), Agrionemys horsfieldi (212 экз.) — мною была исследована внутривидовая изменчивость щиткования панциря. У 100 экземпляров, что составляет 13 % от числа исследованных особей, обнаружены различные отклонения от нормы в роговом покрове панциря. В карапаксе аномалии встречены у 80, в пластроне — у 21 экземпляров. Аномалии щиткования подразделяются на пять основных типов (табл. 5). 1. Необычная форма или размер щитков при нормальном их количестве в панцире. 2. Наличие дополнительных щитков. 3. Отсутствие одного или нескольких щитков. 4. Неполное разделение щитка. 5. Неполное слияние нескольких щитков. Аномалии первого типа (необычная форма или размер щитков) относительно редки (5,1% от общего числа аномалий). Такое состояние обычно связано с локальной асимметрией щитков на левой и правой стороне тела, которая не сопровождается существенной перестройкой щиткования в целом. В качестве примера можно привести экз. A. horsfieldi (СПбГУ № 32), у которого левый плевральный щиток четвертой пары значительно меньше нормального по размеру правого.
Аномалии второго типа (наличие дополнительных щитков) — наиболее частые в роговом панцире черепах (69,1% от общего числа аномалий). При этом наибольшей вариабельностью отличаются щитки центрального и плевральных рядов карапакса (76,7% от числа аномалий, связанных с наличием дополнительных щитков). Почти у 50% особей, имеющих дополнительные центральные щитки, присутствуют и дополнительные плевральные щитки, в остальных случаях плевральные щитки противоположных сторон тела обычно асимметричны. Примеры таких аномалий приведены на рис. 78. Наличие дополнительных маргинальных щитков — вторая по значимости форма описываемых аномалий (11,8% от общего их числа). Она обнаружена у всех изученных нами видов, примерно в равных пропорциях, как и аномалии, связанные с присутствием дополнительных пластральных щитков, однако последние встречаются значительно реже (3,7% от общего числа аномалий). Аномалии третьего типа (отсутствие одного или нескольких щитков) составляют 7,4% от общего числа аномалий. Этот тип аномалий отличается наибольшей специфичностью: он не обнаружен у представителей семейства Emydidae (характерен в основном для Т. graeca) и ни в одном случае не затронул роговые элементы пластрона. Аномалии четвертого типа (неполное разделение щитка) и пятого типа (неполное слияние нескольких щитков) довольно обычны (18,3% от общего числа аномалий) и встречаются как в карапаксе, так и в пластроне. В первом случае (четвертый тип) дополнительная борозда проходит по зоне годичных приростов щитка, но не затрагивает его эмбриональный участок (15,4%). Во втором случае (пятый тип) не полностью выраженная борозда разделяет эмбриональные щитки, но прерывается в зоне годичных приростов (2,9%). Аномалии типов 1, 2 и 3 связаны с нарушениями эмбриональных процессов щиткования, аномалии типов 4 и 5 — с нарушениями процессов прироста щитков в постнатальный период.
Текальные и эпитекальные окостенения в свете морфогенетических данных
В середине прошлого века было установлено, что у некоторых рептилий, в частности, у кожистой черепахи {Dermochelys coriacea) покровные кости располагаются в дерме в два обособленных слоя, залегая одни над другими. Это обстоятельство послужило основанием для выделения у тетрапод двух типов (уровней) дермальных окостенении (Hay, 1898). Они получили предложенные X. Вёлкером (Volker, 1913) названия: глубокий — текального, поверхностный — эпитекального. Наибольшую актуальность вопрос о соотношении теки и эпитеки приобрел в хелонологии, так как именно в отношении черепах он вывел исследователей на две ключевые проблемы. Во-первых, в связи с обнаружением двух уровней покровных окостенений широкое обсуждение получила проблема, касающаяся происхождения костного панциря черепах и его строения у предковых форм (Hay, 1898; Dollo, 1901; Volker, 1913; Versluys, 1914; Deraniyagala, 1930; Суханов, 1964; Zangerl, 1969; Черепанов, 1988). Во-вторых, деление кожных окостенений на текальные и эпитекальные стало использоваться как критерий для разделения черепах на два крупных таксона — Atheques и Thecophores (Dollo, 1901, и др.). Такое представление о системе черепах еще недавно было распространено в литературе (см. Bergounioux, 1955).
С накоплением знаний по эмбриологии и сравнительной анатомии позвоночных стало очевидным, что текальные и эпитекальные окостенения различаются не только уровнем залегания в дерме, но и рядом других особенностей. Так, было установлено, что для эпитекальных костей характерно позднее возникновение в онтогенезе, наличие корреляции между их расположением и расположением роговых элементов кожи, большая количественная вариабельность. Введение нескольких характеристик в понятия «текальность» и «эпитекальность» привело к тому, что была потеряна строгая определенность этих понятий. У многих авторов возникло свое понимание обсуждаемых терминов. Стало обычным выделение текальных и эпитекальных костей у рептилий, не имеющих в дефинитивном состоянии их двухслойного расположения. В итоге вопрос о соотношении теки и эпитеки был чрезвычайно усложнен, особенно в отношении панциря черепах (см. Hay, 1898, 1928; Goette, 1899; Volker, 1913; Versluys, 1914; Vallen, 1942; Zangerl, 1969). Однако обсуждаемая проблема важна не только при рассмотрении рептилий, она существенна для понимания закономерностей строения и эволюции скелета всех позвоночных животных. Решение ее, по моему мнению, кроется в специальном изучении морфогенеза кожного скелета позвоночных и, в первую очередь, черепах, так как панцирь этих рептилий представляет собой наиболее сложную систему окостенении дермального происхождения.
Нухальная (загривковая) пластинка — важный элемент костного панциря черепах. Она представляет собой крупное окостенение, расположенное по переднему краю спинного щита, и служит для крепления ряда мускулов плечевого пояса и основания шеи. В отличие от большинства пластинок панциря нухальный элемент — наиболее постоянный компонент скелета черепах, так как сохраняется даже в случаях максимальной редукции костного панциря.
Относительно происхождения нухальной пластинки черепах высказывались различные, часто противоречивые предположения. Ранние исследователи считали эту пластинку карапакса элементом внутреннего скелета, а именно, или остистым отростком шейного позвонка, который якобы стал свободным (Cuvier, 1825, и Wagler, 1830, по Vallen, 1942), или парой ребер последнего шейного позвонка (Baur, 1887а; Bemmelen, 1895; Volker, 1913). В пользу реберного происхождения нухального элемента приводились различные аргументы. Г. Баур (Baur, 1887а) указывает, что если у Dermochelys coriacea нухальная пластинка покрыта мозаичным костным панцирем кожного происхождения, то она сама, следовательно, не может считаться дермальной. Эндоскелетная природа этого элемента подтверждается, по мнению Г. Гадова (Gadow, 1901), и обнаружением пары симметричных нухальных пластинок, подобных реберным, у миоценовой черепахи Chelydropsis carinatus (carinata). Наличие ребровидных отростков по краям нухальной кости у некоторых представителей семейств Dermatemydidae, Chelydridae и Kinosternidae также приводится в качестве доказательства их реберного происхождения (Boulenger, 1889; Gadow, 1901, 1933, и др.). Последние авторы предполагали комплексную природу нухальной пластинки и рассматривали ее как слияние последней пары шейных ребер и независимого кожного окостенения, каковым полагали переднюю позвоночную (невральную) пластинку.
Исследование морфогенеза панциря Е. orbicularis, Т. graeca и Tr. sinensis показывает, что нухальная пластинка развивается в дерме в результате оссификации скопления мезенхимных клеток (рис. 18; 37; 47, а). Эти данные согласуются с результатами предшествующих работ по онтогенезу панциря черепах (Rathke, 1848; Goette, 1899; Menger, 1931; Zangerl, 1939; Vallen, 1942, и др.). Таким образом, гистогенез нухального элемента не отличается от развития типичных дермальных окостенений у позвоночных животных, и, следовательно, эта пластинка имеет исключительно кожное происхождение. Возникновение ребровидных отростков по бокам нухальной пластинки хорошо прослеживается в онтогенезе, например, Е. orbicularis (рис. 42, а) и связано, по-видимому, с быстрым разрастанием кости под центро-маргинальными бороздами.
В начале XX века широкое распространение в литературе получила идея причисления нухального элемента к пластинкам позвоночной (невральной) серии. Она базировалась на предположении, что невральные и костальные пластинки черепах имеют кожное происхождение, и их контакт (или слияние) с позвонками и ребрами вторичен. Находясь на этой позиции, ряд авторов (Jaekel, 1914, 1918; Hay, 1928) считает нухальную пластинку в качестве свободной невральной пластинки VIII-го шейного позвонка (аналогично этому, первый туловищный позвонок обладает свободной преневральной пластинкой). В подтверждение этого приводится факт, что у Dermochelys coriacea и некоторых других морских черепах нухальная пластинка имеет контакт с остистым отростком VIII-го шейного позвонка. Такое состояние рассматривается как примитивное, так как у древних черепах, таких как Proganochelys, эти элементы скелета, по мнению указанных выше авторов, вообще слиты. Отсюда следует вывод, что связь между VIII-м позвонком и нухальной пластинкой у черепах потеряна вторично в связи с развитием механизма ретракции шеи и головы под панцирь (Hay, 1928). Однако, как выяснилось недавно, неразрывная связь между нухальной пластинкой и остистым отростком последнего шейного позвонка у Proganochelys была описана ошибочно. Переисследование ископаемых останков этой черепахи показало наличие лишь шовного контакта между обсуждаемыми элементами скелета (Gaffney, 1990).
Индивидуальная изменчивость костного панциря и ее природа
Основной план строения костного панциря, как и рогового, филогенетически очень стабилен. За время эволюции черепах он претерпел лишь незначительные, главным образом количественные изменения, связанные с редукцией некоторых элементов. Вместе с тем исследования современных форм показывают, что в целом конструкция панциря черепах характеризуется широким спектром индивидуальной изменчивости. Однако, если вариабельности (аномалиям) щиткования у черепах было посвящено большое количество специальных публикаций (см. раздел 3.3), то костный панцирь в этом отношении долгое время оставался практически неисследованным. Последнее обусловлено многими обстоятельствами, но главное из них — это невозможность обнаружения большинства костных аномалий, в отличие от роговых, на живых объектах и, следовательно, проблематичность получения столь необходимого для изучения изменчивости массового материала. Использование музейных и научных коллекций тоже имеет свои ограничения, так как необходимая препаровка материала (снятие рогового покрова) не всегда возможна по соображениям его сохранности. Тем не менее, получение данных по вариабельности строения костного панциря имеет важное значение для познания конкретных путей и механизмов его преобразования в онто- и филогенезе черепах. Кроме того, эти данные могут быть использованы в систематике как критерий для выявления значимости диагностических признаков, особенно при работе с фрагментарным, в частности, ископаемым материалом.
Описываемые ниже отклонения от нормы (за норму принимается типичный, наиболее часто встречающийся вариант строения) связаны в основном с изменчивостью мозаики костного панциря черепах. Нужно отметить, что особенностью этой мозаичной структуры является наличие достаточно жесткой корреляции между ее компонентами. В частности, поскольку костные пластинки панциря исследованных видов черепах контактируют друг с другом, то изменение формы и/или размера даже одной из них приводит к компенсаторному изменению формы и/или размера соседних. Такой вариант строения я считаю за одну аномалию, так как он обусловлен одной морфогенетической причиной. Аналогично появление дополнительных пластинок или исчезновение регулярных практически всегда сопровождается компенсаторным изменением формы и/или размера соседних с ними костных элементов. Однако, так как последнее является следствием первого, это следствие, как и в предыдущем случае, не рассматривается мною в качестве отдельного варианта аномалий.
Разделение отклонений от нормы на отдельные классы изменчивости в силу отсутствия между ними четких границ носит в известной степени условный характер (Коваленко, 1992). Тем не менее, для удобства изложения материала оно нередко полезно. В связи с этим обнаруженные варианты отклонений я вслед за другими авторами подразделяю на две стандартные группы: 1) аномалии — варианты строения, относительно редко встречающиеся в природе и достаточно резко отличающиеся от нормы; 2) индивидуальные уклонения — варианты строения, часто встречающиеся в природе и мало отличимые от нормы. Основным материалом для исследования послужили препарированные (очищенные от роговых щитков и мягких тканей) панцири взрослых черепах (510 экз.) четырех видов: Mauremys caspica (82 экз.), Emys orbicularis (150 экз.), Testudo graeca (141 экз.), Agrionemys horsfieldi (137 экз.). Кроме этого на предмет вариабельности исследованы панцири Trionyx sinensis (27 экз.), однако в силу уникальной (не сравнимой с остальными черепахами) морфологии этого вида, данные по нему не включены в приводимый ниже общий анализ. Аномалии костного панциря обнаружены у 121 особи (23, 7% от общего числа исследованных особей) черепах (11 экз. М. caspica, 48 экз. Е. orbicularis, 37 экз. Т. graeca, 15 экз. A. horsfieldi). В карапаксе они встречены у 112 (21,9%), в пластроне — у 17 (3,3%) экземпляров. Наибольшее число аномалий обнаружено в задней половине карапакса (99 экз., 19,4%). В пластроне наиболее вариабельна область между гио- и гипопластронами. Аномалии костного панциря подразделяются на три типа (табл. 6). 1. Необычная форма или размер пластинки при нормальном их количестве в панцире (11,4% от общего числа аномалий). К таким аномалиям относятся следующие варианты строения: — малый размер и клиновидная форма первой невральной пластинки и наличие шва между костальными пластинками передней пары (1 экз. Т. graeca , рис. 83, б); отсутствие контакта между передними и задними супрапигальными пластинками и наличие шва между костальными пластинками последней пары (3 экз. Е. orbicularis);