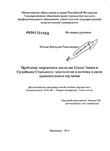Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. Изучение "сцены на сцене": подходы и проблемы
1. Драма со "сценой на сцене " как "метатекст " 15
2. Подходы к изучению "сцены на сцене " 29
3. Драма со "сценой на сцене " как "текст в тексте " 47
ГЛАВА II. Структура драматургического текста со "сценой на сцене"
1. Драма со "сценой на сцене ": структурные доминанты 64
2. "Сцена на сцене" и типологически родственные явления 83
3. Поэтика "сцены на сцене" и проблема "чужого слова" в драматургии 116
ГЛАВА III. Типология "сцены на сцене" 127
1. Основные парадигмы "сцены на сцене" 128
2. Типы "сцены на сцене" во внутренней коммуникативной системе 153
3. Типы "сцены на сцене" во внешней коммуникативной системе 171
Заключение 186
Библиография 192
- Драма со "сценой на сцене " как "метатекст "
- Драма со "сценой на сцене ": структурные доминанты
- Поэтика "сцены на сцене" и проблема "чужого слова" в драматургии
- Типы "сцены на сцене" во внутренней коммуникативной системе
Введение к работе
Взаимодействие текста и контекста является на сегодняшний день одной из центральных проблем филологической науки. Самые разные преломления этой проблематики мы обнаруживаем в историко-литературных изысканиях, исследованиях, проведенных в русле рецептивной эстетики, в работах, посвященных циклу, интертексту, паратексту, метатексту etc. Само воспринимающее художественный текст сознание может быть рассмотрено как своего рода контекст, в который помещается тот или иной текст (Ю.М. Лотман). Рассматривая историю как текст, мы говорим об «историческом контексте» произведения.
При этом сама литература, обгоняя научные изыскания, порождает такие тексты, в которых отношения «текст - контекст» моделируются, оказываясь предметом художественной рефлексии. Одной из литературных форм, идеально приспособленных для такого рода рефлексии, оказывается структура «текст в тексте», основанная на взаимодействии «внешнего» («контекст») и «внутреннего» (собственно «текст») текстов.
Наша диссертация посвящена одной из разновидностей «текста в тексте» в драматургии - «сцене на сцене». О «сцене на сцене» принято говорить в том случае, когда в сюжет драматургического текста включается на правах вставного текста сценическое представление. В литературоведческой практике наряду с термином «сцена на сцене» в отечественной филологии используются такие термины, как «спектакль в спектакле», «театр в театре», «пьеса в пьесе» и «драма в драме». Англоязычные литературоведы (по всей видимости, пионеры в исследовании «сцены на сцене») отдают предпочтение термину «play within the/a play». В работах французских филологов традиционно употребляется термин «thtre dans le thtre», a испаноговорящие исследователи пользуются термином «teatro en el teatro». В немецкоязычных публикациях встречаются следующие термины: «Spiel im Spiel» (калька с «play within the play»), «Theater auf dem Theater», «Theater im Theater», «Schauspiel im Schauspiel» и «Stck im Stck».
Даже простое перечисление существующих терминов позволяет отметить примечательную особенность - большинство наименований отсылают нас к театру. Далее мы попытаемся обосновать тезис о необходимости самого пристального внимания к связи драмы с театром при изучении пьес со «сценой на сцене», пока же отметим тот факт, что существующие обозначения не только называют феномен, но и фиксируют тот или иной взгляд на него.
В нашей работе используется термин «сцена на сцене», поскольку он отвечает основным требованиям, которые, как нам представляется, можно и должно к такому термину предъявить. Данный термин преобладает в отечественной филологической традиции, а кроме того, использование термина «сцена на сцене» позволяет терминологически разграничить данный феномен и такие типологически родственные явления, как «игра в драме» и «театр (формы театрализованного поведения) в театре».
Вместе с тем используя термин «сцена на сцене» применительно к драматургическому тексту, мы оказываемся перед весьма тривиальным вопросом: что такое «сцена на сцене»?
Отечественными литературоведами «сцена на сцене» (СнС) нередко
'У
определяется как «прием» . Нам представляется, что данное понятие малопродуктивно в анализе драмы со СнС, поскольку его объем и статус в современной филологической науке весьма неопределенны: данное понятие, разработанное представителями формального метода, утратило первоначальную четкость в процессе его рецепции советским литературоведением. Отметим, что изначально «термин "прием" не означает приема оформления, то есть особой формы деятельности, но слово или отдельный элемент словесного образования в его эстетической функции, то есть с установкой на самозначимость» [Энгельгардт, 84].
По отношению к понятию «прием», оформившемуся в отечественном литературоведении, вполне адекватным будет использование дифференциации, предложенной Е. Фарыно. Исследователь различает «описательную» и «структурную» поэтику, исходя из того, что «единицей описательной поэтики является отмечаемое ею свойство (прием, троп и т.д.), единица же структурной поэтики есть текст... Описательная, хочет того она или нет, понимает "приемы" как то, из чего произведение строится, тогда как структурная эти же "приемы" понимает как то, на что этот текст членится ... описательная не знает контекста вычленяемых ею приемов, структурная же без контекста вычлененного приема обойтись не может» [Фарыно, 64].
Методологической основой нашей работы является структурный анализ художественного текста (выбор, обусловленный исключительно научными предпочтениями автора), поэтому исследование СнС понимается как изучение структуры такого драматического текста, в который включается другой текст - театральный спектакль.
СнС получила широкое распространение в мировой драматургии, однако данное явление нельзя закрепить ни за какой-то литературной эпохой, ни за той или иной национальной литературой, хотя «определенные эпохи выказывают вполне понятное пристрастие к ней» [Nelson, IX]. СнС появляется в европейской драме на рубеже XV-XVI вв. едва ли не одновременно с самой светской драмой. На смену однолинейности и моноперспективности средневековых моралите в драматургии елизаветинцев приходят разветвленное действие и полиперспективность [Iser, 209].
СнС переживает расцвет в елизаветинской и якобитской драме. У. Шекспир, Б. Джонсон, Т. Бомонт и Дж. Флетчер, Т. Мидлтон, Ф. Мэссинджер использовали данный принцип построения драматургического текста. При этом СнС появляется и в других национальных литературах, мы обнаруживаем ее в пьесах, принадлежащих перу Лопе де Вега и П. Кальдерона, драмах Ж. Ротру, П. Корнеля, Ж.-Б. Мольера. Все же особенно активно СнС используется в драматургии позднего Возрождения, где выступает как реализация одного из главных топосов эпохи - «Всечеловеческого Театра» (theatrum mundi).
Наверное, самой знаковой манифестацией связи СнС с этим топосом становится «ауто» П. Кальдерона «Великий Театр Мира» («El Gran Teatro del Mundo»), где метафора «мир - театр» реализуется в драматургическом тексте со вставным спектаклем: Вседержитель ставит на сцене Мира пьесу человеческой жизни. В качестве Суфлера выступает Закон Благодати, а Бог является одновременно и Автором, и Зрителем представления. Рождаясь, человек-актер выходит на сцену жизни, умирая, покидает ее. И неважно, какая роль тебе досталась, важно лишь хорошо сыграть ее, следуя замыслу Автора.
Драматургический текст со СнС обнаруживает глубинное структурное родство с метафорой «весь мир - театр»: «внешний» текст представляет собой «реальность», в нем манифестируется «мир», в то время как текст «внутренний» есть «театр». Можно, таким образом, утверждать, что драма со СнС основана на структурном соположении «мира» и «театра», что, в свою очередь, предполагает рефлексию мира как театра.
В процессе секуляризации театра СнС превращается «в высшую игровую форму, когда театральная постановка намеренно представляет самое себя из склонности к иронии или к сгущенной иллюзии» [Пави III, 349]. Преимущественно в этом качестве «драматизированной поэтики» [Maurer, 16]
СнС развивается в драматургии XX столетия, появляясь в пьесах таких авторов, как А. Шницлер, Ф. Ведекинд, Л. Пиранделло, М.А. Булгаков, В.В. Маяковский, Ж. Ануй, Т. Стоппард и др.
Таким образом, изучение драмы со СнС органически связано с проблемой «метатеатра» и - шире - «метатекста». В первой главе работы мы попытаемся рассмотреть статус СнС в ряду иных явлений, также реализующих метатекстуальную функцию. Однако прежде всего нас интересуют общие структурные принципы драмы со СнС как разновидности «текста в тексте».
Функции СнС в драматургическом тексте уникальны и в то же время многообразны. Предпосылкой к изучению СнС в отдельных текстах являются те общие черты, которые позволяют объединить драмы, в которых используется СнС, в единую парадигму. Четкое представление о принципах организации драматургического текста, включающего СнС, кажется нам необходимым условием любых историко-литературных изысканий, посвященных интексту в драматургии. Поэтому предметом исследования становятся универсальные принципы структурной организации драматургического текста со СнС.
Объектом изучения стали драматургические тексты со СнС, особенно значимые в контексте мировой литературы. В работе рассматриваются преимущественно пьесы зарубежных авторов, поскольку в отечественной драматургии СнС широкого распространения не получила. Принципы отбора текстов для анализа продиктованы сформулированными ниже задачами, решение которых предполагает отказ от организации материала по хронологическому принципу. Особое внимание в работе уделяется творчеству У. Шекспира, поскольку пьесы со СнС, созданные этим драматургом («Гамлет», «Сон в летнюю ночь» и др.), предопределили развитие СнС в мировой драматургии.
Выбор предмета изучения обусловлен актуальной ситуацией в исследованиях СнС. В отечественной литературоведческой науке данная разновидность «текста в тексте» практически не изучалась. Исключение составляют историко-литературные работы, посвященные творчеству авторов, создававших драмы со «сценой на сцене» [Морозов; Пинский; Аникст; Парфенов; Киасашвили; Молодцова; Нинов; Яблоков; Ищук-Фадеева и др.]. В этих исследованиях СнС рассматривается в контексте таких фундаментальных проблем, как «игра в драматургическом тексте» и «театральность», что отодвигает на задний план изучение СнС как относительно самостоятельного явления.
Между тем поэтика «сцены на сцене» вызывает пристальный интерес зарубежных исследователей уже в двадцатые годы прошлого столетия [Dessoir; Boas], В послевоенном зарубежном литературоведении изучение СнС приобретает статус одной из центральных проблем теории драмы. Свидетельством тому являются работы таких ученых, как Э. Прёбстер, И. Фогт, Р. Нельсон, А. Браун, Р. Маурер, Й.-Х. Кокотт, Д. Мель, К. Ливер, К. Шёпфлин, К. Элерс. Начиная с шестидесятых годов XX в., исследование СнС получает мощный методологический импульс со стороны теории метатекстуальности [Abel; Egan; Esslin; Hornby; Bnsch; Schmelling; Allman]. Влияние, оказанное этими работами на изучение поэтики СнС, весьма противоречиво: новые методологические основания, безусловно, стимулируют изучение СнС, однако, другим следствием методологической переориентации становится более или менее явный отказ от исследования собственно поэтики СнС. Одной из проблем изучения поэтики СнС является поэтому вопрос об отношении драматургического «текста в тексте» к феномену «метадрамы». В первой главе мы попытаемся выявить точки возможного приложения методологических основ теории метадрамы к изучению СнС.
Теоретические предпосылки для изучения поэтики СнС оформляются и в отечественном литературоведении - в работах представителей тартуско-мос- ковской школы. Драматургический текст со СнС может пониматься как разновидность «текста в тексте», что открывает широкое поле для теоретических изысканий в области поэтики СнС. Попытка сочетания опыта отечественных и зарубежных филологов в изучении СнС представляется автору диссертации продуктивной, необходимой и актуальной.
Методологическую базу исследования составили, таким образом, отдельные работы представителей тартуско-московской семиотической школы, посвященные проблеме «текст в тексте» (Ю.М. Лотман, П.Х. Тороп, Вяч.Вс. Иванов, Ю.И. Левин). Следует, однако, отметить, что основоположниками концепции «текста в тексте» драматургические «тексты в тексте» практически не рассматриваются. Необходимым условием применения концепции «текста в тексте» в изучении СнС становится осмысление данной методологии применительно к драматическому роду литературы. Здесь нас прежде всего интересует ориентация драмы на сценическое воплощение - одна из непременных особенностей драмы как рода литературы.
Драму мы, вслед за М. Пфистером, рассматриваем как текст, который конституируется во взаимодействии «внутренней» («персонаж - персонаж») и «внешней» («коллективный автор спектакля — реальный зритель») коммуникативных систем. Такой подход позволяет учесть те особенности
драматургического текста, которые обусловлены ориентацией драмы на сценическое воплощение.
Таким образом, цель нашего диссертационного исследования заключается в описании структуры драматургического текста со СнС на основе аналитического аппарата концепции «текста в тексте». Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
Проанализировать концепции «текста в тексте» и «метатекста», установив степень их адекватности объекту исследования - драматургическому тексту со СнС.
Дать критический обзор частных подходов к изучению СнС с точки зрения концепции «текста в тексте».
Выявить те принципиальные особенности «текста в тексте» в драматургии, которые обусловлены родовой спецификой драмы.
Определить универсальные принципы структурной организации драмы со СнС и сопоставить СнС с типологически родственными явлениями, уточнив объем понятия «сцена на сцене» и границы исследования.
Установить основные типы СнС, описав их функционирование в драматическом тексте.
Сформулировав задачи, следует назвать проблемы поэтики и типологии СнС, анализу которых и посвящена наша диссертация. В исследовательской литературе достаточно полно описаны функции СнС в драматургическом тексте, поэтому в нашей работе мы не будем подробно на них останавливаться. Вместе с тем здесь по-прежнему отсутствует четкое представление о том, что есть драма со СнС. Концепция «текста в тексте» позволяет переформулировать поставленный вопрос в проблему структуры драматургического текста со СнС. Представление об универсальных принципах структурной организации драмы со СнС может явиться тем надежным основанием, в котором нуждается любая типология СнС. При этом сама концепция «текста в тексте» как методологическая основа изучения драмы со СнС требует тщательного анализа, поскольку данная концепция для драматургического текста не разрабатывалась.
Здесь также необходимо рассмотреть теорию «метадрамы» в качестве модели описания драмы со СнС, альтернативной «тексту в тексте».
Кроме того, за отсутствием фундаментальных работ, посвященных проблеме «чужого слова» в драме, следует хотя бы в самых общих чертах наметить основные особенности структуры драматургического текста со СнС, основанного на цитировании «чужого» текста.
Исключительно важной представляется нам и проблема сопоставления СнС с типологически родственными явлениями самых разных уровней - от игрового поведения в драме до таких драматургических форм, как пролог, комментарий, хор и т.п. Эта проблема представляется актуальной, поскольку задача осмысления СнС в ряду типологически родственных явлений не сводится, по нашему мнению, к разработке отграничительной дефиниции, которая позволит отличать СнС от иных драматургических форм. Такого рода анализ может, во-первых, предоставить необходимые теоретические основания для изучения генезиса СнС. Во-вторых, функционально близкие СнС явления оказываются тем источником, откуда берут начало самые разные трансформации СнС. Именно радикальное уподобление СнС близким формам маркирует, как нам кажется, смену парадигм СнС, поэтому сопоставление СнС с типологически родственными явлениями представляется нам одной из важных проблем поэтики СнС.
Кроме того, мы попытаемся наметить основные парадигмы СнС, поскольку за пять веков существования СнС в европейской драматургии структура драмы с театральной вставкой претерпела столь существенные изменения, что создание универсальной модели драматургического текста со
СнС не представляется нам возможным. Очевидна и необходимость выявления той парадигмы СнС, для которой валидны общие принципы структурной организации, которые мы постараемся установить ниже.
Структура диссертации продиктована логикой рассматриваемых проблем. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии. В первой главе критически осмысляется опыт изучения СнС, обосновывается необходимость обращения к концепции «текста в тексте» и рассматривается степень адекватности данной концепции объекту исследования - драматургическому тексту со СнС. Во второй главе предпринимается попытка выявить основные принципы структурной организации драматургического текста со СнС, опираясь на родовые признаки драмы. В этой главе мы также рассматриваем СнС в ряду типологически родственных явлений. В третьей главе мы обращаемся к анализу функционирования СнС в драматургическом тексте с тем, чтобы выделить основные парадигмы СнС и описать типы СнС для одной из парадигм - «классической».
Драма со "сценой на сцене " как "метатекст "
Мы уже отметили, что в нашей работе СнС будет рассматриваться как разновидность «текста в тексте». В свою очередь, сам «текст в тексте» нередко понимается как тип «метатекста». Однако по поводу того, что считать «метатекстом», мнения исследователей расходятся.
Воспользуемся пока самым общим «этимологическим» определением и будем (по аналогии с понятием «метакоммуникация») рассматривать «метатекст» как текст, который говорит о тексте . Такая «дефиниция» вряд ли вызовет возражения - разногласия возникают при ответах на вопросы о том, какой это текст и что значит «говорить о тексте».
Предметом дискуссии стала сама возможность художественных метатекстов. Так, для Ю.М. Лотмана метатексты суть проявление и средство самоорганизации литературы как системы, которая «выделяет группу текстов более абстрактного, чем вся остальная масса текстов, уровня .. . . Это нормы, правила, теоретические трактаты и критические статьи, которые возвращают литературу в ее самое, но уже в организованном, построенном и оцененном виде» [Лотман I, 207]. Можно предположить, что позиция Лотмана в какой-то мере объясняется своеобразной контаминацией понятий «метаязык» и «метатекст». В этом случае ограничение объема последнего понятия вполне правомерно и даже необходимо .
Вяч.Вс. Иванов избирает иной путь, полагая совершенно легитимным говорить о художественных «метамоделях», указав предварительно на их отличие от нехудожественных. По мнению исследователя, «любая семиотическая модель литературы или искусства в той степени, в какой она является научной (например, в семиотической поэтике), тем самым становится вырожденной ("ограниченной". - В.Ч.) метамоделью, но искусство такой моделью не становится даже когда оно обращается к изображению самого искусства» [Иванов, 20]. Литература, выворчиваясь подобно ленте Мёбиуса наизнанку, остается литературой, даже когда говорит о себе самой: порождая модели мира, художественная литература может моделировать и самое себя, поскольку она также является органичным пластом моделируемой реальности.
Итак, феномен метатекста предполагает некое высказывание о тексте, который мы вслед за В. Вольфом назовем «текстом-объектом». Если под «высказыванием» понимать рефлексию, а под «текстом» - художественную модель мира, то можно дифференцировать метатексты по следующим основаниям: рефлексируемые свойства текста-объекта и тип текста-объекта. В первом случае акцент возможен как на объекте моделирования (мир), так и на особенностях самой моделирующей системы (художественный текст), ее структуре и функционировании. Основываясь на типе текста-объекта, следует различать метатексты как «тексты о другом тексте» (МТ = МТ —» Т) и автометатексты (МТ = МТ -» МТ) . Драма, в которую помещено изображение спектакля - драма со СнС - является именно автометатекстом, который и будет интересовать нас в первую очередь. Далее в целях удобства изложения мы будем пользоваться термином «метатекст», понимая под ним «автометатекст».
Метатекст мы рассматриваем как «текст или элемент текста, который автореференциально обращается к самому тексту с более высокого, в отличие от интертекстуальности, логического уровня, метауровня, где темой становится текстуальность, или сконструированность, текста-объекта» [Wolf И, 366]. Феномен метатекста предполагает появление в самом тексте некоего «метауровня» - имманентной художественному тексту точки зрения, которая позволяет осмыслять элементы текста или весь текст в качестве художественной модели реальности. Такого рода осмысление является основной функцией метатекста и может быть названо «метатекстуальностью» . Хотелось бы также отметить, что при использовании понятия «метатекст» зачастую возникает ощущение избыточной генерализации: мы как бы подразумеваем тем самым, что весь текст является метатекстом. По-видимому, более корректно говорить об «элементах метатекста» в значении «метатекстуальных» элементов, входящих в структуру художественного текста.
При этом метатекстуальность не тождественна автореферентности. Постулат автореферентности, вытекающий из двойной зашифрованности художественного текста, действителен для любого литературного текста и является необходимым условием эстетической коммуникации , то есть представляет собой дискурсивный феномен. Метатекстуальность, в отличие от «автореферентности» в широком понимании, есть эксплицированная в самом тексте автореферентность. Такое разграничение базируется на известном противопоставлении «поэтической» и «метаязыковой» функций языка, предложенном Р. Якобсоном [Якобсон, 201-205].
Основываясь на изложенном выше понимании метатекста, можно назвать три возможных вектора метатекстуальности. Объектами авторефлексии могут становиться онтологический статус текста (художественная модель реальности), его структура (знаковая система) и коммуникативная функция. Касаясь метатекстовых элементов в поэзии Б.Л. Пастернака, Вяч.Вс. Иванов замечает, что в этих поэтических текстах «строится не просто знаковая модель самой поэзии, а знаковая модель всего мира, образ которого "явлен в слове" (именно эта неразрывность поэзии и мира в целом составляет основную тему всех этих стихов Пастернака)» [Иванов, 21]. Явления, спаянные в творчестве Пастернака (здесь текст говорит о тексте, который, в свою очередь, говорит о мире), следует различать в модусе теоретического говорения.
В драматургии довольно частотной формой метатекстуальности становится, по нашим наблюдениям, «метакоммуникативная» рефлексия. Например, в пьесе М. Фриша «Андора» мать героя реагирует на вычурные речения Учителя следующим образом:
Драма со "сценой на сцене ": структурные доминанты
Внутритекстовые границы этого рода исследователь уподобляет внешним границам текста, что возвращает нас к вопросу о роли прагматики текста в построениях типа «текст в тексте». Аргументация Ю.М. Лотмана позволяет согласиться с тезисом В.П. Руднева о том, что «текст в тексте» характеризует «игра на границах прагматики внутреннего и внешнего текстов» [Руднев, 308].
Впрочем, СнС, повторимся, это, следуя Ю.М. Лотману, простейший случай «текста в тексте», а ученого интересуют скорее «более сложные случаи, когда признак "подлинности" не вытекает из собственной природы субтекста или даже противоречит ей и, вопреки этому, в риторическом целом текста именно этому субтексту приписывается функция подлинной реальности» [Лотман V, 158]. «Сложные случаи» возникают на основе соположения разнородных текстов, и анализ их взаимодействия становится едва ли не основной проблемой в концепции «текста в тексте» .
Для сложных случаев «текста в тексте» характерно «риторическое соединение "вещей" и "знаков" вещей (коллаж) в едином текстовом целом» [Лотман V, 158]. В пьесе со СнС «вещной» оказывается, по всей видимости, «реальность» внешней драмы, а «знаковой» - художественная действительность, которая манифестируется во вложенном тексте. Соположение двух таких субтекстов в границах одного «порождает двойной эффект, подчеркивая одновременно и условность условного, и его безусловную подлинность» [Лотман V, 158].
Первый вектор данного эффекта есть, как нам представляется, реализация метатекстуальной функции. Акцентуация условности условного, обнажение иллюзии - это функция вставки, довольно часто называемая в работах, посвященных поэтике СнС. Более интересен второй вектор, поскольку эта сторона риторического эффекта в меньшей степени поддается формализации. Кроме того, размышления о «двойном эффекте» относятся в работе Ю.М. Лотмана к соположению разнородных текстов, к «сложным» случаям «текста в тексте». Результатом взаимодействия субтекстов в драме со СнС, составляющей объект нашей работы, также может становиться акцент на «безусловной подлинности» условного.
Так, инкорпорированный текст в шекспировском «Гамлете» - «Мышеловка» - есть подчеркнуто условный текст по отношению к внешней драме: рифмованный ямб вставки контрастирует с белым стихом, которым написан основной текст, драматургия «Убийства Гонзаго» подчеркнуто архаична, текст изобилует эвфуизмами и т.д. В то же время интекст воплощает скрытую истинную реальность текста «действительности» - рваную реальность, противопоставленную внешнему благополучию ситуации во внешней драме . В пьесе Я.-М.-Р. Ленца «Друзья делают философом» любовь героя и готовность умереть из-за любви раскрывают «подлинное» «Я» персонажа, и вставной текст, отмеченный искренностью и прямотой героя, действующего во вставной пьесе, контрастирует с запутанным действием внешней драмы, герой которой по недомыслию своему едва не кончает с собой в финале. Отношения внутренней и внешней драм в пьесе Т. Бернхарда «Минетти» сложнее, однако и здесь мы обнаруживаем сходные механизмы смыслообразования. Престарелый актер с исковерканной судьбой читает в фойе отеля фрагменты монологов короля Лира. Эти вставки обрамляются карнавальной суетой, планами, напрасными ожиданиями во внешней драме. И в финале актер оказывается на улице, объятой метелью - подобно Лиру в третьем акте бессмертной трагедии. Во вставном тексте, таким образом, манифестируется подлинная человеческая реальность, а внешняя драма оказывается лишь одной из иллюзорных текстовых «вариаций» на тему, заданную интекстом.
Приведенные примеры свидетельствуют о том, что и в драме структура «текст в тексте» может опираться на «подлинность условного», однако хотелось бы отметить одно немаловажное в отношении прагматики интекста обстоятельство. В «Мастере и Маргарите» М.А. Булгакова (именно этот роман Ю.М. Лотман избирает в качестве примера «сложного» случая) «подлинность» инкорпорированного текста обусловлена онтологически, является закономерным следствием создаваемой текстом модели онтологии творчества: «О, как я все угадал!» - восклицает Мастер, получив возможность поверить собственный вымысел реальностью [Булгаков IV, 504] . Между тем в драме подлинность интекста подчас оказывается результатом сознательного действия персонажа . Так, при подготовке «Мышеловки» Гамлет не «гадал», восклицание принца: «О my prophetic soul!» [Shakespeare, 1036] - это реакция на рассказ призрака, спектакль же, поставленный в третьем акте трагедии, становится «подлинным вымыслом» по воле режиссера и автора.
Приведенные выше соображения о «Мастере и Маргарите» призваны лишь обратить внимание на принципиально важную особенность риторической ситуации, характерной, как нам кажется, для романа, построенного по принципу «текст в тексте»: здесь взаимодействие двух текстов может реализоваться и на сюжетном уровне, однако текст редко становится для героя инструментом сознательной трансформации «действительности», отображенной во внешнем тексте. Связи текста и действительности осмысляются как проявление природных свойств художественного творчества an sich. Роман вынужден выбирать между моделированием порождения текста и отображением его восприятия. Объясняется данное обстоятельство, по всей видимости, тем, что адресант эпического текста и его адресат, как правило, разнесены во времени: трудно представить себе роман, в котором более или менее объемный художественный текст-вставка одновременно пишется и читается.
Театр, напротив, предполагает симультанность порождения и восприятия текста спектакля. Данное свойство театральной коммуникации лежит в основе драматического «текста в тексте» , именно поэтому вставное театральное представление может задумываться персонажем как способ воздействия на «реальность». Соответственно рассмотрение прагматики интекста во внутренней коммуникативной системе приобретает особую значимость. Традиционная драма основана на действии, элементарными составляющими которого являются поступки персонажей. Именно персонажи изменяют первоначальную ситуацию по принципу «ситуация! ситуация2 -» ситуация3», такая трансформация исходной ситуации есть не что иное, как драматическое действие . При этом противопоставляются не ситуации сами по себе, но ситуации как результат действий персонажей .
Поэтика "сцены на сцене" и проблема "чужого слова" в драматургии
Персонаж, как это происходит в финале пьесе Т.С. Элиота «Убийство в соборе», может обратиться к зрителям, вынося свои мотивы на суд публики. Фикциональная природа персонажа обнажается, но одновременно он обретает и некую повышенную «плотность существования», поскольку говорит со зрителем как равный с равным. Данный эффект возможен благодаря узурпации персонажем функций Комментатора, традиционно воплощавшего уровень «реальности» в драме.
Метатекст, порождаемый такими персонажами, оказывается «точечным», совершенно призрачным, если говорить о единстве текста, в то время как традиционный Комментатор формирует вокруг себя более плотное, «обжитое» пространство, пусть и не очень определенное в онтологическом плане. Но когда драма насыщена ad spectatores и автокомментариями, сфера метатекстуальности словно «растворяется» в тексте, проникая на все структурные уровни.
В отличие от Комментатора, Пролог и Эпилог, как правило, покидают сцену на время основного действия, и перед нами, таким образом, случай последовательного, а не симультанного развертывания двух текстов. Пролог не комментирует происходящее, но обращается скорее к фантазии зрителя (см., например, приведенный выше фрагмент пролога к «Генриху V» У. Шекспира). Слово Пролога «пред-формирует» драматический мир в рассказе [Voigt, 15] . Сферы основного действия и пролога практически не пересекаются вследствие их неравнозначности и разнесенности во времени.
Некоторую трудность может представлять сопоставление СнС с так называемыми «интродукциями» (introductions) - прологами с двумя и более участниками. Например, в начале пьесы Б. Джонсона «Всякий человек не в духе» («Every Man Out of His Humor») на сцене появляется актер Аспер, гневно ругающий публику. Аспера сопровождают друзья, которые пытаются утихомирить разгневанного актера.
Тем не менее в прологах, эпилогах и «интродукциях» нарушается, как правило, одна из главных театральных конвенций - соглашение об «отсутствии» публики. Пролог и персонажи интродукций зачастую обращаются прямо к зрителям. Аспер со товорищи не являются сценическими зрителями, поскольку активно реагируют на реальную публику - обсуждают зрителей, выпивают за их здоровье. При этом ad spectatores функционируют в интродукциях и прологах не в качестве минус-приема, но являются традиционным и необходимым элементом этой драматической формы.
Возможные в прологе и его разновидностях элементы драматического действия еще не создают внешней драмы, ведь даже в «развернутом» прологе доминируют прежде всего традиционные функции рассматриваемой формы (экспозиционная, дидактическая, сар1а1ю ЬепеУо1епйае и т.п.), реализация которых «снимает» чрезвычайно значимую для традиционного театра границу между актерами и зрительным залом. Таким образом, в прологе и основном действии активизируются принципиально разные системы кодирования, что противоречит главному структурному принципу драмы со СнС - требованию удвоения изоморфных систем кодирования .
Итак, сравнительный анализ СнС и типологически родственных явлений позволяет сделать вывод об адекватности модели драмы со СнС, предложенной выше, объекту исследования. Наряду с задачей верификации языка описания можно полагать выполненной и другую задачу: сопоставление СнС с иными разновидностями двухуровневых структур в драматургическом тексте подводит нас к осознанию глубинных структурных принципов драмы со СнС. Основанием, на котором зиждется структура драматургического текста со вставным спектаклем, является представление о статусе и функционировании театрального текста во внетекстовой реальности.
«Фактор онтологической неопределенности» текста, с которым мы столкнулись, сопоставляя СнС с родственными явлениями, не может считаться исключительно проблемой языка описания, не допускающего в ряде случаев однозначного определения того или иного эпизода как СнС. Исчезновение границ между текстом и реальностью, которое явилось характерной приметой культуры XX в., не могло не затронуть драму со СнС - текст, в основе которого лежат эти границы.
Итак, ряд структурных характеристик отличает СнС от иных разновидностей «текста в тексте» и «метатекста» в драматургии, но соотнесенность этих явлений друг с другом не в последнюю очередь обусловлена общим свойством такого рода структур - внутренним диалогизмом текста. Диалогичность, заявленная М.М. Бахтиным в качестве универсальной категории культуры, может реализоваться на любом уровне высказывания, даже на уровне отдельного слова, «если оно воспринимается не как безличное слово языка, а как знак чужой смысловой позиции, как представитель чужого высказывания, то есть если мы слышим в нем чужой голос. Поэтому диалогические отношения могут проникать внутрь высказывания, даже внутрь отдельного слова, если в нем диалогически сталкиваются два голоса» [Бахтин, 398].
Учение М.М. Бахтина о диалогичности в литературе, базируется на широком понимании исследователем «чужого слова» и отсылает нас к теории интертекстуальности, взлет которой в западном литературоведении в значительной мере обусловлен рецепцией идей Бахтина. В контексте нашей работы теория интертекста может показаться своеобразной альтернативой концепции «текста в тексте», на которую мы опираемся. Аргументом в пользу обращения к теории интертекста в анализе драмы со СнС может считаться и то обстоятельство, что вставное сценическое представление нередко оказывается цитатой. Между тем существует и прецедент анализа проблемы «текста в тексте» в качестве проблемы интертекстуальных взаимодействий - работа П.Х. Торопа, включенная в сборник научных трудов, посвященный проблеме «текст в тексте».
Типы "сцены на сцене" во внутренней коммуникативной системе
Анализируя функции «Мышеловки» во внутренней коммуникативной системе, нужно попытаться ответить на следующие вопросы: 1. Для чего Гамлет ставит «Мышеловку»? 2. Какова роль принца в этой постановке? 3. Какой эффект производит представление на сценическую публику? Сформулированное принцем в конце второго акта намерение вполне понятно - это не более, чем «следственный эксперимент», призванный установить достоверность рассказа Призрака: он ведь может оказаться и дьяволом, который воспользовался обликом отца, чтобы искушать сына [Shakespeare, 1045-1046]. Избранный Гамлетом способ проверки «свидетельских показаний» вполне соответствует воззрениям, распространенным в елизаветинскую эпоху, - вспомним, к примеру, известный текст анонимного современника Шекспира «Предостережение добропорядочным женщинам» («А Warning for Fair Women» («1590)): A woman that had made away her husband, And sitting to behold a tragedy Wherein a woman that had murdered hers Was ever haunted with her husband s ghost She was so moved, with the sight thereof, As she cried out, the play was made by her, And openly confessed her husband s murder [цит. no: Schwab, 41] . При этом Гамлет рассчитывает на идентификацию Клавдия с персонажем «Убийства», апеллируя тем самым к наивному эстетическому сознанию . Подчеркивая необходимость правдоподобия в предстоящей постановке, принц руководствуется главным образом именно этой идеей. Гамлет, как полагает Р. Нельсон, «считает театральную игру именно игрой: состязанием в остроте ума ("contest of wits". - Б.Ч.), на котором эстетически наивный Клавдий споткнется. Клавдий, а не его племянник, - вот романтический герой в "Гамлете"» [Nelson, 23]. Перед нами - соревнование двух мировоззренческих позиций, состязание аналитика и романтика. Результат их борьбы, казалось бы, предрешен.
Чтобы добиться успеха, Гамлету-режиссеру нужно лишь заставить венценосного зрителя позабыть об игровом характере происходящего, пересказав историю его злодейства максимально «близко к жизни». Подобными же принципами руководствовались, очевидно, устроители средневековых мистерий: основой дидактического воздействия являлось в этих представлениях прямое переживание зрителями-участниками Священной истории. «Убийство Гонзаго» также обращено к скрытой, эзотерической (в буквальном смысле слова) истине, в чем манифестируется близость постановки к обрядовому действу .
При постановке «Убийства Гонзаго» Гамлет выступает как в роли автора/режиссера, так и в качестве своеобразного «актера», причем его актерство имеет две интенции. С одной стороны, принц уподобляется персонажу-комментатору, помещенному в публику. Роль Гамлета в недолгом представлении чем-то близка позиции Горацио в трагедии «Гамлет» - наблюдателя и свидетеля, не вовлеченного в действие. Реплики принца превосходно вписываются в концепцию постановки, его комментарии и «разъяснения», притворное недовольство прологом представляют собой элементы своего рода актерской игры, заставляющей короля-зрителя балансировать на грани иллюзии. С другой стороны, двусмысленные реплики Гамлета, «ошибочные» заявления скрывают автора и режиссера пьесы за маской «antic disposition» .
Комментарии принца функционируют, таким образом, сразу в двух коммуникативных планах, «псевдозритель» Гамлет занимает позицию, создающую предпосылки для его трансформации в обычного зрителя. Впрочем, эпитетом «обычный» вряд ли можно охарактеризовать публику «Убийства Гонзаго», поскольку позиции зрителей в системе театральной коммуникации совершенно разные. Формально сценическим зрителем является и принц, однако Гамлет-зритель, подобно Гамлету-актеру, раздваивается. При этом замысел постановщика вовсе не предполагает такого расщепления : себе и Горацио Гамлет предписывает роль стороннего наблюдателя за реакцией короля.
Однако действие трагедии об убийстве венского (?) герцога (?) не может не захватить внимание Гамлета. Для него, как и для Клавдия, представление вставка оказывается своего рода ритуальным театром, ведь в «Убийстве Гонзаго» инсценируется не более и не менее чем рассказ явившегося из мира теней вестника. Здесь можно вспомнить рассуждение о «Мышеловке» JI.C. Выготского, который видит в представлении своеобразную попытку сведения потустороннего с земным, говорит об одномоментном слиянии в СнС двух планов трагедии [Выготский, 429]. В репликах принца по ходу представления явственно ощущается раздраженное беспокойство, которое прорывается в словах: «Begin, murderer; pox, leave thy damnable faces, and begin. Come; the croaking raven doth bellow for revenge» [Shakespeare, 1051] . Разрушая иллюзию в момент наивысшего зрительского напряжения, эта реплика свидетельствует о смятении Принца, поскольку само слово «месть» несколько преждевременно: Луциан еще не влил яд в ухо герцогу. Гамлет забегает вперед, подстегивая актеров. Поведение принца во время спектакля свидетельствует, как нам представляется, о том, что ему не удалось сохранить настрой отменно трезвого наблюдателя и манипулятора - ловчий сам попался в расставленные сети. Именно спонтанным раздвоением принца-зрителя вызвано, наверное, возражение Горацио Гамлету, шутливо притязающему на целый пай: по мнению Горацио, принц заслуживает лишь половинного пая [Shakespeare, 1051] .