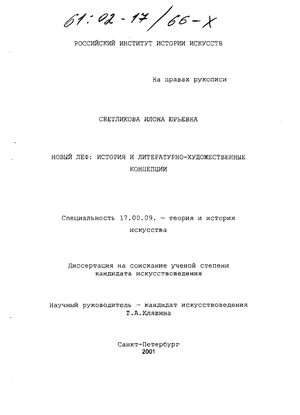Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. История ЛЕФа: 1925 - 1928
1. 1. Общая характеристика периода 17
1. 2. События, предварявшие выход «Нового ЛЕФа» 24
1. 3. Полемика с Вячеславом Полонским и рапповцами 42
1. 4. «Разгримированная красавица»: конфликт Максима Горького и Николая Асеева 53
1. 5. Развитие внутренних отношений 68
ГЛАВА 2. Литературно-художественные концепции Нового ЛЕФа
2. 1. Обстоятельства, задающие модус прочтения лефовских концепций 75
2. 2. Искусство факта 85
2. 2. 1. «Дух времени» 87
2. 2. 2. Мнимые предшественники 91
2. 2. 3. Первые симптому будущего интереса к документальному искусству 95
2. 4. Осип Брик: попытка социально-психологического портрета 97
2. 2. 5. «Реальность» беспредметников и футуристов в 10-е гг 107
2. 2. 6. Искусство как познание: образ «передового культурного потребителя» .115
2. 2. 7. Синтезирующая функция искусства; Бергсон 127
2. 2. 8. Шестидесятники и народники: эстети ка «деклассированных рантье» 147
Заключение 152
Примечания 154
Список использованной литературы 184
- Общая характеристика периода
- Полемика с Вячеславом Полонским и рапповцами
- Обстоятельства, задающие модус прочтения лефовских концепций
- Первые симптому будущего интереса к документальному искусству
Введение к работе
Предмет и методы исследования; обзор литературы по изучаемому вопросу
Обсуждая явления, связанные с авангардом, исследователь сталкивается с рядом проблем, имеющих принципиальные последствия для состава и постановки вопросов в его работе.
Первая непосредственно вытекает из ситуации, наблюдаемой в современном искусстве, в значительной своей части ориентированном на авангардизм. Подобное положение вещей вызывает обычное противостояние полярных мнений и отношений. С одной стороны, авангардистская ориентация продолжает пользоваться авторитетом и популярностью, с другой, - нельзя не заметить определенной усталости от нее и скептицизма по ее поводу, объясняющихся тем, что авангард успел превратиться в традицию, которая нередко узаконивает существование откровенно слабых произведений. Современная ситуация не может не влиять на восприятие исторических явлений. Поэтому, учитывая актуальность скептического отношения к авангардизму, мы полагаем, что в настоящий момент больший интерес представляет вопрос не об авангардистских теориях или произведениях самих по себе (многие из которых уже превратились в нечто расхожее и тривиальное) , но о том, при каких обстоятельствах стало возможно их появление. Иначе говоря, если вещь сама по себе теряет интерес для настоящего, возникает вопрос, каким образом этот интерес поддерживался в исследуемый период. Такова одна из причин, по которой в нашей работе мы попытаемся переставить акцент с произведений и теорий на их источники и обстоятельства возникновения .
Вторая проблема, анализ которой приводит к аналогичным методологическим выводам, имеет отношение к авангардистским теориям. Как правило, они излагались в многочисленных манифестах и статьях, зачастую наследующих риторические приемы манифестов. Авангардистская теоретическая риторика строилась обычно на двух, в известной мере, противоречащих друг другу интенциях - доказать и поразить. Первая находила выражение в обильной эксплуатации научной или наукообразной лексики, тем более легко усваиваемой и ассимилируемой авангардизмом, что статус науки среди его представителей был весьма высок, вторая делала необязательными реальные доказательства, предлагая взамен богатый арсенал эмоционально окрашенных лексических и синтаксических средств. Наукообразие авангардистских теорий имело отрицательные последствия для части посвященных им исследований, открывая возможность заменять их анализ пересказом манифестов. Из контекста более менее свободного «полета мыслей» они переносились , таким образом, в не адекватный им контекст филологических и искусствоведческих штудий. Второе обстоятельство, если и не прямо вытекающее из присутствия в авангардистских манифестах и теоретических статьях элемента наукообразия, то, во всяком случае, косвенно с этим связанное, состоит в явлении, противоположном предыдущему. Речь идет об исследовательских текстах {нередко в высшей степени квалифицированных), в которых можно заметить уже не отсутствие анализа, но его гипертрофи-рованность. В этом случае, мы сталкиваемся с тем, что в теоретические авангардистские работы вчитывается философская глубина, которая присутствовала в них, как кажется, далеко не всегда. Это также приводит к неадекватности и несоответствию, но, на этот раз, иного порядка : анализ оказывается «умнее» анализируемого материала.
Рассматривая теоретические элементы, входившие в лефовские работы (мы сознательно говорим здесь не о теориях, а теоретических элементах, поскольку, по нашим наблюдениям, о которых мы будем говорить ниже, теорий, если понимать под ними системы, обладающие хотя бы приблизительной целостностью, у ЛЕФа не было; были отдельные суждения теоретического характера), помимо последней проблемы, коренящейся в риторических особенностях, вообще характерных для авангарда, мы сталкиваемся также со следующим обстоятельством более частного характера.
Новый ЛЕФ существенно отличается от раннего авангардизма, в том числе и представленного в журнале «ЛЕФ». Эстетические рассуждения на страницах «Нового ЛЕФа» обычно более внятны и эксплицитны. Тем не менее известная теоретическая «неряшливость» {на которой, впрочем, сами лефовцы отчасти настаивали и не стремились ее избегать) характерна и для этого периода в такой степени, чтобы изучение теории самой по себе не вызывало исследовательского энтузиазма . В значительной мере, это связано с тем, что, несмотря на обилие теоретических работ, значение теорий в 20-е гг. редуцировалось. За мнимым различием враждующих художественных и литературных группировок стояли, по большей части, не концептуальные, а личные отношения. Причем, если в теоретических разногласиях любого времени нередко можно заподозрить последствия личных симпатий и антипатий, то в 20-е гг. подобное положение вещей стало доминирующим (см. об этом ниже). Поэтому представить себе «теорию ЛЕФа» саму по себе так, чтобы это представление сохранило черты близости с исследуемым материалом, представляется невозможным. Пласт собственно теоретический при ближайшем рассмотрении оказывается незначительным. Отдельные интересные идеи, которые возникали у лефовцев, часто связаны друг с другом довольно слабо и не развиты {в чем сказался характер Осипа Брика, который обычно их генерировал , но, в силу своих личных особенностей, как правило, не развивал). Таким образом, описать ход имманентно развивающейся интеллектуальной истории невозможно. Цепь собственно интеллектуальных событий дискретна и непоследовательна. И главный интерес представляют часто не сами идеи, но источники и обстоятельства их происхождения.
Для того, чтобы уточнить метод, которым мы намерены пользоваться, необходимо также обратить внимание на то, что выбор темы, как правило , не случаен и говорит нечто о самом исследователе , его склонностях и предпочтениях. Поэтому выбор в качестве предмета исследования авангарда обычно соседствует и с определенными теоретическими установками. Чаще всего исследователи авангарда оперируют методами, принципиально сторонящимися традиционного биографиз-ма. Это приводит к тому, что в основном анализируются тексты и отношения между ними. Но в силу указанных нами причин - в значительной мере утраченной актуальности этих текстов (как теорий, так и произведений) и эвристической бесперспективности исследований теорий самих по себе (поскольку для изучаемого периода их значение было сравнительно невелико) - в настоящий момент именно традиционный исторический анализ, учитывающий не только художественную и критико-теоретическую продукцию, но и обстоятельства ее создания, в частности, личные особенности и события жизни ее создателей, кажется наиболее уместным. Исследуемые работы мы предполагаем рассматривать не только с точки зрения их отношений к другим работам, но и как результат трансформации личного и исторического опыта их авторов. При этом сочинения, представляющие, на первый взгляд, не более, чем библиографический интерес и не способные интегрироваться в структуру непосредственного куль турно-исторического опыта, оказываются прозрачными и лишенными актуального смысла лишь при поверхностном рассмотрении. В других случаях, исторический и, в частности, биографический фон не сообщает нам прямых причин, по которым в текстах появились те или иные элементы, но способствует более объемному воссозданию анализируемых явлений. {В этом мы следуем установке, суть которой была сформулирована Эйхенбаумом: «важен не поиск причин фактов, а описание фактов в возможной полноте»1) .
Все изложенные выше соображения определили основную интенцию настоящей работы - исследовать лефовские теоретические работы не в качестве источника по истории и теории ЛЕФа, но в качестве объекта для традиционного исторического комментария.
Новый ЛЕФ стал продолжением сотрудничества поэтов, художников и теоретиков, начало которого приходится на 10-е гг. Наиболее значительными предшественниками журнала «Новый ЛЕФ» были «Искусство коммуны» (газета ИЗО Нарком-проса, выходившая в 1918-1919 гг.) и «ЛЕФ» (1923 - 1925). Период до издания «ЛЕФа», прошедший для большинства будущих лефовцев под знаком футуризма, исследован сравнительно хорошо . Однако по мере приближения к концу двадцатых годов посвященная творчеству группы литература заметно редеет. Причем если период «ЛЕФа» стал предметом двух монографий11 дальнейшая деятельность группы, связанная прежде всего с журналом «Новый ЛЕФ», насколько нам известно, специально не исследовалась.
Подобное распределение исследовательских интересов обусловлено исторически. Распространенным является мнение, согласно которому ЛЕФ представляет интерес только в связи с участием в нем Маяковского. В качестве характерного примера подобного отношения приведем следующие слова Катаева: «Для них - для футуристов в прошлом, а нынче «лефов» в том числе - он был счастливая находка. Выгоднейший лидер, человек громадной пробивной силы, за широкой спиной которого можно было пролезть без билета в историю русской литературы. Рай для примазавшихся посредственностей. Оперативных молодых людей, бряцавших своим липовым лефовством, которые облепили Маяковского со всех сторон»111. Подобную точку зрения выражали уже лефовские оппоненты во времена существования «ЛЕФа». Несмотря на очевидную пристрастность этот взгляд утвердился, что произошло не только благодаря ряду благоприятствующих исторических обстоятельств (в первую очередь, развернувшейся борьбе с формализмом, санкционировавшей критику «формалистского» окружения Маяковского, и затем почти полное забвение некоторых участников этого окружения) , но и в силу традиционной для русской культуры иерархии художественных занятий. Внутри этой иерархии художественная литература занимает наиболее почетное место, в то время как рекламировавшаяся лефовцами фотография или эстрада, равно как и литература, ориентированная на газету, располагаются на периферии культурного внимания. Предпринятая лефовцами попытка изменить подобное положение вещей и поставить традиционно игнорируемые литературные жанры и художественные занятия в центр культурных интересов не встретили сочувствия среди современников. Более того, поскольку литературная репутация Маяковского, Асеева и отчасти Третьякова обеспечивала ле-фовским настроениям широкий резонанс, проповедуемая на страницах «Нового ЛЕФа» ориентация провоцировала активное негодование традиционно настроенных критиков, писателей, художников. В дальнейшем, по мере того, как фигура Маяковского постепенно мифологизировалась, мемуаристы косвенно реализовывали свою точку зрения на проповедывавшиеся ЛЕФом идеи. В результате был создан образ одинокого поэта, являвшегося своеобразным партизаном разделяемой ими традиционной идеологии в кругу «примазавшихся посредственностей». Показательны в этом смысле рассуждения Катаева в его книге «Трава забвения» . Известно, что отношения Маяковского с людьми, принадлежащими к кругу Художественного театра, и в том числе с Катаевым, не были особенно дружескими. Более того, имеются сведения, из которых можно заключить, что в этих отношениях присутствовал изрядный элемент взаимной антипатии1ЛГ. Тем не менее в соответствии с уже сложившейся традицией советской мемуаристики Катаев изображает Маяковского в самых светлых тонах. Одновременно образ его товарищей представил богатые возможности для выражения былой антипатии. Так появилась галерея «доморощенных «лефов», невежественных и самонадеянных теоретиков, высасывающих теорию литературы из гимназических учебников старших классов», «монстров», от которых Маяковский «не знал, как избавиться»1 .
Политическая ситуация 30-х гг. привела к тому , что в подобной картине прошлого были заинтересованы не только бывшие лефовские оппоненты, но и сами лефовцы. Акцент на руководящей роли Маяковского делался с тем, чтобы защититься от обвинений в «формализме» и «левых перегибах». В своих наиболее известных статьях о Маяковском - «Маяковский - редактор и организатор» и «ИМО - искусство молодых» 1 - Осип Брик складывает с себя «полномочия» лидера ЛЕ-Фа, передавая их Маяковскому, - фальсификация, которая была с легкостью усвоена в силу описанной выше точки зрения на Маяковского как едва ли не на единственного участника ЛЕФа, достойного внимания.
С этих же позиций бывшие лефовцы пересматри 13
вают и причины распада группы. В данном случае подмена осуществлялась тем легче, что упражнения в риторических объяснениях этого события начались одновременно с ним (ниже мы будем говорить об этом подробнее) . В 30-е гг. акцент смещается в сторону довлевшей Маяковскому необходимости очиститься от «формализма»: «Осенью 1928 года он [Маяковский] распускает Леф, чистя свое литературное содружество от формалистского шлака, от эстетического перерождения своей школы» (Асеев)"""11.
Старшая сестра Маяковского, пожелавшая после смерти брата участвовать в издании его произведений и поссорившаяся на этой почве с Бриками, справедливо сомневавшимися в ее издательской квалификации, также активно содействовала формированию образа одинокого поэта, «задушенного» своим ближайшим окружением. В 1968 году под ее редакцией вышел крайне тенденциозный сборник «Маяковский в воспоминаниях родных и знакомых» .
В этом же направлении работал и крупнейший советсткий маяковед Виктор Перцов, один из бывших участников ЛЕФа. В его трудах мифологизация Маяковского получила наиболее законченное выражение. ЛЕФ же рассматривался как нечто второстепенное и в своей теоретической основе безусловно ошибочное31.
И наконец, весьма серьезные последствия для распространения подобной репутации ЛЕФа имела кампания, проведенная в 1968 г. журналом «Ого 14
нек», в ходе которой были опубликованы статьи, направленные против ближайшего окружения Маяковского . Ее причины и обстоятельства подробно описаны в «Мрачной хронике» В. А. Катаняна 1.
На степени изученности лефовского творчества отразилось также и то обстоятельство, что некоторые из бывших участников ЛЕФа были репрессированы (Сергей Третьяков, Борис Кушнер). Первые упоминания о Третьякове и переиздания его произведений начинают появляться лишь с середины 60-х гг.Х11 В это же время филологам тартусского университета частично удается осуществить задумывавшуюся с конца 50-х гг. публикацию материалов, связанных с историей литературы и литературной науки 20-х гг. Об этом замысле свидетельствует сохранившаяся переписка Бориса Федорова с Ольгой Третьяковой, вдовой писателя"11.
Однако после «оттепели», оживившей интерес к искусству и эстетическим концепциям 20-х гг. , советские ученые редко возвращались к темам, связанным с ЛЕФом {показательно, например, что после публикаций работ Третьякова в 60-х гг. следует пауза почти в три десятилетия5 ).
В постсоветские времена внимание исследователей обратилось на раннее творчество футуристов , что было связано с поиском альтернатив советским художественным традициям. Та же причина предопределила и отсутствие интереса к ЛЕФу. В лефовских лозунгах («социальный заказ», борьба с творческой личностью и художе 15
ственным воображением и проч.} видели зачатки наиболее существенных особенностей советского искусства. Такого рода отношение не способствовало появлению новой исследовательской лите-ратуры .
Наибольшее количество посвященных ЛЕФу работ связаны с поэтическим творчеством его участников , в первую очередь, Маяковского и Пастернака. Для нашей темы важны в особенности те исследования, в которых затрагивается проблема отношений между двумя поэтами и в связи с этим анализируется разница их эстетических и мировоззренческих позиций. Последнее приводит к необходимости анализировать также отдельные аспекты лефовской идеологии, благодаря чему одной из важнейших работ, проливающих свет на историю и особенности теоретической позиции ЛЕФа, стала монография Лазаря Флейшмана «Пастернак в 20-е гг .»XV1. В ней детальному рас-сматрению подвергается «Охранная грамота», ставшая, согласно убедительному анализу исследователя, своеобразным ответом на основные ле-фовские лозунги.
Существенная часть связанных с: нашей темой работ посвящена отдельным участникам Нового ЛЕФа 11. Однако предметом целостного рассмотрения деятельность группы, насколько нам известно, не становилась. Между тем отсутствие необходимых сведений об особенностях позиции ЛЕФа в конце 20-х гг. ограничивает понимание литературно-художественной ситуации этого периода. С другой стороны, составить адекватное представление о творчестве отдельных участников Нового ЛЕФа невозможно, не учитывая общее направление деятельности группы.
Историю Нового ЛЕФа (1927 - 1928) мы предваряем изложением основных событий, последовавших вслед за прекращением выхода журнала «ЛЕФ» (1923 -1925). Таким образом, наша работа служит хронологическим продолжением вышеупомянутых монографий Штефан и Вильберта, охватывающих лефовскую историю вплоть до 1925.
Общая характеристика периода
Проблемы, с которыми сталкивались писатели и художники в 20-е гг., были не только и не столько профессиональными, сколько, по определению Бориса Эйхенбаума, бытовыми. Одну из наиболее характерных особенностей литературной ситуации этого времени он описывал следующим образом: «Литературная борьба потеряла свой прежний специфический характер: не стало прежней чисто литературной полемики, нет отчетливых журнальных объединений, нет резко выраженных литературных школ, нет, наконец, руководящей критики и нет устойчивого читателя. Каждый писатель пишет как будто за себя, а литературные группировки, если они и есть, образуются по каким-то «внелитературным» признакам, - по признакам, которые можно назвать литературно-бытовыми»3 111 .
Прежние формы художественной жизни разрушались или, сохраняясь, ощущались анахронизмом, не соответствующим современной обстановке. В первую очередь это касалось существования многочисленных художественных группировок. По инерции, заданной дореволюционными условиями, они продолжали функционировать, более того их становилось все больше- Однако их дифференциация все меньше зависела от разницы эстетических установок и опиралась, как правило, на чисто бытовые факторы. Иногда это приводило к абсурдным ситуациям. Один из корреспондентов ЧиПа писал по поводу прошедших в предыдущем году 40 выставок, на которых представлены были работы примерно такого же количества художественных групп: «Новые общества стали объединяться на самых неожиданных платформах, в основе которых лежит не столько «идеология и формальные отличия», а гоголевская веревочка». По его словам, существовала группа, объединившаяся по принципу принадлежности к одному и тому же районному отделению милиции 1 . Известный советский критик и искусствовед А. Федоров-Давыдов в 1927 г. заметил: «Течения в искусстве начинают становиться фикцией (... )» Закономерно, что предметом полемических столкновений Кризис в искусстве обсуждался с начала 20-х гг. Впоследствии ситуация воспринималась многими как неуклонно ухудшающаяся. С точки зрения представления о постепенном регрессе, начало 20-х гг. стало казаться «веселым временем». В 1924 г. Борис Эйхенбаум видел перед собой «пустыню (...) современной словесности» 1. Однако в 1927 г. Шкловский уже с ностальгией вспоминал о Серапио-новых братьях, «которые еще выдумывали вещи, но не писали полного собрания своих сочинений»с11/11. Киносъемки начала 20-х гг. был плохи, однако то, что делается «сейчас» бесконечно хужес1у111.
Основная примета кризиса, с точки зрения едва ли не большинства наблюдателей, заключалась в однообразии художественной продукции. Комментируя в 1927 г. распространившееся поветрие так называемого «нового сюжетного реализма» А. Федоров-Давыдов замечает: «Все художники всех направлений стали реалистами, все ищут сюжетности. Реализм как некая вуаль окутывает все, и в сумерках все кошки становятся серыми. (...) правые и левые неотличимы друг от друга и зловеще схожи в одном - понижении мастерства»с1іх. В конце 1928 г. в статье «Есть ли кризис в современной поэзии?» Николай Асеев заявляет, что кризис наблюдается и в поэзии, и в живописи, и в кино, и в театре. Характерный его признак - «отсутствие принципиальных отличий, смазанность и эклектизм творчества» .
Как мы уже видели, на фоне подобного однообразия существование многочисленных группировок вызывало недоумение. Так же дело обстояло и с так называемыми «толстыми журналами». В них печатались одни и те же имена. Это обстоятельство внушало скепсис не только «левым». Существование «толстых журналов» в том виде, какой они имели в это время, было проблематичным и стало предметом обсуждения. Участвуя в специальном опросе, проведенном в конце 1927 г. налитпостовцами, Дм. Четвериков отмечал: «Существующие журналы однотипны, однообразны, как аракчеевские казармы, и никто не будет удивлен, если вторую роту переведут на место третьей (. . .) »clxl. Осип Брик сравнил их с автобусами, которые «набиты незнакомыми друг другу людьми», но в отличие от автобуса у них нет маршрута. Он приходит к выводу, что толстые журналы - это «не журналы, а сброшюрованные листы, явление не литературное, а типограф-ское»с1х11. Виктор Шкловский обосновывал тезис об отсутствии необходимости в толстых журналах ссылкой на их историю. Утверждая, что прежде они, во-первых, обслуживали в основном провинцию, и, во-вторых, были выгодны с точки зрения цензуры, которая относилась к ним довольно мягко , Шкловский замечал: «Провинция сейчас при железных дорогах и радио лучше связана с центром, цензурные условия отпали, и поэтому толстый журнал потерял свое значение». С его точки зрения, будущее принадлежит тонкому иллюстрированному журналус1хііі.
Таким образом, «Новый ЛЕФ» был отнесен к типу журналов, которым принадлежит будущее. При этом сложно усомниться в том, что лефовцы не отказались бы от большего объема, если бы ГИЗ таковой выделил. Однако коль скоро им было предложено 3 листа, они стремились извлечь из этого обстоятельство возможные выгоды, тем более, что проповедуемые ЛЕФом малые формы с легкостью ассимилировали и форму тонкого журнала.
Объем журнала в сочетании с его радикальной ориентацией представлял особый предмет раздражения. В ходе полемики, начатой Олыпевцем, подхваченной Полонским и Лежневым, все три критика самым нелестным образом упоминали о величине журнала («тощий журнальчик», «тощая книжечка», «общипанный ЛЕФ»). Его объем ассоциировался с высказывавшимися на его страницах идеями о приоритетности малых жанров, ощущался как нечто принципиально враждебное и подлежащее осмеянию.
Вторым, и более существенным отличием «Нового ЛЕФа» от толстых журналов должна была быть его тенденциозность. Последнее качество, ощущаемое как насущно необходимое во времена всеобщей стилистической и тематической унификации, в футуристической среде и прежде воспринималось как признак подлинного искусства
в таком случае нередко становились вопросы, далекие от эстетики. Споры между враждующими группировками переводились в область бытовой проблематики, провоцируя при этом использование самых «низменных» аргументов. Так, одним из наиболее популярных обвинений, предъявляемых в это время эстетическому противнику, указывало на его (противника) финансовую нечистоплотность. В качестве примера можно привести диспут «Мы и лефы», который состоялся в апреле 1925 года в Политехническом музее. Судя по заметке, опубликованной в «Вечерней Москве», большая часть диспута ушла на обсуждение того, кто «ухлопал уйму советских денег» АХРР (Ассоциация художников революционной России) или ЛЕФ 1. Враждебный редактор назывался «скупщиком» и отвечал на оскорбление, уличая противников в «жрачестве» (речь идет о полемике ЛЕФа с Полонским, подробности которой будут обсуждаться ниже). Вполне естественно, что впечатление от литературного и художественного процесса у тех, кто в нем в это время участвовал или наблюдал со стороны, нередко совпадало с тем, что сложилось у автора заметки «Мы и Лефы» после посещения вечера в Политехническом музее: «Тупой вечер. Трагикомический . С тяжелым, горьким осадком» и далее: «Кому был нужен этот вечер »ХХ11.
Полемика с Вячеславом Полонским и рапповцами
Одно из первых действий, осуществленных ле-фовцами после того, как стал выходить «Новый ЛЕФ» - вступление в недавно организованный ФОСП (Федерация Объединений Советских Писателей) , которое должно было обеспечить участников группы издательскими и некоторыми бытовыми преимуществами. С этой целью Маяковский составил список участников ЛЕФа, следуя обычной в таких случаях тактике: в списке оказались лица , не только к ЛЕФу не принадлежащие, но и относящиеся к нему прохладно (например, Лидия Гинзбург1ххіх) .
Важной вехой лефовской истории этого периода стал скандал вокруг антилефовских статей, напечатанных в «Известиях» в качестве рецензий на первые номера «Нового ЛЕФа». Автором первой из них и особого внимания к себе не привлекшей стал М(ихаил?) Ольшевец, ставший главным редактором «Нового мира», после того, как Вячеслав Полонский на некоторое время был смещен с этой должности1 . В своей статье под названием «Почему «Леф»?» Ольшевец называет «Новый ЛЕФ» «тощей книжечкой» и отмечает, что журнал был встречен полным молчанием прессы. Характеризуя его содержание, ставит на вид «порочное окружение формальной школы Шкловского». Общий вывод статьи - журнал не оправдывает своего сушествования
Затем, снова в «Известиях», в двух февральских номерах были опубликованы крайне резкие статьи Вячеслава Полонского «Зам:етки журналиста . Леф или Блеф»1ххх11. Выстроить логическую цепочку из тех претензий, которые предъявлялись им ЛЕФу довольно сложно. Статьи эти написаны не столько аналитически, сколько эмоционально. Обращает на себя внимание, что, подобно Ольшевцу он называет «Новый ЛЕФ» «тощим журнальчиком» (можно добавить, что Абрам Лежнев в пятой книге «Красной Нови» за 1927 г. писал об «общипанном» ЛЕФе1ххх1і:і) . Судя по некоторым другим его замечаниям в адрес группы одна из основных пресуппозиций, определявшей взгляды Полонского и его единомышленников на искусство и литературу, заключалась в представлении о неком «большом стиле», к которому необходимо стремится. «Новый ЛЕФ», уже в силу своей принадлежности к не слишком престижному с этой точки зрения разряду «тонких журналов», был далек от искомого идеала. Более того, ориентируясь на «малые жанры», он был ему открыто и сознательно враждебен. Полонский же критиковал включенную в журнал рубрику «текущие дела» , как раз потому что в ней не шла речь о «больших вопросах современности» и «Письма из Парижа» Родченко - за мелкость авторских интересов .
Однако наряду с подобного рода замечаниями, которые могут быть сведены к разнице в эстетических позициях, в статьях Полонского появляются резкости, к подобной разнице несводимые и одновременно характерные для полемического стиля этого времени. Так, во второй статье говорится о том что «Новый ЛЕФ» «производит впечатление прейскуранта или проспекта фирмы, расхваливающей себя до бесчувствия»1 117. В более поздних статьях и выступлениях эта же характеристика выражена еще грубее и отчетливее: «Есть «жрецы» (это плохо) и «жрачи» (тоже) . Жрец создает культ. «Жрач» поступает наоборот. «Храм - говорите? Ничего подобного: лавочка». «Боги, говорите, обжигают? Так вот я и есть бог, гони монету!» «Для вдохновенья? - говорите ! - ер-рунда: работаю на заказ, торгую распивочно»15"". В весьма энергичных и часто откровенно оскорбительных выражениях упоминаются в его работах отдельные участники ЛЕФа. Осип Брик оказывается у него «присяжным холопом» при Маяковском150"1, близкий к Лефу Михаил Ле-видов - «умственным бедняком»15""11.
В книге «Пастернак в 20-е годы» Лазарь Флейшман показал, что «яростный характер его [Полонского] нападок на ЛЕФ» была связана с неустойчивостью и неблагополучием положения Полонского в 2 6-27 году (вскоре он был уволен с поста редактора «Нового мира»)1 5111. Мы хотели бы указать еще одно обстоятельство, повлиявшее на содержание и тон антилефовских выступлений Полонского.
Обстоятельства, задающие модус прочтения лефовских концепций
Объем журнала в сочетании с его радикальной ориентацией представлял особый предмет раздражения. В ходе полемики, начатой Олыпевцем, подхваченной Полонским и Лежневым, все три критика самым нелестным образом упоминали о величине журнала («тощий журнальчик», «тощая книжечка», «общипанный ЛЕФ»). Его объем ассоциировался с высказывавшимися на его страницах идеями о приоритетности малых жанров, ощущался как нечто принципиально враждебное и подлежащее осмеянию.
Вторым, и более существенным отличием «Нового ЛЕФа» от толстых журналов должна была быть его тенденциозность. Последнее качество, ощущаемое как насущно необходимое во времена всеобщей стилистической и тематической унификации, в футуристической среде и прежде воспринималось как признак подлинного искусства
В записях Петра Незнамова сохранилась любо 78 пытная выписка, сделанная им во время работы над статьей «Шестидесятые и семидесятые годы» (период русской истории, внутри которого лефовцы находили образцы художественной и общественной деятельности, аналогичные, как им казалось, их собственной): «Бакунисты из легальной литературы читали только сочинения по истории французской революции и о наших крестьянских бунтах. Но в наши толстые журналы редко кто заглядывал тогда: это считалось почти что предосудительным чтением, чуть ли не доказательством холодного нереволюционного темперамента»с1ху. Записи и статьи Не-знамова обнаруживают в нем верного последователя Брика - обстоятельство, осознаваемое им самим и получившее отражение в уже процитированной нами записи «... мы (Брик)»). Подчеркивания, которые он делал в своих выписках из исторических сочинений , выдают фокус интересов Брика и, стало быть, ЛЕФа в конце 20-х гг. О связи лефовцев с шестидесятниками и народниками мы будем говорить ниже. Здесь же необходимо отметить, что к современным толстым журналам лефовцы относились примерно таким же образом как некогда «бакунисты», а «холодный нереволюционный темперамент» служил исторической модификацией не-тенденциозности.
То, что «Новый ЛЕФ» сознательно строился как открыто тенденциозный журнал, многое объясняет в его содержании. Полемические перегибы приветствовались . От печатавшихся в журнале критико-теоретических текстов не требовалось безупречной системы доказательств. Характерна в этой связи одна из выписок Незнамова к той же работе «Шестидесятые и семидесятые годы»: «В то время умст-венные дарования (мыслители и теоретики. П.Н.) не особенно высоко ценились среди бунтарей, ставивших на первое место моральные, нравственные качества»с1хлг1. О том, что означали «моральные, нравственные качества» в контексте лефовских эстетических концепций, мы будем говорить ниже. В данном же случае, обращают на себя подчеркнутые «умственные дарования», которые «не особенно высоко ценились среди бунтарей». Это отголосок широко распространенного в этом кругу представления о преимуществе действия или высказывания, не безупречного с теоретической точки зрения, но своевременного и выгодного с практической. Так, в одной из статей Сергей Третьяков писал: «Каждому домогательству академиков [ЛЕФ] противопоставил большую цепкость и жизнестойкость» 5"711. В этом смысле упрек Валентина Асмуса в том, что лефовцы, подобно формалистам, равнодушны к фило-софиисЬаґ111, не достигал адресата. Это равнодушие было сознательным и принципиальным. Особенно понятной подобная позиция становится во времена «Нового ЛЕФа», когда на страницах толстых журналов обсуждалась проблема «мировоззрения писателя». Пролетарскому писателю, который в короткий период должен был обзавестись техническими навы-ками, знанием классиков, литературной средой необходимо было, по мнению критиков, стать также обладателем и «цельного мировоззрения» . Тенденция к философскому объяснению литературных проблем была доведена рапповцами до абсурда. Так, Юрий Либединский, употребляя слово «быт», считал необходимым сопроводить его специальным истолкованием: «Я под бытом понимаю сумму воспроизводственных процессов человечества: питание, воспитание детей, семья, брак и т.п.»с1хх1. Увлечение философией стремительно распространялось и приобретало уродливые формы. В контексте поиска «углубленного миросозерцания» становится понятным упрек конструктивиста Корнелия Зелинского в адрес ЛЕФа, который, с его точки зрения, устарел и не слышит, как «силы революции» «переворачивают страницы Гегеля в кабинетах Акаде-мий»с1хх11. Не менее понятна и та сдержанность, с которой относились в ЛЕФе к «умственным дарованиям», работа которых стала ассоциироваться с абстрактными измышлениями в духе приведенного выше пассажа из Либединского. Как мы надеемся показать ниже, лефовские концепции строились с привлечением, в том числе, и философских источников, однако афишировать их присутствие в подобных условиях считалось неуместным (тем более, что некоторые из этих источников в конце 20-х гг. приобрели репутацию политически неблагонадежных) .
Первые симптому будущего интереса к документальному искусству
Позднейший поворот к документальному искусству был отчасти предрешен теми настроениями, с которыми поколение конца 80-х - 90-х гг. вступало в 10-е гг. - начальный период своей активной деятельности. В одном из писем Эйхенбаума к Л. Гуревич (1913 г.) содержится симптоматичное описание его отношения к современной литературной ситуации (характерно, что отношение это представлено не как частное и субъективное, но как разделяемое некоторой группой единомышленников): «Мы так устали от «литературы», что читаем и особенно увлекаемся заведомо нелитературным, не предназначавшимся для печати; мы ищем в письмах той правды, которая ускользает из-под пера сочинителя» .
Оценка современных настроений в письме Эйхенбаума близка к высказанной двумя годами позже Бриком в его первой статье «Хлеба!». Статья представляет собой развернутое сопоставление двух контрастирующих метафор. «Сахарная снедь» символистской поэзии противопоставляется «хлебу» футуристической:
«Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные» . Мы ели пирожные, потому что нам не давали хлеба. И какой только пакостью не кормили нас предприимчивые кондитеры. «Пирожные! Самые обсахаренные , самые свеженькие, тают во рту! Пожа 96 луйте! Снежные буше Блока, вкуснейшие эклеры Бальмонта, не прикажите ли свешать фунтик карамели без начинки «Акмэ» новой фабрики Гумилева бывшего старшего приказчика т. д. В. Брюсов с братом. Фабрика оборудована по последнему слову техники; все машины выписаны из-за границы. Очень рекомендую». И наконец наиновейшее достижение кондитерского искусства «Мороженое из сирени» . (...)
Радуйтесь, кричите громче: у нас опять есть хлеб! Не доверяйте прислуге, пойдите сами, встаньте в очередь и купите книгу Маяковского «Облако в штанах». Бережней разрезайте страницы, чтобы как голодный не теряет ни одной крошки, вы ни одной буквы не потеряли бы из этой книги-хлеба»СС1.
В рамках традиционной символики «хлеб» связан с «жизнью». Символизм, представленный изощренными кулинарными излишествами, рассматривается , таким образом, как явление безжизненное, нереальное.
В процитированном выше письме к Гуревич Эйхенбаум упоминал о «правде, которая ускользает из-под пера сочинителя». Говоря о том, что символисты «кормили пирожными» тех, кто нуждался в «хлебе", Брик лишь уточнял адресат того же упрека. Противостояние художественной жизни предшествующего поколения мыслилось прежде всего как конфликт «лжи / правды» или «безжизненности (нереальности) / жизни (реальности)».
На позиции Брика мы остановимся подробнее, поскольку именно она позднее легла в основание лефовских концепций.
Известно, что до встречи с Маяковским Брик не принимал участия в литературной жизни. Более того, по свидетельству Шкловского, в начале 10-х гг. «Ося Брик (...) литературу презирал»СС11. Причем в отличие от «усталости» Эйхенбаума, в которой затруднительно увидеть что-либо, помимо неудовлетворенности современной литературной ситуацией, «презрение» Брика поддается не только эстетическому, но и социально-психологическому истолкованию.
Единственный из лефовского круга, Брик был сыном состоятельных родителей. Его отец руководил компанией, торговавшей кораллами (до конца 10-х гг. Брик имел возможность финансировать футуристические издания). Положение родителей оставило отпечаток прежде всего на его образе жизни, который более всего напоминал жизненный стиль рантье, проводившего время в занятиях, выбираемых , в первую очередь, по признаку присутствия или отсутствия в них интереса и удовольствия . Именно состояние родителей, по мнению Шкловского, мешало Брику работатьСС111. Его день нередко распределялся между решением шахматных задач в постели, обходом букинистов, походами за подарками «для кого-нибудь», бесконечными чаепитиями^^. На всех его делах лежала печать дилетантизма, отражавшаяся не столько на качестве исполнения, сколько на степени преданности выбранному делу. По словам Якобсона, Брик был человеком, «который мог заниматься сегодня повторами, завтра искусством любви, послезавтра устройством необычайно рационального каталога спекулянтов для Чека»сот. В записях Брика сохранилась фраза, подкрепляющая представление о близости его социального облика к типу рантье: «Я делаю то, что мне нравится. И если мне за это платят, я удивляюсь и благодарю»001"". (В том же духе высказывалась и его сестра: «Ося жил - как счастливчик и умер - так!»)СОТ11 Подобный жизненный стиль плохо совмещался с писанием книг или иной «постоянной» работой, не исключая при этом активной вовлеченности в закулисные дела литературно-художественной политики или возможности работы консультантом в ВЧК. Последний род деятельности был одновременно (при достаточной эмоциональной стойкости и либо лояльном, либо отстраненном отношении к происходящим социальным переменам) не чужд азарта и не отнимал много времени.