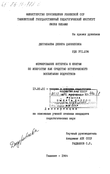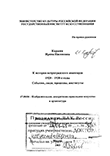Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Расстановка вех.. 29
Основные авторы конструктивистского проекта 31
Глава 2. Элементы конструктивистского проекта 97
Новые сказки 99
Положительный герой 104
Детки-разноцветки ... 131
Глава 3. Производственная книга. Паровоз и другие 143
Шоколадный путь 145
Лирический герой нового типа в литературе победившего класса 150
Прочие чудеса на колесах и без колес 184
Чудо-кухня 202
Заключение 211
Сведения о художниках. 221
Примечания 232
- Основные авторы конструктивистского проекта
- Новые сказки
- Детки-разноцветки
- Лирический герой нового типа в литературе победившего класса
Основные авторы конструктивистского проекта
Необходимо упомянуть также и то, что обращение к текстам вторичных моделирующих систем позволяет очертить более тонкие грани общественного сознания, нежели сугубо исторические источники и документы. Художник часто неожиданно для самого себя говорит о своем времени правдивее и беспощаднее, чем политик или философ. В художественном тексте всегда сквозит отражение менталитета эпохи, и это видно даже в конъюнктурной халтуре. Сообразно природе художественного текста, автор его не столько говорит, сколько проговаривается, то есть в супраинформатив-ных свойствах его послания содержится не просто некая извне заданная идеологическая норма, а реальное содержание его сознания. Реальность эпохи (вообще понятие, определимое лишь в семиотических категориях) просвечивает сквозь воссоздаваемую знаковыми средствами реальность психологическую. В выборе тем и сюжетов, в специфических изгибах формы и в способе организации отдельных составляющих в целостную картину проявляется тот самый дух времени, который, пожалуй, и составляет наиболее любопытный предмет истории.
Рассмотрение художественных текстов для реконструкции ментальных клише раннесоветскои эпохи помимо общих соображений провоцируется и тем особенным устройством советской власти, которое превращало ее в своего рода художника-демиурга5. И проективные задачи нового режима наилучшим образом могли воплощаться в детских книжках.
Детские книги для дошкольников и младших школьников, причем даже не сами книги, а картинки в них, могут показаться не совсем серьезным материалом для реконструкции содержания того послания, которое несли в массы деятели искусства 20-х годов, но тем не менее обращение к ним весьма познавательно и поучительно, ибо помимо художественных факторов следует иметь в виду следующие обстоятельства.
Во-первых, детские книги и соответственно иллюстрации в них были рассчитаны на многотысячную аудиторию, и тем самым их социальное воздействие было значительно более широким, чем текстов так называемого «большого», станкового искусства, которое, несмотря на лозунг «Искусство — в массы», обречено было оставаться в той или иной степени искусством элитарным.
Во-вторых, и это самое существенное, работа для детей имела чрезвычайно важное значение для строителей нового мира, поскольку в этом случае адресат художественного текста подвергался не переделке, а изначальному формированию как в эстетическом, так и во всех социально нагруженных аспектах. Роль художника детской книги (и, разумеется, литератора) во многих отношениях была неизмеримо более весомой, нежели у «взрослого» станковиста. Его воздействие — то, как отзывалось его «слово», — проявлялось не сразу, а через годы и десятилетия, по мере того как входили в активную жизнь его малыши. Как писал Наум Габо, «такое искусство нуждается в новом обществе». И искусство большого «строительного» стиля, осуществляя тотальное формирование общества, культивировало и взращивало собственный боковой побег в виде детских картинок ad usum delfini, с тем чтобы выросшие на молочной пище могли перейти к соответствующей диете впоследствии.
Речь не идет о некоей мине замедленного действия — если уж называть то, что было заложено в культурное сознание народа на первых этапах большого пути миной, то деятелей искусства уместнее назвать бикфордовым шнуром (пожалуй, это будет точнее, чем имевшая хождение формулировка «приводной ремень»). Возгоревшись от искр, возникших от столкновения носившихся в воздухе идей, они (творцы нового мира) сгорали, оставляя после себя родившиеся в дыме и пламени одной шестой мирового пожара символические образы своего времени.
Социальную сверхзадачу, как правило, преобладавшую над собственно эстетическими проблемами, вполне отчетливо различали с самого начала рассматриваемой эпохи. Причем не только деятели крайне левого фланга искусств. Например, известный казанский искусствовед Павел Дуль-ский писал в опубликованной в 1925 году работе: «Современная детская книга и в связи с ней современная иллюстрация должны воспитать в ребенке будущего гражданина, который мог бы чувствовать себя подготовленным к строительству культуры нового мира»6.
Исторически сложилось так, что именно в детской книге 20-х годов происходило формирование новых принципов книжной графики. И здесь ведущие иллюстраторы опирались на поиски авангарда предшествующего десятилетия — на супрематические опыты Малевича и его круга; на первые формальные опыты книгоиздания в издательствах «Союза молодежи», «Первого журнала русских футуристов», «Гилей» или «Журавля» (работали в книге тогда практически все заметные художники от Татлина до Ларионова с Гончаровой и Экстер) с их футуристическими литографированными изданиями (печать с торшона, раскраска акварелью, писание текстов от руки, игра разных шрифтов и др.); увлечение лубком и прочим околонародным примитивом. Именно детская иллюстрация в силу своих прагматических особенностей с наибольшей полнотой вобрала в себя амбивалентную сущность русского авангарда: энтузиазную его устремленность к деп-сихологизированному техницизму и редукцию к простейшим архаическим структурам.
На внешнем, первичном, уровне для художников «левого» толка 20-х годов иллюстрация была разновидностью социального заказа и социального служения, явлением одного рода с социальным служением в других формах. Тот же Дульский проницательно писал по свежим следам:
Новые сказки
«Двум квадратам» Лисицкого нельзя отказать в графической выразительности и в точно найденном соотношении между линейными контурами и цветовыми массами. Композиции страниц сделаны достаточно привлекательно и художественно убедительно. Убедительна победа мощного, цельного, прямоугольного, без излишеств и полутонов красного квадрата над сумятицей тонких, склоняющихся туда-сюда, непонятно как устроенных конструкций серых оттенков. Излишне прямо будет соотнести эти зыбкие и невыразительные образования с гнилой интеллигенцией (в 1920 году такой термин не был еще в ходу), но тем не менее такая ассоциация возникает. Возникает, естественно, у взрослых, знающих, что такое интеллигенция, а не у детей (если считать, что дети все же брались в расчет художником). Но дети, узнав сначала из книжки, что то, что тонко, шатается-склоняется, стоит беспорядочно и не по ранжиру, — это плохое и враждебное, потом не затруднятся оценочно идентифицировать подобное явление в жизни. И наоборот, красный квадрат вызывает совсем другие ассоциации. Мало того что красный цвет символичен — как поется в детской песне, «он ведь с нашим знаменем цвета одного»; красный цвет сообразно законам оптического восприятия является поверхностным цветом в отличие от глубоких — синего, фиолетового, того же черного. Поэтому на досознательном, физиологическом уровне восприятия цвета — преобладание красного над черным, а тем паче его разжиженными серыми тонами — опти ческое накладывание красного сверху ощущается бесспорным и убедительным.
Что же касается формы, то она также выбрана весьма точно. Квадрат — это не какой-то там круг или треугольник — символы гармонии или небесной полноты. Красный квадрат есть воплощение четкой размеренности, действенной силы и крепкой власти. Кстати, можно заметить, что оценочные коннотации слова «квадрат» и понятия «квадратность» содержатся и в самой языковой ткани — характер семантических ассоциаций задают такие, например, сочетания, как «квадратная челюсть», «квадратные плечи» и т.п. Еще более обнаженный социально-психологический смысл слова «квадрат» (square) содержится в английском языке. В его семантическое поле входят следующие оттенки: «рутинно-правильный», «занудный», «дубовый», «филистерский» и т.д., человек же живой, незапрограммированный, действующий непринужденно и творчески, называется unsquare guy. (В свое, еще советское, время Аксенов перевел это как «неквадратный парень», что звучит несколько смешно, хотя вроде бы правильно.) Но вернемся ненадолго к цвету. Лисицкий недаром в предпоследней постройке хитроумной типографикой — размещая отдельно «КРА», под ним «Я» и соединяя их линейками с буквами «СНО» — наглядно иллюстрирует, что где КРАСНО — там и ЯСНО, и наоборот.
В «Супрематическом сказе» Лисицкий в полной мере использовал свой принцип Проуна — конструкции будущего, характерной особенностью которого был отказ от осей, по возможности от вертикалей и горизонталей, динамичность и непривязанность к определенному месту. В дальнейшем такие приемы построения художественной формы будут характерны для передовой графики и соответственно для супрематистски-конструктивистски ориентированной детской иллюстрации 20-х годов.
Работа Лисицкого была произведением несомненных художественных достоинств. В ней с ясностью и четкостью формулы было постулировано то принципиально новое, что будет определять искания советских художников книги в последующие десять лет. Но такой программной ясности и очищения идеи до степени чисто абстрактной модели детская, да и не только детская, книга уже не знала. Иначе и быть не могло: Лисицкий взял слишком круто; несмотря на ошеломляющую простоту, его супрематическая агитация была элитарно изысканна и для массового восприятия не вполне адекватна. Другие художники использовали в дальнейшем отдельные элементы конструктивистской системы без абстрактно-супрематических крайностей, но мир правильных геометрических плоскостей, залитых ровным цветом, мир без полутонов и архитектурных излишеств постепенно становился реальностью в искусстве и общественном сознании.
Лисицкий также заложил основы характерной типогра-фики 1920-х годов— искусства шрифтового конструирования и декоративного оформления книги. Популярнейшим шрифтом того времени стал гротеск, в литерах которого все элементы были равной толщины, без закруглений и засечек. Этот прямоугольный шрифт, не знающий наклонов и колебаний, кудреватых мудреватостей, коих не разбирали лучшие поэты советской эпохи, заполонил тогда все виды акциден-тальной печати. Кроме того, он активно использовался и при наборе основного текста, в том числе и в детских книгах. (Один из показательных примеров конца десятилетия — книга Даниила Хармса «Во-первых и во-вторых» в оформлении В. Татлина.)
Детки-разноцветки
В книжках «Багаж», «Цирк», «Мороженое», «Вчера и сегодня» содержится еще больше, чем в манифестном «Слоненке», плоскостной плакатности и разорванной фрагментарности мира вещей и людей. Яркие, геометрически четкие заливки цветом (литографическая печать) образовывали схематичные фигурки, лишенные среды обитания, то есть окультуренного пространства. Это было манифестацией мировидения, диаметрально противоположного жизнестро-ительной эстетике модерна рубежа веков с его насыщенным до вязкости чувством среды и вовлеченности предмета в пронизанное силовыми линиями тотальных взаимосвязей пространство. Есть свои сугубо текстовые, семиотические, а также психологические резоны, почему на смену теплому, биологизирующему, похвалявшемуся своим мистическим иррационализмом модерну пришел холодный, механистический и декларативно рассудочный (по крайней мере, ин-тенционально) конструктивизм. Этот конструктивизм в принципе не может быть понят вне контекста нивеляторско-паупе-рической борьбы против буржуазного уюта, и тексты Лебедева—Маршака наглядно это качество демонстрируют.
В «Багаже» издевка над старорежимными частновладельческими пережитками выражена на внешнем уровне в многажды повторяемом перечислении: «Диван, чемодан, саквояж, корзинка, картинка, картонка...» В книжке «Вчера и сегодня» старый обывательский «вещизм» и новая социалистическая «вещность» вступают в спор непосредственно. В этом сатирическом диалоге электролампочка спорит со свечкой, печатная машинка — с пером и чернильницей, водопровод— с коромыслом и ведрами. «Замысел поэта и художника можно назвать в известном смысле программным для детской литературы, создаваемой в 1920-х годах», — писал искусствовед Петров в монографии о Лебедеве и был прав39.
В борьбе старого и нового участвуют и цвет (соответственно черный и красный), и линия (точнее, вялые тонкие кривые для старого и сплошные однородные плоскости для нового), и противопоставление хаотичной неорганизованной графики мощным цветовым заливкам. По красным буквам «Сегодня» на обложке энергично маршируют репрезентанты современности — четкие, ярко раскрашенные фигуры электрика, водопроводчика и девушки с пишущей машинкой (таскать последнюю было, вероятно, не легче, чем отбойный молоток, который отнимал у метростроевки галантный Пастернак; не столь галантный Лебедев зачем-то выдал в дорогу пишбарышне орудие производства). Индивидуальная характеристика персонажей отсутствует начисто, фигуры лишены даже лиц и выступают согласно левым маршем. Здесь уместно вспомнить пассаж о Лебедеве и его работе из статьи его сочувственного современника:
Когда уясняешь отношение Лебедева к своей работе, когда наблюдаешь его в мастерской, кажется, что находишься около аппарата, живой машины, которая смотрит на окружающий мир, берет из него нужный ей материал и, перерабатывая, дает в художественном оформлении продукцию столь же жизненную, как и тот мир, из которого она получила свое начало40.
Тот же Петр Нерадовский подметил впервые другой важный аспект поэтики Лебедева — серийность, при которой каждая отдельно взятая композиция теряет свое самоценное значение: «Оторванные, отдельные его рисунки утрачивают то значение, которое они приобретают в массе»41. В отказе единичному и индивидуальному в самоценности, в последовательном отказе от единичного в пользу массового можно видеть типологическое соответствие лебедевской поэтики текста генеральной стратегии авангардно-революционного дискурса на самых разных уровнях. При этом, становясь элементом массы, индивид терял лицо и приобретал несвойственные живому очертания и пластические характеристики. Сохранились свидетельства детей двадцатых годов о «Багаже»:
«Вот так барыня, больше извозчичьей повозки, она не сидит, вылезла как деревянная». «Смотри, ноги оторвались», «Кто рисовал? Как плохо...»42. Глубоко показательно, что в те же годы — вторая половина 20-х — Лебедев создал сотни графических листов в серии «Балерины». На первичном визуальном уровне они ни по технике (тушь, ламповая копоть, кисть), ни по пластическим характеристикам нимало не похожи на плоскостные и геометризированные литографии из детских книжек. Тем не менее можно считать эти два вида его текстов разновидностями единого дискурса конструктивистской поэтики. В балеринах Лебедев нашел вожделенный механицизм. Приведу высказывание апологетического критика, которое достаточно красноречиво, чтобы нуждаться в комментариях:
Тонкий и пластический организм с его подвижным костяком, играющей мускулатурой, способный на быстрые повороты, на упругое сопротивление... он развит, м.б. немного искусственно, но зато выверен и точен в движении, можно быть уверенным в том, что эта совершенная модель скажет о жизни больше, чем всякая другая, потому что в ней меньше всего бесформенного, несделанного, зыблемого случаем43.
Лирический герой нового типа в литературе победившего класса
Разновидность «нэпманской» поэтики середины 20-х представлена в книге «Про девочку Иду и про мишку Мидю»78. В черно-белых рисунках М. Морозовой представлены «изящные» моды, эффектные прически, кокетливые дамы, ухоженные детки и типические фрагменты буржуазных интерьеров. Весьма говорящи и имена персонажей — от Иды до Миди, что составляет разительный контраст к ходовому списку имен положительных советских персонажей. Среди последних явно лидируют Ваня (к уже упоминавшимся можно добавить следующие книги: «Ваня в Китае»79, «Красноармеец Ванюшка»80 и другие), Сидорка, Егорка («Егор-монтер»81), Катюш-ка, Маришка82 и т.п.
Воспитующее описание классово-фольклорных подвигов Ванюшек и Чумичек продолжалось и по мере роста детишек. В книгах для детей чуть постарше на смену лихим и как бы сказочным приключениям малыша приходили как бы реалистические и вполне уже хулиганские выходки подростка. Впрочем, важнее здесь отметить не самое хулиганство, а скорее хулиганские лозунги и подстрекательства — например, в книжке некоего А. Борецкого под совершенно мифологическим названием «Догоним американскую курицу». В ней содержатся заголовки-призывы типа: «Куриным яйцом бросим в лоб Чемберлену», или вполне андрей-платоновс-кие распоряжения: «Каждый пионер и школьник заводит у себя куриный дневник для учета своего куриного хозяйства»83. В других книжках на титул выносились лозунги «Все дети — в производственно-технический поход!» (чем не крестовый поход детей?!), или жуткие по форме и кошмарные по содержанию кличи на обложках типа «Деритесь за политехнизм», или «Мобилизуем на фронт техники пионерские батальоны»84.
В заключение описания образа положительного героя вернемся к его классическому облику. В первой главе при описании основополагающей плоскостно-плакатной поэтики Лебедева уже шла речь о расчлененных и локальных цветовых массах, из которых составлялся визуальный образ персонажа. Такая стилистика использовалась многими наиболее сознательными в конструктивистском отношении художниками. Например, прекрасный образец этого стиля представил Ниссон Шифрин в рисунке для обложки журнала «Йонге Вальд» [«Юный Лес»] (Киев. 1923. № 1). Центральное место в композиции занимает квадратная стилизованная фигура лесоруба. Он высоко занес топор в революционном замахе, а вокруг беспорядочно лежат срубленные стволы. На заднем плане за спиной лесоруба вырастают геометрические громады нового города. Сочетание картинки с названием выглядит ныне чуть ли не иронически, хотя вряд ли таковое могло быть заложено автором. Скорее, он в традициях новой русской культуры полагал, что насадить новый лес можно лишь после того, как вырубишь под корень старый.
Еще один первоклассный образчик подобного стиля можно найти в картинках к книжке «Рынок»85 художницы Евгении Эвенбах. Из однотонных заливок, словно вырезанных из бумаги, с четкими геометрическими углами, построены фигуры без объема и лиц. Многие даны в быстром беге или падении, то есть в динамических наклонах и как бы распадающихся частях тела. Самой красноречивой картинке с изображением бегущего (если условиться, что непадающего) мальчишки соответствует текст: «Эй прохожие, с дороги, // А не то отдавим ноги»86.
Довольно часто, впрочем, в своих плоскостных литографиях художники рисовали лица — линиями изображали глаза и прочие части лица, а также штриховкой передавали светотень, то есть объем. При этом естественные округлости и «неправильная» рукотворность рисунка лица разительно диссонировали с монотонной машинной заливкой всей остальной фигуры персонажа. В этом отношении показательны иллюстрации Георгия Ечеистова к нескольким книгам середины 20-х87. Вполне артикулированно конструктивистские картинки Ечеистова своей уступкою классической штриховой манере в изображении лиц вызывают двойственное впечатление. Эстетическое качество заметно снижается из-за отсутствия стилистической цельности. Художники, последовательно следовавшие конструктивистской стратегии, —такие, как Лебедев или Цехановский, — подобных «слишком человеческих» резерваций не допускали и отказывались от лиц начисто. А в предельных случаях — не только от лиц.
Апофеозом и во всех отношениях предельным выражением конструктивистских принципов изображения нового человека можно считать малозаметную картинку М. Цеханов-ского в книге «Топотун и книжка»88.